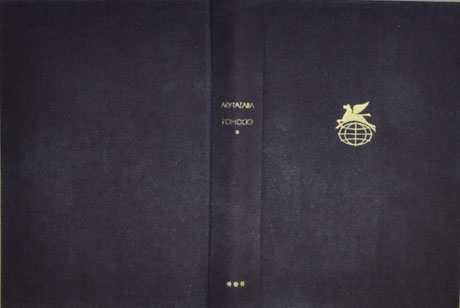
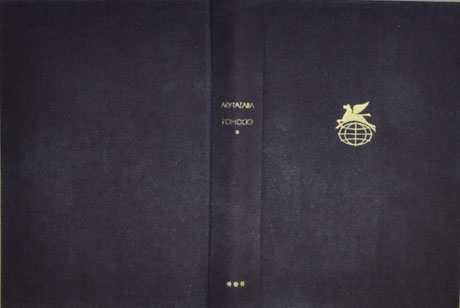
 Библиотека
Библиотека
всемирной литературы
————————————
Серия третья * * *
————————————
Литература XX века
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федоссеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. 3.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1974
И(Яп)
А 44
Вступительная статья А. Стругацкого
Иллюстрации Д. Бисти
| А | 70304-175 028 (01)-74 | подписное |
© Издательство «Художественная литература», 1974 г.

I
Вот какой рассказ появился в октябре 1916 года в японском литературном ежемесячнике «Тюо корон».
Профессор Токийского императорского университета, специалист в области колониальной политики, сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Драматургию» знаменитого шведского писателя Стриндберга. Странно было подумать, что всего каких-нибудь пятьдесят лет назад обо всем этом и мечтать не приходилось — ни об Императорском университете в Токио, ни о колониальной политике, ни о проблемах европейской драматургии. Прогресс налицо. И особенно заметен прогресс в материальной области. Победоносно отгремели пушки отечественных броненосцев в Цусимском проливе; страна покрылась сетью железных дорог; распространяются превентивные средства из рыбьего пузыря... Но вот в области духовной намечается скорее упадок, а профессор лелеял мечту облегчить взаимопонимание между народами Запада и своим народом. Он даже знал, на какой основе должно строиться это взаимопонимание. Бусидо, «путь воина», это специфическое достояние Японии, прославленная система морали и поведения самурайства, сложившаяся шесть веков назад. Конечно, не все в ней гадится для целей профессора, но основное — требование жесткой самодисциплины и добродетельной жизни — явно сближает дух бусидо с духом христианства.
Профессор вперемежку листал Стриндберга и размышлял о судьбах японской культуры, когда ему доложили о приходе посетительницы. В приемной ему представилась почтенная, изящно одетая женщина — мать одного из студентов. Усадив посетительницу за стол и предложив ей чаю, профессор осведомился о здоровье ее сына. К его величайшему смущению, выяснилось, что юноша умер и что гостья пришла передать профессору его последнее «прости». Некоторое время они обменивались малозначитель-
5
ными репликами, причем профессор заметил одно странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении дамы смерть родного сына не отразилась. Глаза ее были сухие. Голос звучал совершенно обыденно. Иногда она даже улыбалась как будто. Профессор поразился, от холодности и спокойствия соотечественницы ему стало не по себе. И тут произошло вот что. Случайно уронив веер, профессор полез за ним под стол и увидел руки гостьи, ело-жонные у нее на коленях. Эти руки дрожали, и тонкие пальцы изо всех сил мяли и комкали носовой платок, словно стремясь изодрать его в клочья. Да, гостья улыбалась только лицом, всем же существом своим она рыдала.
Проводив гостью, профессор вновь уселся в кресло на веранде и взял Стриндберга. Но ему не читалось. Мысли его были полны героическим поведением этой дамы, и он растроганно и с гордостью думал о том, что дух бусидо, дух жестокой и благородной воинской самодисциплины поистине вошел в плоть и кровь японского народа. В эту минуту рассеянный взгляд его упал на раскрытую страницу книги.
«В пору моей молодости, — писал Стриндберг, — много говорили о носовом платке госпожи Хайберг... Это был прием двойной игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»
Профессор растерялся и оскорбился. Оскорбился не за даму, а за свою взлелеянную простодушную схему, в которую так четко укладывалось это происшествие. И ему в голову не пришло, что героическое поведение гостьи могло объясниться причинами, к которым пресловутые понятия военно-феодальной чести не имеют никакого отношения...
Так примерно выглядит откомментированное содержание одного из ранних рассказов Акутагава Рюноскэ «Носовой платок».
Невооруженному глазу заметна брезгливая усмешка автора по поводу мечтаний злополучного профессора сделаться идеологом японской культуры на основе бусидо, этой действительно специфической смеси клановых воинских традиций с плохо переваренным конфуцианством. Еще в последние годы XIX века, сразу после окончания японо-китайской войны, заправилы империи недвусмысленно потребовали от отечественной литературы создания так называемых «комэй-еёсэцу» — «светозарных произведений», проникнутых казенным оптимизмом и прославляющих воинственность я великодушие средневекового и современного самурайства. Толпа бездарных полуграмотных писак бросилась заполнять книжные рынки страны бесконечными вариациями на тему о верности сюзерену и о кровавой мести, о вспоротых животах и о срубленных головах, о поединках на мечах и о лихих штыковых атаках, и в унисон им, только не так грубо и не так прямолинейно, заворковали о величии бусидо, о благотворности бусидо, о назревшей необходимости воскрешения бусидо идеологические дилетанты с профессорских кафедр. В далекой Европе гремели пушки и лились реки крови, каблуки японских патрулей стучали по кривым улочкам взятого
6
у немцев Циндао, империя готовилась к большим колониальный захватам. Не удивительно, что в эти дни думающий и широко эрудированный писатель (а Акутагава, как мы увидим, был именно таким) жестоко осмеял мечтательного либерала, усмотревшего духовное сходство между возрождающимся к жизни кодексом профессиональных убийц и плачевно дискредитировавшим себя христианством.
Но давайте проанализируем рассказ более тщательно. Итак, некий профессор, специалист по колониальной политике и приверженец бусидо, читает Стриндберга и предается размышлениям о способах преодоления духовного застоя в своей стране. Затем он беседует с женщиной, недавно потерявшей сына, и случайно обнаруживает, что ее внешнее спокойствие есть только маска, а на самом деле она мучается безутешным горем. Он приходит в восхищение — не столько от героизма гостьи, сколько от поллого, как ему представляется, соответствия между ее поведением и бездарной умозрительной идеей. По нашему мнению, если бы речь в рассказе шла только об осмеянии идеологического дилетантизма, это было бы вполне достаточно. Ну, а Стриндберг? Для чего автору понадобилось противопоставлять сценический прием госпожи Хайберг поведению гордой матери? Не эря же он так смело ввел в рассказ элемент случайного совпадения: профессор натыкается на пресловутый абзац из Стриндберга чуть ли не сразу после случая с носовым платком. Видимо, дело обстоит не так просто, и у рассказа есть «второе дно», не столь очевидное, как первое, но наверняка не менее важное.
Действительно, концовка рассказа производит странное впечатление. Читатель далеко не сразу осознает, какая проблема всплывает вдруг из нее. Мономан-профессор смутно ощущает что-то неясное, что грозит разрушить безмятежную гармонию его мира. Пытаясь объяснить себе это ощущение, он готов заподозрить Стриндберга в попытке осмеять бусидо. Он даже готов оправдываться: «сценический прием... и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные». И все это мимо цели, но на то он и мономан. Если бы он дал себе труд отвлечься от любимой идеи, он сумел бы понять, что парадокс, с которым столкнул его случай, лежит совсем в другой плоскости понятий и представлений. Он сумел бы увидеть проблему такой, какой поставил ее перед читателем (и перед собой) автор. Проблему соотношения жизни и искусства.
В глазах знатоков театра сценический прием госпожи Хайберг давно уже стал банальностью. Но сотни тысяч, миллионы женщин и до и после госпожи Хайберг при разных обстоятельствах и по разным причинам стискивали зубы, комкали носовые платки, впивались ногтями в ладони, чтобы не вскрикнуть, не разрыдаться, не показать своей боли, и никто никогда не называл это «дурным вкусом». И совершенно неважно, почему они это делали: по врожденной ли гордости или по твердости характера, пусть даже из приверженности кодексу бусидо. В данном случае не в этом дело. Дело в диковинной метаморфозе, которую претерпевает восприятие нами чело-
7
веческого поведения, когда оно переносится из реальной жизни на сцену, на экран или на страницы книг. Какова психологическая природа этой метаморфозы? В чем секрет адекватного перевода с бесконечно разнообразного языка бесконечно разнообразной жизни на язык искусства?
Вот в этом, как нам кажется, и состоит глубинная суть, «второе дно» рассказа «Носовой платок». Это и есть главная его проблема, которую не то что разрешить — просто увидеть не дано профессорам — приверженцам бусидо, и эта проблема всю жизнь терзала странную и мудрую душу японского писателя Акутагава Рюноскэ, покончившего самоубийством в 1927 году в возрасте тридцати шести лет.
II
Он родился в Токио утром 1 марта 1892 года или, по старинному времяисчислению, в час Дракона дня Дракона месяца Дракона, и потому его нарекли Рюноскэ, ибо «смысловой» иероглиф этого имени «рю» означает «дракон».
Когда ему исполнилось девять месяцев, его мать сошла с ума, и младенца, по закону и по обычаю, передали на усыновление и воспитание в бездетную семью старшего брата матери, начальника строительного отдела Токийской префектуры Акутагава Митиаки. Так маленький Рюноскэ утратил фамилию Ниихара и получил фамилию Акутагава, покинул вульгарные кварталы Кёбаси и дом невежественного нувориша из далекой западной провинции и поселился в старинном Ходзё, районе мрачноватых эдоских особняков, единственным сыном коренного столичного жителя, большого ценителя и знатока японской культуры.
В небольшом предисловии не место подробностям детских и юношеских лет писателя. Скажем только, что первоначальную — и весьма основательную— культурную закалку он получает в доме своего приемного отца; что учится он прекрасно и со школьных лет увлекается чтением японской и китайской классики; что в одиннадцать лет он редактирует и оформляет рукописный журнал, который «издает» совместно с одноклассниками, а с четырнадцати лет принимается читать Франса и Ибсена; и что в двадцать лет, учась на литературном отделении так называемой высшей школы, без памяти и без раэбора погружается в чтение европейских поэтов, прозаиков и философов, в том числе Бодлера, Стриндберга и Бергсона.
В 1913 году Акутагава поступил на отделение английской литературы Токийского императорского университета и вскоре взялся за первые опыты в беллетристике. Но прежде чем говорить об этом, следует хотя бы в самых общих чертах представить себе, как был организован литературный мир Японии того времени и в каком состоянии находилась тогда японская литература.
Как это ни странно, в молодой буржуазной Японии, где все, начиная со структуры правительственного аппарата и кончая формой головных
8
уборов железнодорожных носильщиков, дотошно копировалось с европейских образцов, в Японии, напряженно стремившейся сравняться с Западом и в материальном и в духовном плане, организация литературного мира сложилась первоначально в чисто феодальном стиле. Первые мастера новой литературы совершенно уподобились мастерам-ремесленникам, — они объединялись в подобие цехов или кланов, обзаводились подмастерьями и учениками, которых нещадно эксплуатировали, стояли друг за друга стеной и яростно отбивали все попытки посягнуть на их прерогативы. А прерогативы эти были немалые; в частности, все дороги в литературу, то есть в центральные литературные ежемесячники, были в их руках, и проскочить через эти заставы без задержки могли либо только одиночки, имевшие протекцию непосредственно в журналах или располагавшие достаточными средствами, либо студенты университетов, удостоивавшиеся чести быть принятыми в соответствующий цех сразу же после первого произведения. Всем остальным не оставалось ничего иного, кроме как «войти в ворота», то есть идти на выучку и в услужение к литературному шефу.
Но мы не хотим сказать, что такая система имела только отрицательные стороны. Непосредственное шефство маститого писателя над начинающим автором, если отвлечься от феодального антуража, приносило, несомненно, громадную пользу. Не надо забывать, что начинающий стремился «в ворота» того мастера, которого глубоко уважал, перед которым преклонялся. В стране, где не существовала (да и сейчас, кажется, не существует) издательская редактура в нашем смысле этого слова, кисть шефа, смоченная красной тушью, могла сделать и делала много доброго в рукописи, принесенной за пазухой. К тому же такая организация литературы, как рабочая система, продержалась в чистом виде сравнительно недолго, и к тому времени, когда в литературу вошел Акутагава Рюноскэ, она приняла уже гораздо более цивилизованные формы. И когда в 1915 году он, автор всего двух рассказов, с бешено бьющимся сердцем вступил в кабинет своего любимого писателя Нацумэ Сосэки, ему не пришлось, конечно, ни таскать воду, ни бегать в соседнюю лавочку за овощами для кухни.
Тут уместно задаться вопросом: для чего Акутагава пошел в ученики— хотя бы и к такому мастеру, как Нацумэ Сосэки? Да, десятилетие работы Нацумэ в литературе называют «годами Нацумэ». Да, рассказ «Ворота Расёмон» привлек внимание и удостоился похвалы Нацумэ. Но двери в литературу были и без того широко распахнуты перед Акутагава. Он принадлежал к университетскому литературному клану и активно участвовал в его печатном органе «Синейте». Его рассказы «Маска хёттоко» и «Расёмон» были опубликованы в солидном ежемесячнике «Тэйкоку бунга-ку». У него уже складывались, как мы увидим, свои оригинальные взгляды на роль и задачи литературы. И тем не менее он «входит в ворота» Нацумэ Сосэки.
В 1885 году литературовед-англист Цубоути Сёё опубликовал трактат «Сущность романа», во многом определивший характер новой японской
9
литературы. Он призвал писателей отказаться от принципов традиционной японской поэтики с ее стремлением к дерзкой метафоре и острой фабуле, предложил пользоваться исключительно европейской «техникой описания» и сформулировал новый литературный метод «сядзицусюги» («отражать, как есть»). Этот метод предполагал фотографическую точность изображения всего, что фиксирует взгляд писателя, причем в первую голову — изображения человеческих чувств. Казалось бы, Сёё предлагал новой японской литературе именно то, чего ей не хватало: верность действительности. Ведь недаром этот метод был подхвачен с таким восторгом, и недаром его автора почтительно-восторженно назвали «колоколом на рассвете». На самом же деле этот трактат явился скорее спасательным кругом, брошенным японским беллетристам, которые буквально захлебывались в кипучей разноголосице разнообразных и зачастую противоречивых западных влияний. Все, чего западная литературная традиция достигла за столетия эволюционного развития, обрушилось на Японию буквально в одночасье: и романтизм, и сентиментализм, и реализм, и натурализм, и первые декадентские и модернистские ухищрения. Все это надлежало переварить как можно скорее и выбрать или скомпилировать то, что, во-первых, соответствовало бы и было необходимым тогдашнему обществу, а во-вторых, что оказалось бы «под силу» нуворишам от литературы.
Принцип «сядзицусюги» устраивал многих. Воспринят он был с неописуемым простодушием: описывай все, что перед глазами, и не надо заботиться ни о занимательности, ни о сюжете, ни о стилистике, и, уж конечно, не имеет никакого смысла анализировать увиденное, искать его связи с политическим, экономическим, социальным состоянием страны. Отражай, как есть.
Разумеется, лучшие писатели восприняли этот принцип не столь буквально. Роман «Плывущее облако» Фтабатэя «показал изнанку мэйдзийской цивилизации». Ратовал за реализм, пронизанный идеалами, поэт конца века Китамура Тококу. Страшно писала о судьбе японской женщины Хпгути Итиё. В первое десятилетие нового века, когда школьник Акутагава взахлеб зачитывался Франсом и Ибсеном, гневно гремели произведения Току-томи Рока, Симадзаки Тосона, Таямы Катай. Но основная тенденция была уже определена. Метод «сядзицусюги» оформился в японский натурализм, и вскоре тот же Таяма Катай выдвинул принципы «плоскостного» и «неприкрашенного изображения». Смысл этих принципов сводился к декларации: «Мы изгоняем из искусства все развлекательное; изгоняем все, что относится к мастерству; изгоняем все, что относится к идеалам». Принцип жестокой фотографичности логически привел к утверждению, что достоверно писатель может описать только себя самого. Писателям предложили публично раздеться. Так возникла эгобеллетристика, и на страницах журналов и книг предстали вывернутые наизнанку души и постели известных мастеров литературы.
10
Разумеется, имела место и оппозиция. В серую толщу унылых, бессюжетных писаний, начисто лишенных настроений и здравого смысла, сверкающим лезвием вонзилась сатира Нацумэ Сосэки «Ваш покорный слуга кот». Весь богатейший арсенал японской и европейской поэтики, все известные в мировой литературе приемы сатиры, юмора, пародии, гротеска бросил он против застойного болота «плоскостного изображения». И при всем том это был настоящий полновесный реализм, реализм в высшем смысле этого слова, изображение жизни в ее социальных и психологических противоречиях...
Но одна ласточка не делает весны. «Ваш покорный слуга кот» появился в 1905 году, за ним последовало еще несколько повестей и романов Нацумэ. И все. Японская натуральная школа продолжала свое нобедяое шествие, брезгливо сторонясь и «светозарной литературы», и большой общественной проблематики. Молодой Акутагава Рюноскэ с тревогой и недоверием следил за ее развитием. Все это было совсем не то, что он любил в литературе и что хотел сделать в литературе. И он пошел к великому мастеру. Нам кажется, он сделал это потому, что испытывал потребность раз и навсегда перед собой и перед своими коллегами по университетскому клану отмежеваться от натурализма, от «плоскостного изображения», от эгобеллетрпстики. И еще, вероятно, он искал у Нацумэ подтверждения своей правоты. Можно представить себе, как Нацумэ Сосэки, прочитав очередной его рассказ, говорит, одобрительно кивая: «Ты на правильном пути, Акутагава Рюноскэ. Ты прав».
III
В «Кондзяку моногатари» («Стародавние повести»), литературном памятнике конца XI века, есть короткий рассказ о провинциальном воре, который в надежде поживиться пробрался в блестящую столицу и с досады ограбил в воротной башне Расёмон старуху нищенку. В наше время благодаря Акутагава (и успехам японской кинематографии) название Расёмон известно чуть ли не каждому культурному человеку в мире, а началось это, должно быть, с того, что двадцатичетырехлетний студент после долгих раздумий о своей теме в литературе, о своих литературных принцппах в о своем собственном литературном методе пришел приблизительно к таким выводам. Моей темой должна быть бесконечная вселенная человеческого духа, человеческая психология; мои принципы сводятся к тому, что литература есть искусство, литература должна быть искусством, чтобы там ни бубнили всеядные приверженцы простоты и безыскусности, убежденные противники мастерства; мой метод...
Вот тут Акутагава сделал свое первое открытие. Цубоути был, разумеется, прав, когда писал в своей «Сущности романа»: «Главное—описание чувства, потом уже нравов и обычаев... Чувство —это мозг произведения». Это правильно — объектом литературы должна быть психология человека.
11
Правильно и то, что нравы и обычаи имеют второстепенное значение. Но термин «описание» легко влечет за собой, что и показала практика, представление о бездумном, пассивном копировании. Писатель должен быть активен в отношении объекта своей работы. Не описанием чувств должна заниматься литература, утверждал Акутагава, а исследованием, анализом психологии. Но анализ предполагает инструмент. Что может быть инструментом литературного анализа психического мира? Только одно: событие. Подобно тому как крупинка катализатора, брошенная в однородный мертвый раствор, вызывает в этом растворе бурную химическую реакцию, так и событие приводит в движение спящую в обычном состоянии человеческую психику, провоцирует ее на самые разнообразные проявления в поступках, анатомирует ее, выворачивает наизнанку. Событием может быть и вселенская катастрофа, например, война; и личное несчастье, например, неразделенная любовь; и подлая мелочь жизни, например, приобретение новой шинели. Выбор события — это дело автора, выбор зависит от задачи, которую ставит перед собой автор, от личности героя произведения, от множества других факторов и является в конечном счете актом литературного мастерства. Так или примерно так рассуждал Акутагава Рюноскэ и принялся претворять свое открытие в слово.
Он пишет рассказ о человеке, который питал такое отвращение к злу, что готов был скорее умереть с голоду, чем встать на путь преступления. При виде старой нищенки, совершавшей мерзость, его абстрактная ненависть к злу логически перевоплотилась в ненависть к преступнице, а ненависть к преступнице столь же логически вылилась в преступление против нее: он, так ненавидевший зло, ограбил старуху. Старинный анекдот о воре, ограбившем старуху нищенку в воротах Расёмон, явился той самой крупинкой катализатора, которая развернула плоское течение психики честного обывателя в яркий психологический этюд.
Характерно, что Акутагава сразу же демонстративно отказался от авторства в отношении событий. Сюжетные завязки его новелл, рисующих парадоксы и внезапные повороты человеческой психики, восходят к средневековым анекдотам и к эпизодам из военно-феодального эпоса. Он стремился еще и еще раз подчеркнуть, что быт и нравы, время действия и обстановка не играют для его анализа никакой роли. Психология человека, рассуждал Акутагава, не изменилась за все эти века, и он вправе анатомировать ее на фоне сколько угодно гротескных обстоятельств, лишь бы они помогали делу.
Следует сразу сказать, что он переоценил своих литературных оппонентов. Простодушные коллеги ничего не поняли в его методе и принялись наперебой упрекать его в ретроградстве, в стремлении уйти от действительности в прошлое, в болезненном пристрастии к старине. Вначале он презрительно отмалчивался, но в конце концов его заставили объясниться.
«Я беру тему, — писал он, — и решаю воплотить ее в рассказе. Чтобы дать этой теме наиболее сильную художественную выразительность, мне
12
нужно какое-нибудь необычайное событие. Но мне не удается рассказать об этом необычайном событии, — именно потому, что оно необычайное, — так словно оно произошло в сегодняшней, в нашей Японии. Если я все же пишу наперекор всему, не считаясь с тем, что мне это не удается, я, как правило, вызываю у читателя чувство неестественности. Единственное средство избегнуть такого затруднения, это... отнести события в прошлое, рассказать о нем, как о прошедшем давным-давно в старину... В моих рассказах, в которых материал взят из старинных хроник, действие развертывается в далеком прошлом большей частью именно под влиянием этой необходимости. Таким образом, хотя я пишу о старине, к старине как таковой у меня пристрастия нет». (Перевод Н. Фельдман.)
В том обстоятельстве, что Акутагава начал использовать свой метод на материале старинных хроник, можно усмотреть влияние квазиисторических рассказов Франса. Но были у него предшественники и в Японии. Уэда Акинари, выдающийся писатель второй половины XVIII века, писал в предисловии к циклу своих новелл «Луна в тумане»: «Когда читаешь их сочинения (произведения классиков светской литературы Японии и Китая. — А. С.), то видишь, что сочинения эти полны необыкновенных образов, и хоть смехотворны и бессвязны они, но похожи на правду, фраза за фразой текут плавно и увлекают читателя. Настоящее можно узреть в глубокой древности». Как бы то ни было, «необычайные события», описанные в старину, стали в произведениях Акутагавы надежным инструментом для исследования механизмов человеческой психологии.
Особенный интерес представляет в этом отношении рассказ «Бататовая каша». В основу его тоже взят древний анекдот о том, как бедный самурай всю жизнь мечтал «нажраться» бататовой каши и как он ею объелся, когда сильные мира сего потехи ради предоставили ему эту возможность. Но Акутагава построил на этом незамысловатом анекдоте откровенный парафраз «Шинели» Гоголя. Аналог Акакия Акакиевича, самурай в мелких чинах, служит при дворе могущественного феодала. В полном соответствии с общественным положением Акакия Акакиевича он — маленький человек, нищий и до крайности забитый. Как и Акакий Акакиевич, вид он собой являет самый неприглядный, одежды носит самые заношенные и, разумеется, служит для всех окружающих объектом самых грубых насмешек и издевательств. Мало того, словно бы не удовлетворяясь этими общими чертами сходства между своим героем и Акакием Акакиевичем, Акутагава вводит в рассказ абзац, который уже совершенно недвусмысленно указывает читателю на первоисточник. У Гоголя мы читаем: «Только если уж слишком была невыносима шутка... он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек... который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в дру-
13
том виде...» Акутагава пишет: «Лишь когда издевательства переходили все пределы... тогда он странно морщил лицо — то ли от плача, то ли от смеха—и говорил: «Что уж вы, право, нельзя же так...» Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости... Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек... Конечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услыхал голос, говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так...» И с тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стали совсем другой личностью...» Наконец, аналогию завершает масштаб сокровенных желаний героев: Акакий Акакиевич «питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели», а красноносый бедолага-самурай мечтал «нажраться» бататовой каши. На этом сюжетная аналогия заканчивается и начинается эксперимент. Акакий Акакиевич гибнет, потому что невозможно оказалось перенести потерю шинели, вожделенной цели и смысла бытия. Маленький человек вырастает в трагическую фигуру. Ведь не случись несчастья, он прожил бы отпущенные ему дни и во благовремение скончался бы тихо, словно его никогда и не было на свете. А что бы сталось с Акакием Акакиевичем, если бы не отняли у него шинель, а, напротив, подарили бы ему десяток шинелей, сотню шинелей, завалили бы его шинелями? Что сталось бы с гои, грезившим о бататовой каше, если бы поставить перед ним котел этой каши, десять котлов, море? Что происходит в психике маленького человека, когда его маленькие мечты осуществляются с гомерическим избытком? Именно этот эксперимент поставил Акутагава в своем рассказе. Как увидит читатель, бедолага пришел в ужас от обилия вожделенного лакомства. Он едва одолел маленький котелок. Он понял, что никогда в жизни больше в рот не возьмет бататовой каши. Мечта его при столкновении с перспективой полного удовлетворения перешла в панический страх, а страх — в безнадежное сожаление об утраченной мечте. Но в конце концов исчезло и сожаление. Маленькому человеку гораздо проще и легче жить без всяких желаний.
Квазиисторические новеллы о парадоксах психологии («Ворота Ра-сёмон», «Нос», «Бататовая каша») скоро завоевали Акутагава признание читателей и издателей и выдвинули Акутагава в ряды лучших авторов того времени. Нацумэ Сосэки с радостной гордостью говорил о тонком вкусе и неподдельном юморе его произведений. Но сам Акутагава вскоре задумался. Инстинктом большого художника он почувствовал, что с его методом что-то не совсем в порядке —то ли с методом, то ли с применением этого метода. Литературно, слишком литературно. Слишком интеллектуально, слишком от головы. Стремясь разобраться в своих сомнениях, он сделал попытку сформулировать фундаментальную проблему искусства и написал рассказ «Носовой платок». Что же все-таки такое искусство и как оно соотносится с жизнью?
14
IV
В заметках «Об искусстве» Акутагава подчеркнул, что произведение искусства должно быть совершенным, как ничто другое, что совершенство состоит в полном воплощении художественного идеала, в противном же случае служить искусству просто не имеет смысла. Именно это занимало Акутагава в 1919 году, в двадцать восемь лет. К этому времени уже вышли три сборника его рассказов, восторженно встреченных читателями. Он был уже женат и служил преподавателем в военно-морской механической школе. Он стал сотрудником крупной газеты «Осака май нити сим-бун» (оклад пятьдесят иен в месяц, гонорары отдельно, право печататься в любом журнале).
А с северо-запада, из гигантской страны, где «коммунисты расстреляли императора и семь русских гэнро», тянули огненные сквозняки невиданных событий, разносящие семена революции; по всей Японии чернели пепелища на месте магазинов, складов и особняков крупных спекулянтов рисом, спаленных в бешеной вспышке «рисовых бунтов»; в Токио бастовали железнодорожники, печатники, рабочие военных арсеналов, учителя, почтовые служащие; банды фашиствующих молодчиков из «ронинкай» («общество ронинов») нападали на рабочие собрания и демонстрации, штрейкбрехерствовали, громили помещения профсоюзов; в Корее императорская военщина злобно затаптывала пламя всенародного восстания; в Приморье и в Восточной Сибири японские и американские солдаты с помощью белогвардейских палачей жестоко расправлялись с советским населением.
Акутагава был далек от всего этого. Войны, революции, стихийные бедствия казались ему чем-то преходящим, не заслуживающим внимания художника. В лучшем случае они могли служить событиями, приводящими в движение скрытые механизмы человеческой души. Единственная, неповторимая, значимая реальность жизни — это искусство, отражающее — нет, не отражающее, а исследующее эти механизмы. «Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера», — провозгласил он. Во всяком случае, жизнь, не связанная со служением искусству.
Во всей вселенной, считал он тогда, есть только одно дело, которое заполняет жизнь до краев, не оставляя места ни для сожалений, ни для разочарований. Это дело — служение искусству. Искусство приносит худояшику высшие радости, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Художнику могут быть свойственны обыкновенные человеческие слабости, в своей обыденной жизни художник может пребывать в зависимости от сильных мира сего, невежественная чернь может смеяться над художником или страшиться его — все это не имеет к служению искусству никакого отношения: мнение черни, полагал он, ничего не значит, духом художник всегда неизмеримо выше самого своего могущественного
15
властелина, и если человеческие слабости губят художника, так это не вина
его, а беда.В июле 1918 года в газете «Осака майнити» была закончена публикация одной из самых блестящих новелл Акутагава — «Муки ада».
Есихидэ, придворный художник его светлости, владетельного князя, единовластного господина над жизнью и смертью своих слуг и вилланов, на всем белом свете любил только искусство и свою юную дочку. Он был великим мастером, познавшим все тайны красоты и уродства и умевшим воплотить в красках какую угодно радость и какую угодно тоску, и еще он был отвратительным желчным и неуживчивым старикашкой. Наконец, он имел недостаток, совершенно несвойственный большинству художников XX века: он не умел изображать того, чего никогда не видел хотя бы во сне. И вот однажды его светлость повелел Ёсихидэ расписать ширмы изображением мук ада. Вначале работа Ёсихидэ продвигалась успешно: адское пламя он видел во время большого пожара, корчащихся в муках грешников он наблюдал, истязая своих учеников, адские слуги в китайских одеждах и с бычьими и конскими харями неоднократно являлись ему в бреду. Но по его замыслу в центре картины должна была быть охваченная огнем карета с погибающей в ней молодой придворной дамой. Такого мастеру никогда еще не приходилось видеть, и он почтительнейше поверг к стопам его светлости просьбу... Его светлость, пожелав проучить злобного старика, который ради своей картины готов был предать мучительной смерти безвинную женщину, повелел сжечь на глазах у Ёсихидэ карету с его единственной и любимой дочерью. Все было выполнено по повелению. Ёсихидэ не бросился в пламя, как ожидал того его светлость. Человек был ввергнут в огненную пучину ада, а погубивший его художник торжествовал. Закончив свой шедевр, Ёсихидэ удавился.
«Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера». Что стоят человеческие жизни в сравнении с шедевром! Трижды прав был Ёсихидэ, ибо только искусство приносит художнику высшую радость, окупает любые жертвы, оправдывает любые преступления. Целью жизни может быть только искусство, в конечном счете оно является и целью существования рода человеческого, а все остальное — борения страстей, социальные катаклизмы, тяжкий труд крестьянина, хитрости политикана, технология, наука — имеет значение лишь в той мере, в какой может способствовать или препятствовать созданию шедевров.
Это было второе открытие Акутагава Рюноскэ, но оно обрадовало его далеко не так сильно, как первое.
V
Акутагава Рюноскэ не стоял на бастионах осажденного города, как Лев Толстой; не поднимал голос в защиту справедливости, как Эмиль Золя; не сражался за революцию, как Ярослав Гашек. Он вел размеренную и до-
16
вольно бестолковую жизнь японского литературного мэтра: по обусловленным дням принимал в своем кабинете «Тёкодо» («Храм чистой реки») литературную молодежь; посещал многочисленные банкеты; коллекционировал старинные картины и антиквариат; ссорился с издателями из-за гонораров; совершал лекционные поездки по стране; редактировал хрестоматийные сборники. В 1921 году он в первый и последний раз в жизни побывал за границей — по заданию редакции «Осака майнити» пропутешествовал по Китаю и по Корее. Великое землетрясение 1923 года, опустошившее пять префектур, в том числе и столичную, не произвело на него видимого впечатления: во всеуслышание он скорбел только о том, что в чудовищных пожарах погибло много бесценных произведений искусства...
Что еще? Как и многие другие литературные мэтры, он был неважным семьянином, хотя родил трех сыновей. Страдал от нервного истощения, от каких-то болезней желудочно-кишечного тракта, от ослабления сердечной деятельности и лечился на курорте Ютака.
И он непрерывно, бешено работал.
В первой половине 20-х годов «натуральная школа» Японии покатилась под гору. В литературную жизнь страны ворвался свирепый ветер коммерции. Нома Сэйдзи, основатель и владетель издательского концерна «Коданся», «журнальный король Японии», как восторженно назвал его другой крупнейший издатель, должно быть, первым понял, как надо разговаривать с литературной публикой. Теперь уже не издатель униженно просил у маститого мастера «все равно что, по вашему усмотрению», а маститые литераторы толпились в прихожей издателя в трепетном ожидании приема. Издатель диктовал свою волю. Издатель определял, что нужно писать и чего писать не следует. Издатель платил. И начался разгром.
Началась расплата за десятилетнее господство серости и безыдейности. Вчерашние поборники и беззаветные защитники вечных и незыблемых принципов упали на колени перед золотым тельцом. Сочинители эгобеллетристики принялись спешно учиться писать детективы и приключенческие романы. Специалисты по публичному самораздеванию штудировали европейскую и американскую бульварную макулатуру. Крупнейшие писатели, в том числе старые друзья Акутагава, организовывали по примеру Дюма-отца литературные фабрики, на которых нищие студенты за гроши сочиняли для них сюжеты и писали черновики. Покончил с собой один из самых талантливых современников Акутагава, замечательный прозаик и драматург Арисима Такэо.
В этом хаосе дешевых соблазнов, трескучей пустопорожней болтовни, измен высоким идеалам Акутагава Рюноскэ работал как одержимый. Вероятно, из всех адептов «большой литературы» не склонил головы только он один. Впрочем, справедливости ради следует сказать: издатели отлично понимали,. что помыкать им нет никакой выгоды, — громадный неиссякаемый талант все время держал его в фокусе читательского внимания. Но сам-то он не находил покоя. Поиск, поиск, поиск — вот что составляло
17
суть его деятельности. Одно дело — открыть и усвоить некий принцип. Другое дело — претворить его в жизнь, в слово. И мысль писателя судорожно билась в недрах неповоротной груды фактов мировой культуры, стремясь нащупать в этом бесконечном разнообразии нечто главное, единственное, незаменимое, некий философский камень, который чудесным образом раз и навсегда решит для него все мучившие его проблемы. Он понимал, что никакие теоретические построения не удовлетворят его, что один лишь опыт может привести его к правильному решению, и писал рассказ за рассказом, эссе за эссе, танку за танкой. Его коллеги ныли, публично жалуясь, что писать больше не о чем, а он едва успевал переводить дух, — мысли и чувства лились с кисти на бумагу, облекаясь в формы то простые и даже наивные, то в странные и причудливые, порой фантастические. Пожалуй, ни один писатель не может похвастать (да и стоит ли этим хвастать?) такой жанровой и тематической мозаикой, какую являло собой творчество Акутагава Рюноскэ.
Рассмотрим для примера литературную продукцию Акутагава с декабря 1921 по август 1922 года.
«В чаще». Поразительное литературное произведение, совершенно уникальное в истории литературы, поднявшее откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня.
«Генерал». Простой и суровый рассказ, раскрывающий облик профессионального вояки-фанатика в четырех очень точно подобранных аспектах: генерал и солдаты, генерал и враги, генерал и искусство, генерал и новое поколение.
«Усмешка богов». Рассказ, который сделал бы честь любой антологии современной научной фантастики.
«Вагонетка». Реалистическая новелла о детстве, лиричная и немного грустная, как и все произведения такого рода.
«Повесть об отплате за добро». Снова о парадоксах человеческой психологии и снова на материале средневековья.
«Святой». Фантастическая притча.
«Сад». История гибели старинной семьи, пришедшей в упадок после переворота Мэйдзи. И в теме и в настроении явственно ощущается могучее влияние Чехова.
«Барышня Рокуномия». Рассказ, развивающий ту же тему. Вообще Акутагава очень занимали картины угасания последних представителей погибших цивилизаций. Впоследствии он еще не раз обратится к этой теме.
«Чистота о-Томи». Типичный исторический рассказ без всякого подтекста, рисующий эпизод из гражданской войны во время переворота Мэйдзи.
«О-Гин». Мастерски написанная новелла о гонениях на христиан в Японии XVII века. «Его «христианские» рассказы неизменно представляют собой соединение иронии и восхищения — иронии, направленной на объек-
18
тивную сторону религии, и восхищения субъективным миром верующего» (Н. Фельдман).
«Три сокровища». Нарочито наивная и простодушная пьеса-притча, явно стилизованная под средневековый народный театр, да еще европейский...
К этому списку можно было бы добавить повесть «Ересь», еще несколько рассказов, сборник маленьких эссе-дзуйхицу, стихи, но достаточно и того, что помещено в настоящем сборнике. Фантастика и реализм, средневековье и современность, политика и история, проза и драматургия, откровенный смех и тихая грусть, литературная простота и изощренная стилизация... увлеченное следование Чехову и смелая ломка замысла Броу-нинга, — и все это в течение одного года, в стремительном темпе, все это соседствует, переплетается, перекрывает одно другое. Акутагава был мастером-виртуозом, он с невероятной точностью находил или создавал сюжеты, наиболее подходящие для претворения в литературу его замыслов, облекал их в наиболее подходящую форму, не зная и не желая знать при этом никаких запретов и литературных табу.
Он писал много и разнообразно; он пользовался громадным успехом. Сборники его рассказов выходили один за другим и быстро раскупались. В апреле 1925 года его томом открылась многотомная серия «Собрания современных произведений». Разумеется, его критиковали, его поучали, на него клеветали — так всегда было, есть и будет с талантливыми творцами, но все это имело мало отношения к тому, что его мучило. Оказывается, найти и сформулировать принцип много легче, чем выяснить его пригодность на практике. Громадный литературный опыт самого Акутагава был совершенно безразличен к этому принципу, а в мировоззренческом плане идея примата искусства над жизнью оборачивалась какой-то странной и неприятной стороной, возбуждая в душе и сознании сотни тысяч мучительных «зачем» и «почему». Да, искусство есть, несомненно, процесс отражения действительности в образах, причем понятие «отражение» никак не может быть сведено к отражению в плоском зеркале, понятие «действительность» должно, в зависимости от целей, которые ставит перед собой художник, включать в себя и его внутренний мир, а понятие «образ» существенно зависит от специфики данного вида искусства. Это вытекало из опыта культуры всех времен и народов, это четко подтвердилось опытом Акутагава. Но этого, оказывается, было мало.
Акутагава был слишком большим художником, чтобы не быть диалектиком, хотя бы и интуитивным. «Принцип «искусство выше всего», — объявил наконец он, — по крайней мере, в литературном творчестве — этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту». И дальше: «Исстари особенно рьяно провозглашали «искусство выше всего» большей частью кастраты от искусства». Философский камень оказался не там, где его с такой бешеной энергией искал Акутагава. Не в сказочно прекрасном дворце человеческой культуры, а в грубом и монолитном фундаменте, на котором этот дворец
19
был воздвигнут. Элементарная логика, азы диалектики. Искусство не может иметь бытия само по себе, как не может иметь бытия один сам по себе полюс магнита. Искусство существует лишь постольку, поскольку существует потребитель искусства. Между искусством и его потребителем должна быть прочная функциональная связь, выходящая далеко за рамки отношений типа «писатель пописывает, читатель почитывает». Некая форма мощного взаимодействия. Если отбросить в общем-то банальную и снобистскую в самом дурном смысле этого слова мысль о том, что потребителями искусства являются околокультурные недоучки и образованная, располагающая досугом элита, и принять, что потребителем искусства должен быть народ, то исчезают все «зачем» и «почему», и на месте хаоса возникает стройная система: народ из чрева своего порождает искусство, а искусство, в свою очередь, оплодотворяет лоно народа.
Так или примерно так рассуждал Акутагава Рюноскэ. Так он сделал свое третье открытие.
Но было уже поздно.
VI
На далеком, вдруг придвинувшемся вплотную северо-западе гигантская страна принялась за непомерную работу по преобразованию мира, выкорчевывая с корнем вековое невежество, изнемогая от разрухи, сквозь голод и холод, сквозь толщи предрассудков и заблуждений пробиваясь к фантастическому будущему. В Китае бушевала революция, возглавляемая Сунь Ят-сеном, огромные народные массы поднимались против засилья иноземцев и собственных генералов-милитаристов, национально-революционные войска штурмовали города Северного Китая, занятые маньчжурским диктатором, ставленником японской военщины Чжан Цзо-лином. В Японии правительство, напуганное стремительным ростом социалистических настроений среди рабочих, издало закон «об опасных мыслях»; и одновременно — рост мощи и международного авторитета Советского государства вынудил правительство восстановить дипломатические и торговые отношения с Советским Союзом и вывести войска с Северного Сахалина; и тут же — глава правительства генерал Танака всеподданнейше поверг к стопам императора секретный меморандум, из которого следовало, что для Японии существует необходимость «вновь скрестить мечи с Россией на полях Южной Маньчжурии»...
Акутагава не дожил до продолжения. Все это было впереди — «мукденский инцидент» и Антикоминтерновский пакт, Пирл-Харбор и битва на Волге, лагеря уничтожения, «отряды» генерала Исии и атомный гриб над Хиросимой. Но кровавые отблески грядущих потрясений уже дрожали на лице планеты, и он, утонченный, эрудированный и глубоко невежественный в политике художник, с тревогой вглядывался в них, пытаясь понять, что они предвещают. Громы исполинских классовых столкновений дошли
20
наконец до его сознания, и каким же маленьким, каким ничтожным показался он себе со своими метаниями и поисками в горних высях чистого искусства! Он уже знал, что своим третьим и последним открытием вынес приговор самому себе прежнему, и мечтал только удержаться на ногах. Он писал: «Шекспир, Гете, Тикамацу Мондзаэмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр». Он заклинал себя: «Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах». Он утверждал, убеждая себя: «Конечно, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева — частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне».
Он чувствовал себя все хуже и хуже. Сказывались годы напряженной работы, мучительные болезни, вечный ужас перед сумасшествием, неотвратимо, как ему казалось, унаследованным от матери. Но главным все-таки было другое. Страх перед одиночеством с необычайной силой охватил его. Он понял, что висит в пустоте. Недавние друзья, превратившиеся в благополучных литературных деляг, претили ему. Возможность для себя служить государству, с его империализмом и откровенной полицейской сущностью, он с ужасом отвергал. Всю свою жизнь он любил только искусство и поклонялся только искусству. Оставался народ, истинный источник и единственный потребитель искусства. Акутагава провозгласил: «Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Но это не было знанием, вошедшим в его плоть и кровь, это просто логически вытекало из его новых представлений. Он объявил: «Правота социализма не подлежит дискуссии. Социализм — просто неизбежность». Но он плохо разбирался в социализме, социализм лишь ассоциировался у него с Россией, перед гением которой он преклонялся, а вообще-то к социалистам он готов был причислить и Чаплина. Он сказал о себе: «Я... по характеру — романтик, по мировоззрению — реалист, по политическим убеждениям — коммунист». И здесь он вряд ли отчетливо представлял себе то, о чем говорил.
Провозгласив неразрывную связь между народом и искусством, он парадоксально не верил, что его работа, работа мастера-виртуоза, представляет для народа какую-либо ценность. По существу, он просто не верил в народ. В лучшем случае он был способен умиляться. И он был убежден, что ему, эстету и индивидуалисту, дорога к народу закрыта. Ясно для него было одно: действительность являет собой ад, в котором хорошо себя может чувствовать лишь «избранное меньшинство» — другое название для идиотов и негодяев. Для него же, Акутагава Рюноскэ, остается только ад одиночества.
21
Пора было разобраться в этой душевной сумятице, свести счеты с самим собой и с тем, что он любил больше жизни. И он написал свои изумительные «Диалоги во тьме», своеобразнейшую самоисповедь, представленную в виде бесед-диспутов с Совестью, Искусством и Вдохновением.
Поединок с Совестью — ангелом, который на заре мира боролся с Иаковом, то есть поединок с богом — странным образом напоминает игру в поддавки. Акутагава кругом виноват, ему нечего противопоставить своей Совести, кроме изощренной казуистики и жалобно-растерянного «как все, так и я», и он отступает по всей линии. Диспут кончается страшно: Совесть оставляет художника страдать в аду, который он сам для себя создал. Далее следует поистине гениальпый поворот. В споре с Искусством Акутагава выступает с позиций своей утраченной совести. Искусство всеми мерами пытается вернуть ему душевное спокойствие, привести его к миру с самим собой, но тщетно. Оно пытается доказать ему, что с совестью у него все в порядке, ведь он так страдает. Но для страдания не обязательно иметь совесть. «У меня есть только нервы». Искусство убеждает его, что он во всех своих чувствах, мыслях, делах был всегда прав. «Ты поэт, художник, тебе все дозволено». — «Я поэт, — соглашается Акутагава. — Я художник. Но я и член общества...» В его глазах возлюбленное искусство становится демоном великого соблазна. «Ты пес, — говорит он. — Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту в облике пса». Утешить оно больше не может. И оно тоже оставляет его страдать.
Ушла совесть, перестало давать радость искусство. Но осталась еще могучая сила, которая, подобно рентгеновским лучам, проникает сквозь любые преграды, является непрошеной, завладевает художником без остатка. Эта сила — Вдохновение. Восставать против нее бесполезно. Она как дамоклов меч висит над головой Акутагава и только и ждет момента, когда он возьмет в руку перо. Может быть, ему, утратившему совесть и радость творчества, возложившему на голые плечи бремя целой жизни, следует умереть? Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче корнями в землю! Стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради своих детей.
Но он уже чувствовал, что ему не устоять. Безобразные призраки обступали его со всех сторон, глумились, угрожали, мешали видеть. Давно умершая дочь сумасшедшего, которую он когда-то ласкал; обезображенный труп мужа сестры, этого незадачливого жулика, покончившего самоубийством; невнятные голоса по телефону и странные взгляды случайного прохожего. Он терял ориентировку — откуда, из каких щелей, из какой преисподней выползала на него эта мерзость? Из темной пропасти ошибок, каким представлялось ему теперь собственное прошлое? Из опостылевшей до омерзения суеты, в которой тянулись теперь его унылые дни? Из Африки его духа — больного, воспаленного, расстроенного воображения? Он еще лелеял мечту написать роман, героем которого должен был стать
22
сам японский народ с мифических времен до его дней, но он не видел этого героя, его заслоняли свирепые полководцы в рогатых шлемах и с окровавленными мечами, тихие и мудрые философы, посылавшие в мир бессмертные поучения из тиши отшельнических убежищ, величайшие художники, чьи творения потрясали души людей много поколений спустя...
Но он продолжал работать. Впервые в жизни он взял объектом своего анализа не личность, а общество в целом. Не желая связывать себя конкретными деталями быта, он перенес действие своего нового произведения в фантастическую страну. «Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Более того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя». Так, в мартовской книжке ежемесячника «Кайдзо» в 1927 году появилась на свет сатирическая утопия «В стране водяных» («Каппа») — блестящий гротеск, разительная пародия на буржуазную Японию... и страшная карикатура на самого автора, плоть от плоти, кровь от крови этой Японии, ее порождение и ее жертва. Некуда было ему уйти ни от своего прошлого, ни от настоящего, ни от себя.
В предчувствии неминуемой и близкой гибели он попытался освободиться от бремени «целой жизни», перенеся ее на бумагу. Возможно, он видел в этом последнюю соломинку, и решение приняться за такую работу было продиктовано полуосознанным стремлением «сублимироваться», навеянным причудливыми представлениями о методике фрейдовского психоанализа. Досконально, стараясь не упустить ни единой подробности, он описал свои действия и ощущения в течение нескольких дней во время одной из поездок в Токио, рассказал о страхе перед подступающим безумием, о своем отвращении к людям и о себе, о невыразимой муке повседневной жизни. «Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?» — в отчаянии воскликнул он, заканчивая рассказ, и сейчас же начал новую и последнюю повесть, в которой изложил историю своей жизни — нет, не жизни даже, а своего внутреннего ада, своего поражения. Эти два произведения — «Зубчатые колеса» и «Жизнь идиота» — можно, пожалуй, назвать кульминацией творчества Акутагава Рюноскэ. И кульминацией всей довоенной литературы Японии. В них сосредоточилось все богатство чувств и мысли замечательного писателя, все его огромное мастерство, и вместе с тем в них, как в капле тяжелой и живой ртути, отразилась безысходность и безнадежность положения, в которое загнала себя культура страны накануне самых страшных испытаний, какие когда-либо выпадали на ее долю.
Он подарил миру еще два шедевра. Но освободиться ему не удалось. Сын сумасшедшей и торговца из Ямагути, писатель Акутагава Рюноскэ покончил жизнь самоубийством на рассвете 4 июля 1927 года в возрасте тридцати шести лет, приняв смертельную дозу веронала.
23
* * *
Может быть, он ушел из жизни потому, что изнемог в борьбе с безумием.
Может быть, он перестал жить потому, что его обнаженная совесть не в силах была больше терпеть постоянное соприкосновение с кровавой пошлостью буржуазной действительности.
А может быть, сыграло тут свою роль и то обстоятельство, что свои открытия Акутагава Рюноскэ сделал не в том порядке.
Творческий прием, открытый им, в соединении с громадным литературным даром принес ему мировую славу. Его читают на всех континентах, причем круг его читателей непрерывно увеличивается. Большим успехом пользуется он и у читателей в Советском Союзе. Литературоведы и критики тщательно исследуют его творчество, а в Японии ежегодно один из молодых писателей получает премию его имени.
А. СТРУГАЦКИЙ
Это случилось однажды под вечер. Некий слуга пережидал дождь под воротами Расёмон.
Под широкими воротами, кроме него, не было никого. Только на толстом круглом столбе, с которого кое-где облупился красный лак, сидел сверчок. Поскольку ворота Расёмон стоят на людной улице Судзаку, здесь могли бы пережидать дождь несколько женщин и молодых людей в итимэгаса и момиэбоси. Тем не менее, кроме слуги, не было никого.
Объяснялось это тем, что в течение последних двух-трех лет на Кпото одно за другим обрушивались бедствия — то землетрясение, то ураган, то пожар, то голод. Вот столица и запустела необычайно. Как рассказывают старинные летописи, дошло до того, что стали ломать статуи будд и священную утварь и, свалив в кучу на краю дороги лакированное, покрытое позолотой дерево, продавали его на дрова. Так обстояли дела в столице; поэтому о поддержании ворот Расёмон, разумеется, никто больше не заботился. И, пользуясь их заброшенностью, здесь жили лисицы и барсуки. Жили воры. Наконец, повелось даже приносить и бросать сюда неприбранные трупы. И когда солнце скрывалось, здесь делалось как-то жутко, и никто не осмеливался подходить к воротам близко.
Зато откуда-то собиралось несчетное множество ворон. Днем они с карканьем описывали круги над высоко загнутыми концами конька кровли. Под вечер, когда небо над воротами алело зарей, птицы выделялись на нем четко, точно рассыпанные зерна кунжута. Вороны, разумеется, прилетали клевать трупы в верхнем ярусе ворот. Впрочем, на этот раз, должно быть из-за позднего часа, ни одной не было видно. Только на полуобрушившихся каменных ступенях, в трещинах которых проросла высокая трава, кое-где белел высохший вороний помет. Слуга в застиранной си-
27
ней одежде, усевшись на самой верхней, седьмой, ступеньке, то и дело потрагивал рукой чирей, выскочивший на правой щеке, и рассеянно смотрел на дождь.
Автор написал выше: «Слуга пережидал дождь». Но если бы даже дождь и перестал, слуге, собственно, некуда было идти. Будь то обычное время, он, разумеется, должен был бы вернуться к хозяину. Однако этот хозяин несколько дней назад уволил его. Как уже говорилось, в то время Киото запустел необычайно. И то, что слугу уволил хозяин, у которого он прослужил много лет, было просто частным проявлением общего запустения. Поэтому, может быть, более уместно было бы сказать не «слуга пережидал дождь», а «слуга, загнанный дождем под крышу ворот, сидел как потерянный, не зная, куда деться». К тому же и погода немало способствовала подавленности этого хэйанского слуги. Не видно было и признака, чтобы дождь, ливший с конца часа Обезьяны, наконец перестал. И вот слуга, снова и снова перебирая бессвязные мысли о том, как бы ему, махнув на все рукой, прожить хоть завтрашний день, — другими словами, как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, — не слушая, слышал шум дождя, падавшего на улицу Судваку.
Дождь, окутывая ворота, надвигался издалека с протяжным шуршаньем. Сумерки опускали небо все ниже, и, если взглянуть вверх, казалось, что кровля ворот своим черепичным краем подпирает тяжелые темные тучи.
Для того чтобы как-нибудь уладить то, что никак не ладилось, разбираться в средствах не приходилось. Если разбираться, то оставалось, в сущности, одно — умереть от голода под забором или на улице. И потом труп принесут сюда, на верхний ярус ворот, и бросят, как собаку. Если же не разбираться... мысли слуги уже много раз, пройдя по этому пути, упирались в одно и то же. Но это «если» в конце концов по-прежнему так и оставалось «если». Признавая возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если»: хочешь не хочешь, остается одно — стать вором. Слуга громко чихнул и устало поднялся. В Киото в час вечерней прохлады было так холодно, что мечталось о печке. Ветер вместе с темнотой свободно гулял между столбами ворот. Сверчок, сидевший на красном лакированном столбе, уже куда-то скрылся.
Втянув шею и приподняв плечи в синем кимоно, надетом поверх желтой нательной безрукавки, слуга оглянулся кругом: он подумал, что если бы здесь нашлось место, где можно было бы спокойно выспаться, укрывшись от дождя и не боясь человеческих глаз, то стоило бы остаться здесь на ночь. Тут, к счастью, он за-
28
метил широкую лестницу, тоже покрытую красный лаком, ведущую в башню над воротами. Наверху если и были люди, то только мертвецы. Придерживая висевший на боку меч, чтобы он не выскользнул из ножен, слуга поставил ногу в соломенной дзори на нижнюю ступеньку.
Прошло несколько минут. На середине широкой лестницы, ведущей наверх, в башню ворот Расёмон, человек, съежившись, словно кошка, и затаив дыхание, заглядывал в верхний этаж. Свет, падавший из башни, слабо освещал его правую щеку. Ту самую, на которой среди короткой щетины алел гнойный прыщ. Сначала он пребывал в полнейшей уверенности, что наверху одни мертвецы. Однако, поднявшись на две-три ступени, он обнаружил, что наверху есть кто-то с зажженным светом, к тому же свет двигался то в одну сторону, то в другую. Это сразу бросалось в глаза, так как тусклый желтый свет, колеблясь, скользил по потолку, затканному по углам паутиной. Если в такой дождливый вечер в башне ворот Расёмон горел огонь, это было неспроста.
Неслышно, как ящерица, слуга наконец почти ползком добрался до верхней ступени. И затем, насколько возможно прижавшись всем телом к лестнице, насколько возможно вытянув шею, боязливо заглянул внутрь башни.
В башне, как о том ходили слухи, в беспорядке валялось множество трупов, но так как свет позволял видеть меньшее пространство, чем можно было предполагать, то, сколько их тут, слуга не разобрал. Единственное, что хоть и смутно, но удавалось разглядеть, это — что были среди них трупы голые и трупы одетые. Разумеется, трупы женщин и мужчин вперемешку. Все они валялись на полу как попало, с раскрытыми ртами, с раскинутыми руками, словно глиняные куклы, так что можно было даже усомниться, были ли они когда-нибудь живыми людьми. Освещенные тусклым светом, падавшим на выступающие части тела — плечи или груди, отчего тени во впадинах казались еще черней, они молчали, как немые, вечным молчанием.
От трупного запаха слуга невольно заткнул нос. Но в следующее мгновение он забыл о том, что нужно затыкать нос: сильное впечатление почти совершенно лишило его обоняния.
Только в этот миг глаза его различили фигуру, сидевшую на корточках среди трупов. Это была низенькая, тощая, седая старуха, похожая на обезьяну, в кимоно цвета коры дерева хйноки. Держа в правой руке зажженную сосновую лучину, она пристально вглядывалась в лицо одного из трупов. Судя по длинным волосам, это был труп женщины.
Слуга от страха и любопытства позабыл, казалось, даже дышать. Употребляя старинное выражение летописца, он чувство-
29
вал, что у него «кожа на голове пухнет». Между тем старуха, воткнув сосновую лучину в щель между досками пола, протянула обе руки к голове трупа, на которую она до сих пор смотрела, и, совсем как обезьяна, ищущая вшей у детенышей, принялась волосок за волоском выдергивать длинные волосы. Они, по-видимому, легко поддавались ее усилиям.
По мере того как она вырывала один волос за другим, страх в сердце слуги понемногу проходил. И в то же время в нем понемногу поднималась сильнейшая ненависть к старухе. Нет, сказать «к старухе» было бы, пожалуй, не совсем правильно. Скорее, в нем с каждой минутой усиливалось отвращение ко всякому злу вообще. Если бы в это время кто-нибудь еще раз предложил ему вопрос, о котором он думал внизу на ступенях ворот — умереть голодной смертью или сделаться вором, — он, вероятно, без всякого колебания выбрал бы голодную смерть. Ненависть к злу разгорелась в нем так же сильно, как воткнутая в пол сосновая лучина.
Слуга, разумеется, не понимал, почему старуха выдергивает волосы у трупа. Следовательно, рассуждая логично, он не мог знать, добро это или зло. Но для слуги недопустимым злом было уже одно то, что в дождливую ночь в башне ворот Расёмон выдирают волосы у трупа. Разумеется, он совершенно забыл о том, что еще недавно сам подумывал сделаться вором.
И вот, напружинив ноги, слуга одним скачком бросился с лестницы внутрь. И, взявшись за рукоятку меча, большими шагами подошел к старухе. Что старуха испугалась, нечего и говорить.
Как только ее вагляд упал на слугу, старуха вскочила, точно ею выстрелили из пращи.
— Стой! Куда? — рявкнул слуга, заступая ей дорогу, когда старуха, спотыкаясь о трупы, растерянно кинулась было бежать. Все же она попыталась оттолкнуть его. Слуга, не пуская, толкнул ее обратно. Некоторое время они в полном молчании боролись среди трупов, вцепившись друг в друга. Но кто одолеет, было ясно с самого начала. В конце концов слуга скрутил старухе руки и повалил ее на пол. Рука ее были кости да кожа, точь-в-точь куриные лапки.
— Что ты делала? Говори. Если не скажешь, пожалеешь!
И, оттолкнув старуху, слуга выхватил меч и поднес блестящий клинок к ее глазам. Но старуха молчала. С трясущимися руками, задыхаясь, раскрыв глаза так, что они чуть не вылезали из орбит, она упорно, как немая, молчала. Только тогда слуга отчетливо осознал, что жизнь этой старухи всецело в его власти. Это сознание как-то незаметно охладило пылавшую в нем злобу. Оста-
30
лись только обычные после успешного завершения любого дела чувства покоя и удовлетворения. Глядя на старуху сверху вниз, он уже мягче сказал:
— Я не служу в городской страже. Я путник и только что проходил под воротами. Поэтому я не собираюсь тебя вязать. Скажи мне только, что ты делала сейчас здесь, в башне?
Старуха еще шире раскрыла и без того широко раскрытые глаза с покрасневшими веками и уставилась в лицо слуги. Уставилась острым взглядом хищной птицы. Потом, как будто жуя что-то, зашевелила сморщенными губами, из-за морщин почти слившимися с носом. Было видно, как на ее тонкой шее двигается острый кадык. И из ее горла до ушей слуги донесся прерывистый, глухой голос, похожий на карканье вороны:
— Рвала волосы... рвала волосы... это на парики.
Слуга был разочарован тем, что ответ старухи вопреки ожиданиям оказался самым обыденным. И вместе с разочарованием в его сердце вернулась прежняя злоба, сметанная с легким презрением. Старуха, по-видимому, заметила это. Все еще держа в руке длинные волосы, выдернутые из головы трупа, она заквакала:
— Оно правда, рвать волосы у мертвецов, может, дело худое. Да ведь эти мертвецы, что тут лежат, все того стоят. Вот хоть та женщина, у которой я сейчас вырывала волосы: она резала змей на полоски в четыре сун и сушила, а потом продавала дворцовой страже, выдавая их за сушеную рыбу... Тем и жила. Не помри она от чумы, и теперь бы тем самым жила. А говорили, что сушеная рыба, которой она торгует, вкусная, и стражники всегда покупали ее себе на закуску. Только я не думаю, что она делала худо. Без этого она умерла бы с голоду, значит, делала поневоле. Вот потому я не думаю, что и я делаю худо, нет! Ведь и я тоже без этого умру с голоду, значит, и я делаю поневоле. И эта женщина, — она ведь хорошо знала, что значит делать поневоле, — она бы, наверно, меня не осудила.
Вот что рассказала старуха.
Слуга холодно слушал ее рассказ, вложив меч в ножны и придерживая левой рукой рукоятку. Разумеется, правой рукой он при этом потрагивал алевший на щеке чирей. Однако, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество. То самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. И направлено оно было в сторону, прямо противоположную тому воодушевлению, с которым недавно, поднявшись в башню, он схватил старуху. Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором; мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову.
31
— Вот, значит, как? — насмешливо сказал он, когда рассказ старухи пришел к концу. Потом шагнул вперед и вдруг, отняв руку от чирея, схватил старуху за ворот и зарычал: — Ну, так не пеняй, если я тебя оберу! И мне тоже иначе придется умереть с голоду.
Слуга сорвал с нее кимоно. Затем грубо пихнул ногой старуху, цеплявшуюся за подол его платья, прямо на трупы. До лестницы было шагов пять. Сунув под мышку сорванное со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму.
Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот — только черная глубокая ночь.
Слуга с тех пор исчез бесследно.
Сентябрь 1915 г.
На мосту Адзумабаси толпится народ. Время от времени подходит полицейский и уговаривает всех разойтись, но толпа тут же собирается снова. Все ждут, когда под мостом пройдут лодки, направляющиеся на праздник цветущей вишни.
По одной и по две лодки плывут вверх по реке, уже поднимающейся от прилива. Над многими натянута парусина, к которой прикреплены свешивающиеся донизу белые в красную полосу занавески. На носу водружены флаги и старые вымпелы. Все, сидящие в лодках, видимо, слегка навеселе. Через занавески можно разглядеть людей, которые, обмотав голову полотенцем на манер женщин из Ёсивара или торговок рисом, играют в кэн, выкрикивая: «Раз, два!» Кто-то пытается петь, качая в такт головой. Сверху, с моста, все это кажется очень забавным. Когда мимо проплывают лодки с мувыкантами, толпа на мосту разражается громкими возгласами. Кто-то кричит даже: «Вот дурачье!»
С моста река похожа на оловянную пластинку, поблескивающую на солнце, временами на волнах от проходящих катеров вспыхивает ослепительная позолота. И, словно укусы вшей, вонзаются в эту гладкую водную поверхность бодрый стук барабанов, эвуки флейты и сямисэна. От кирпичных стен пивоваренного завода Саппоро далеко за насыпь тянется что-то закопченное, грязно-белое — это и есть вишни, которые сейчас в цвету. У пристани
32
Кототои стоит множество японских и европейских лодок. Шлюпочный сарай университета заслоняет их от солнца, и отсюда видно только, как движется что-то грязное и темное.
Но вот из-под моста вынырнула еще одна лодка. Как и все другие, эта четверка направляется на праздник цветущей вишни. Укрепив на лодке красно-белые занавески с полосатым вымпелом таких же цветов, гребцы, повязавшие голову полотенцами с нарисованными на них алыми цветками вишни, поочередно гребут веслами и отталкиваются шестом. И все же лодка идет не очень быстро. В тени занавесок сидит с десяток человек. Пока лодка не вошла под мост, они наигрывали на двух сямисэнах не то «Весна в сливовом цвету», не то еще что-то, а когда песня кончилась, оркестр заиграл праздничную музыку. Зеваки на мосту снова разражаются восклицаниями. Слышится плач ребенка, придавленного в сумятице. Потом пронзительный женский голос, выкрикивающий: «Эй, смотрите! Вон, танцует!» На палубе мужчина невысокого роста в шутовской маске хёттоко как-то нелепо прыгает под музыку.
Он еще раньше снял верхнюю одежду из ткани, какие делают в Титибу, и выставил на обозрение яркую, в узорах нижнюю рубашку с узкими рукавами. Что он сильно пьян, ясно уже потому, что воротник его с черным обшлагом небрежно распахнут, темно-синий пояс развязался и болтается сзади. Танцует он, конечно, тоже по-сумасшедшему. Совершает какие-то неуклюжие телодвижения и без конца размахивает руками в подражание священным танцам. Но и это выглядит так, будто, сильно опьянев, он не владеет своим телом, и иногда кажется, что он потерял равновесие и просто двигает руками и ногами, чтобы не свалиться в воду.
Это было еще смешней, и на мосту оживленно загалдели. И, смеясь, все обменивались критическими замечаниями:
— Вот это походка!
— Развеселился как! И откуда это чучело?!
— Потеха! Ой, смотрите, спотыкается!
— Лучше б он без маски танцевал! И все в таком духе.
Тем временем, — вино, что ли, подействовало сильнее, — движения танцора становились все более странными. Голова его с завязанным у подбородка праздничным полотенцем качалась, как стрелка испорченного метронома, чуть не свешиваясь за борт лодки. Лодочник даже забеспокоился и дважды его окликнул, но тот, казалось, и не слышал.
И вдруг боковая волна от проходящего катера высоко подбросила лодку. В этот момент человечек в маске, будто от
2 Акутагава Рюноскэ
33
удара, подался на три шага вперед, описал последний большой круг и, остановившись, как прекративший вращение волчок, упал навзничь на дно лодки, задрав ноги в трикотажных штанах.
Зеваки на мосту снова расхохотались. В лодке от этого толчка, кажется, даже сломалась ручка сямисэна. Через занавески видно было, как пьяная шумная компания в смятении то привставала, то садилась. Игравший вовсю оркестр неожиданно умолк, будто задохнулся. Стали слышны только громкие голоса. Поднялся переполох. Через некоторое время из-под тента выглянул человек с красным лицом и, растерянно жестикулируя, что-то скороговоркой сказал лодочнику. Тогда лодка почему-то взяла круто вправо и направилась не в ту сторону, где цвели вишни, а к противоположному берегу, к Яманооюку.
О смерти человека в маске зеваки на мосту узнали спустя десять минут. Более подробные сведения были помещены в га8ете на следующий день в отделе «Разное». Там было сказано, что звали этого чудака Ямамура Хэйкити и что он умер от кровоизлияния в мозг.
* * *
Ямамура Хэйкити — владелец полученной в наследство от отца художественной лавки в Вакамацу-мати, в районе Нихом-баси. Умер он в возрасте сорока пяти лет, оставив веснушчатую жену и служившего в армии сына. Они были не очень богаты, но все же имели прислугу и жили, по-видимому, не хуже других. Рассказывают, что во время японо-китайской войны они занялись скупкой натуральной малахитовой краски где-то в окрестностях Акита и не прогадали, а раньше магазин славился только своей старинной репутацией, товары же, составлявшие его особую гордость, можно было пересчитать по пальцам.
Хэйкити — круглолицый, лысоватый, с мелкими морщинами вокруг глаз, чем-то забавный человек и перед всеми заискивает. Больше всего он любит выпить и, выпив, становится добродушным. Но вот есть у него привычка — как выпьет, так и принимается за свои странные танцы. Как сам он рассказывал, началось все с того, что он учился танцевать у хозяйки заведения Тоёда на улице Хаматё, бравшей уроки танцев жриц; в те времена и в Симбаси и в Ёситё священные танцы были в большом ходу. Но, конечно, хвастаться своим искусством ему не приходится. Грубо говоря — танцы его какие-то сумасшедшие, выражаясь мягче — они немногим приятнее, чем движения актеров Кабуки. Однако он и сам, видно, это осознает и в трезвом виде даже не упоминает о священных танцах. «Ямамура-сан! Изобрази-ка что-нибудь!» —
34
говорят ему, но он уклоняется, сводя все к шутке. И все же, стоит ему приложиться к божественному напитку, как он тотчас повязывает голову полотенцем, изображает звуки флейты и барабана, становится в позу и подергивает плечами, охваченный желанием танцевать в маске свои шутовские танцы. А стоит ему начать, как он увлекается и уже не может остановиться. При этом он не слушает ни сямисэна, ни песни.
Уже два раза под пагубным действием вина он падал и терял сознание, как при апоплексии. В первый раз это случилось в бане, когда он обливался горячей водой и вдруг упал на цементную раковину. Тогда он только ушиб поясницу и уже через десять минут пришел в себя. Во второй раз он упал дома, в амбаре. Позвали врача, и на этот раз, чтобы привести его в чувство, потребовалось уже полчаса. При этом каждый раз ему запрещают пить, и он самым похвальным образом решает, что ему не придется больше краснеть за себя, но решение это выполняется лишь в первое время, и, начиная с «одного стаканчика», он постепенно увеличивает дозу, и не проходит и полмесяца, как незаметно возвращается к старому. Однако он спокоен, и все завершается его самодовольным заявлением: «Если я не пью, так мне, наоборот, еще хуже». Н
* * *
Но пьет Хэйкити не только из физической потребности, хотя сам он так говорит. Он не может бросить пить и по психологическим причинам. Ведь только выпив, он смелеет и не смущается ничьим присутствием. Хочется ему танцевать — танцует, хочется спать — спит. Никто не может упрекнуть его. А для Хэйкити это важнее всего. Почему важнее? Он и сам не понимает.
Он знает только, что, когда выпьет, становится другим человеком. Натанцуется, бывало, а как протрезвеет и скажут ему: «Ну, и набрался же ты вчера», — он, конечно, ужасно смущается и привычно врет: «Я как выпью, так уж ничего не соображаю. Утром встал и не помню, что вчера делал. Как во сне». На самом деле он отлично помнит, что танцевал и что заснул. И трудно себе представить, что тот Хэйкити, который остался у него в памяти, и Хэйкити сегодняшний — один и тот же человек. Какой же из них настоящий, — он и сам толком не понимает. Напивается он изредка, обычно бывает трезв. Выходит, трезвый Хэйкити — он и есть настоящий, но, как это ни странно, сам Хэйкити не может поручиться ни за то, ни за другое. Ведь то, чего он потом стыдится, почти всегда совершается в пьяном виде. Танцы —это бы еще ладно. Но он играет в цветочные карты. Сппт с продажными женщинами. Словом, делает такое, о чем и не напишешь. Никто не станет
2*
35
утверждать, будто в подобных делах и выражается его истинное «я». У бога Януса два лица, и никому не ведомо, какое из них настоящее. Так и с Хэйкити.
Я уже сказал, что Хэйкити трезвый и Хэйкити пьяный — два совершенно различных человека. Мало кто лжет в трезвом виде, как Хэйкити. Иногда он и сам это понимает. Но это вовсе не значит, что он лжет с каким-то расчетом. Лжет он почти бессознательно. И хотя, солгав, тут же замечает это, но пока он говорит, у него совсем нет времени подумать о последствиях.
Хэйкити не мог бы объяснить, почему он лжет. Но стоит ему с кем-нибудь заговорить, как у него сама собой с языка срывается ложь, о которой он и не помышлял. Однако это не особенно его тяготит. И не кажется чем-то дурным. Потому — что ни день Хэйкити лжет со спокойным сердцем.
* * *
Хэйкити как-то рассказывал, что одиннадцати лет поступил на службу в писчебумажный магазин в Минами-Дэмматё. Хозяин его был ревностный молельщик и даже к ужину не прикасался, не помолившись. Однако через два месяца после появления Хэйкити в магазине, повинуясь какому-то неожиданному порыву, хозяйка сбежала в чем была с молодым приказчиком. Потому ли, что хозяину, помешанному на молитвах, не помогла его вера, с помощью которой он надеялся поддерживать мир в семье, но рассказывали, что он вдруг переметнулся в секту Монто, бросил в реку изображение Тайсяку, положил под котел изображение Си-тимэн и сжег его, — и вообще много всего натворил.
По словам Хэйкити, он прожил там до двадцати лет и, бывало, мошенничал со счетами и тогда отправлялся куда-нибудь поразвлечься. По его воспоминаниям, он как-то сблизился с женщиной, которая предложила ему вместе с ней покончить жизнь самоубийством, но он струсил. Разными отговорками ему удалось этого избежать, а потом он узнал, что через три дня она совершила самоубийство вместе с рабочим из мастерской металлических украшений. Человек, с которым она прежде была близка, ушел к другой, и назло ему она хотела умереть с первым встречным.
Когда Хэйкити исполнилось двадцать, умер его отец, и тогда, взяв в лавке расчет, он поехал домой. Как-то через полмесяца приказчик, служивший еще при жизни отца, попросил молодого хозяина написать письмо. Это был человек лет пятидесяти, вполне порядочный, который в то время повредил себе пальцы правой руки и не мог писать. Приказчик этот попросил сообщить в письме
36
следующее: «Дело удалось, скоро приеду», — так Хэйкити и написал. Письмо было адресовано женщине, и Хэйкити поддразнил его: «Смотрите-ка! Какой вы ловкий!» — на что тот ответил кратко: «Это письмо сестре». Через три дня этот человек уходит из дому, сказав, что идет к покупателям за заказами, и не возвращается. При проверке счетов обнаруживается огромная недостача. Письмо, по всей вероятности, было адресовано любовнице. Где еще сыщешь такого, как Хэйкити, дурака, который сам же взялся бы писать такое послание!..
Все это ложь. Но без этих россказней в жизни Хэйкити (той, что известна людям), наверно, ничего и не останется.
Наверняка в пьяном виде забрался Хэйкити в лодку соседей, которая шла на праздник цветущей вишни, и взял у оркестрантов маску хёттоко.
Я уже рассказывал, что он упал на дно лодки и умер во время танцев. Все сидящие в лодке пришли в изумление. Но больше всех поражен был достопочтенный учитель музыки, которому Хэйкити свалился буквально на голову. Потом Хэйкити упал на обшитый красной материей шкафут лодки, где были разложены морская капуста и вареные яйца.
— Что за шутки? Ты же мог пораниться! — сердито сказал предводитель компании, все еще думая, что Хэйкити шутит. Но Хэйкити не шевелился.
Сидевший рядом парикмахер, заподозрив неладное, положил руку на плечо Хэйкити и окликнул его: «Хозяин, эй, хозяин!» — но никакого ответа опять не последовало. Он взял его за руку и почувствовал, что она холодна. Вдвоем с предводителем они подняли Хэйкити. Над ним в волнении склонились присутствующие. «Хозяин, эй, хозяин!»—наконец громко закричал парикмахер.
И тут едва различимый звук — не то вздох, не то голос — послышался парикмахеру из-под маски. «Маску... снимите... маску...» Предводитель и парикмахер дрожащими руками сдернули маску и полотенце.
Но то, что они увидели под маской, уже не походило на лицо Хэйкити. Маленький нос заострился, изменился цвет губ, по бледному лбу градом катился пот. Никто бы теперь не узнал в нем весельчака, комика, болтуна Хэйкити. Не переменилась только вытянувшая губы, нарочито глуповатая, спокойно смотрящая на Хэйкити с красной материи маска хёттоко.
Декабрь 1914 г.
37
О носе монаха Дзэнти в Икэноо знал всякий. Этот нос был пяти-шести сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица этакая длинная штуковина, похожая на колбасу.
Монаху было за пятьдесят, и всю жизнь, с давних времен пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана найдо-дзёгубу, он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать грядущему существованию подле будды Амида. Гораздо более беспокоило его, как бы кто-нибудь не догадался, сколь сильно досаждает ему его собственный пос. Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдет о носах.
Тяготился же своим носом монах по двум причинам.
Во-первых, длинный нос причинял житейские неудобства. Например, монах не мог самостоятельно принимать пищу. Если он ел без посторонней помощи, кончик носа погружался в чашку с едой. Поэтому во время трапез монаху приходилось сажать за столик напротив себя одного из учеников, с тем чтобы тот поддерживал пос при помощи специальной дощечки шириною в сун и длиной в два сяку. Вкушать таким образом пищу было всегда делом нелегким как для ученика, так и для учителя. Однажды вместо ученика нос держал мальчишка-послушник. Посредине трапезы он чихнул, его рука с дощечкой дрогнула, и нос упал в рисовую кашу. Слух об этом происшествии дошел в свое время до самой столицы... И все же не это было главной причиной, почему монах скорбел из-за носа. По-настоящему он страдал от уязвленного самолюбия.
Жители Икэноо говорили, будто монаху Дзэнти с его носом повезло, что он монах, а не мирянин, ибо, по их мнению, вряд ли нашлась бы женщина, которая согласилась бы выйти за него замуж. Некоторые критиканы даже утверждали, будто он и пострпг-ся-то из-за носа. Однако самому монаху вовсе не представлялось, что его принадлежность к духовному сословию хоть сколько-нибудь смягчает страдания, причиняемые ему носом. Самолюбие его было глубоко уязвлено воздействием таких соображений, как вопрос о женитьбе. Поэтому он пытался лечить раны своей гордости как активными, так и пассивными средствами.
38
Во-первых, монах искал способ, каким образом сделать так, чтобы нос казался короче, чем на самом деле. Когда никого поблизости не было, он из сил выбивался, разглядывая свою физиономию под всевозможными углами. Как ни менял он поворот головы, спокойнее ему не становилось, и он упорно всматривался в свое отражение, то подпирая щеку ладонью, то прикладывая пальцы к подбородку. Но он так ни разу и не увидел свой нос коротким настолько, чтобы это утешило хотя бы его самого. И чем горше становилось у него на сердце, тем длиннее казался ему нос. Тогда монах убирал зеркало в ящик, вздыхал тяжелее обычного и неохотно возвращался на прежнее место к пюпитру читать сутру «Каннон-кё».
Монаха всегда очень заботили носы других людей. Храм Икэ-ноо был из тех храмов, где часто устраиваются церемонии посвящения, читаются проповеди и так далее. Вся внутренность храма была плотно застроена кельями, в храмовых банях каждый день грели воду. Посетителей — монахов и мирян — было необычайно много. Монах без устали рассматривал лица этих людей. Он надеялся найти хоть одного человека с таким же носом, как у него, тогда ему стало бы легче. Поэтому глаза его не замечали ни синих курток, ни белых кимоно, а коричневые шляпы мирян и серые одежды священнослужителей настолько ему примелькались, что их для него все равно что не было. Монах не видел людей, он видел только носы... Но носы в лучшем случае были крючковатые, таких же носов, как у него, видеть ему не приходилось. И с каждым днем монах падал духом все более. Беседуя с кем-нибудь, он бессознательно ловил пальцами кончик своего болтающегося носа, всякий раз при этом краснея, совершенно как ребенок, пойманный на шалости, каковое обстоятельство полностью вытекало из этого его дурного душевного состояния.
Наконец, чтобы хоть как-нибудь утешиться, монах выискивал персонажи с такими же носами, как у него, в буддийских и светских книгах. Однако ни в одной из священных книг не говорилось, что у Мандгалаяна или у Шарипутры были длинные носы. Нагарджуна и Асвагхоша тоже, конечно, оказались святыми с самыми обычными носами. Как-то в беседе о Китае монах услыхал, будто у шуханьского князя Лю Сюань-дэ были длинные уши, и он подумал, насколько менее одиноким почувствовал бы он себя, если бы речь шла о носе.
Нечего и говорить, что монах, ломая голову над пассивными средствами, пробовал также и активные способы воздействия на свой нос. Тут он тоже сделал почти все, что возможно. Он пробовал пить настой из горелой тыквы. Он пробовал втирать в нос мы-
39
шиную мочу. Но что бы он ни предпринимал, нос его по-прежнему свисал на губы пятивершковой колбасой.
Но вот однажды осенью один из учеников монаха, ездивший по его поручению в столицу, узнал там у приятеля-врача способ укорачивать длинные носы. Врач этот в свое время побывал в Китае и по возвращения сделался священнослужителем при главной статуе будды в храме Тёраку.
Монах, как полагается, сделал вид, будто вопрос о носах ему совершенно безразличен, и даже не заикнулся о том, чтобы немедленно испробовать упомянутый способ. С другой стороны, он как бы мимоходом заметил, что ему крайне неприятно беспокоить ученика всякий раз, когда нужно принимать пищу. В глубине души он ожидал, что ученик так или иначе станет уговаривать его испытать этот способ. И ученик отлично понял хитрость монаха. И сколь ни претила ученику эта хитрость, на него гораздо сильнее подействовали, возбуждая его сострадание, те чувства, которые вынудили монаха к ней прибегнуть. Как и ожидал монах, ученик принялся изо всех сил уговаривать его испытать этот способ. Как и ожидал ученик, монах в конце концов уступил его горячим уговорам.
Что касается способа, то он был чрезвычайно прост: нос нужно было проварить в кипятке и хорошенько оттоптать ногами.
Воду грели в храмовых банях каждый день. Ученик сходил и принес большую флягу кипятка, такого горячего, что в него нельзя было сунуть палец. Прямо погружать нос во флягу было опасно, пар от кипятка причинил бы ожоги лицу. Поэтому решено было провертеть дыру в деревянном блюде, накрыть им флягу и просунуть нос в кипяток через эту дыру. Когда нос погрузился в кипяток, было ничуть не больно. Прошло некоторое время, и ученик сказал:
— Теперь он проварился достаточно.
Монах горько усмехнулся. Он подумал, что если бы кто-нибудь подслушал эту фразу, ему и в голову бы не пришло, что речь идет о носе. Нос же, ошпаренный кипятком, зудел, словно его кусали блохи.
Монах извлек нос из дыры в блюде. Ученик взгромоздился на этот нос, от которого еще поднимался пар, обеими ногами и принялся топтать изо всех сил. Монах лежал, распластав нос на дощатом полу, и перед его глазами вверх и вниз двигались ноги ученика. Время от времени ученик с жалостью поглядывал на лысую голову монаха, потом спросил:
— Вам не больно? Врач предупредил, чтобы топтать сильно. Больно вам?
Монах хотел помотать головой в знак того, что ему не больно. Но на носу у него стояли нош ученика, и голова не сдвинулась
40
с места. Тогда он поднял глаза и, уставясь на растрескавшиеся от холода пятки ученика, ответил сердитым голосом:
— Нет, не больно.
И правда, топтание по зудящему носу вызывало у монаха не столько боль, сколько приятные ощущения.
Через некоторое время на носу наконец стали вылезать какие-то шарики, похожие на просяные зерна. Совершенно как бывает, когда жарят ощипанную курицу. Заметив это, ученик слез с носа и проговорил про себя:
— Велено было извлечь эти штуки щипцами для волос.
Монах, недовольно надувшись, молча подчинился. Не то чтобы он не понимал добрых чувств ученика. Нет, он это понимал, но ему неприятно было, что с носом его обращаются, как с посторонним предметом. И он с видом больного, которому делает операцию не достойный доверия врач, с отвращением наблюдал, как ученик извлекает щипчиками сало из его носа. Кусочки сала имели форму стволиков от птичьих перьев длиной примерно в четыре бу.
Когда наконец эта процедура была закончена, ученик с облегчением сказал:
— А теперь проварим еще разок.
Монах все с тем же недовольным выражением на лице сделал, как ему сказано. И когда вторично проваренный нос был извлечен из фляги, оказалось, что он стал коротким, как никогда. Теперь он ничем не отличался от весьма обыкновенного крючковатого носа. Поглаживая этот укороченный нос, монах с трепетом и ощущением неловкости заглянул в зеркало, которое поднес ему ученик.
Нос, тот самый нос, что некогда свисал до подбородка, неправдоподобно съежился и теперь скромно довольствовался местом над верхней губой. Кое-где на нем выделялись красные пятна, видимо, следы, оставшиеся от ног ученика. Уж теперь, наверное, смеяться никто не станет... Лицо в зеркале глядело на монаха и удовлетворенно помаргивало.
Правда, монах боялся, что через день-другой нос снова сделается длинным. При каждом удобном случае, читая ли вслух священные книги или во время трапезы, он то и дело поднимал руку и украдкой ощупывал кончик носа. Однако нос весьма благопристойно держался над губой и, по всей вероятности, не был особенно расположен спускаться ниже. Рано утром на следующий день, пробудившись от сна, монах прежде всего прошелся пальцами по носу. Нос по-прежнему был короткий. И тогда монах почувствовал огромное облегчение, словно завершил многолетний труд по переписке «Сутры священного лотоса».
Но не прошло и двух-трех дней, как монах сделал неожиданное открытие. Самурай, посетивший в это время храм Икэноо для
41
каких-то своих дел, не спускал глаз с его носа, при этом с ним отнюдь не заговаривая и вид имея чрезвычайно насмешливый. Мало того, мальчик-послушник, тот самый, который некогда уронил его нос в рисовую кашу, проходя мимо него возле зала, где произносились проповеди и поучения, сперва глядел вниз, видимо, силясь побороть смех, а потом все-таки не выдержал и прыснул. Несколько раз, отдавая приказания монахам-работникам, он замечал, что те держатся почтительно лишь перед его лицом, а стоит ему отвернуться, как они тут же принимаются хихикать.
Сначала монах отнес это на счет того, что у него переменилось лицо. Однако само по себе такое объяснение, пожалуй, мало что объясняло... Конечно, монахи-работники и послушник смеялись как раз по этой причине. Однако, хотя они смеялись совсем по-прежнему, смех этот теперь чем-то отличался от тех времен, когда нос был длинный. Наверное, непривычно короткий нос выглядел более забавным, нежели нос привычно длинный. Но было, видимо, и еще что-то.
— Никогда прежде они не смеялись столь нагло, — бормотал временами монах, отрываясь от чтения священной книги и склоняя набок лысую голову. При этом наш красавец, рассеянно уста-вясь на изображение Вишвабхадры, висящее рядом, вспоминал о том, какой длинный нос был у него несколько дней назад, и уныло думал: «Ныне подобен я впавшему в бедность человеку, скрывающему былое процветание...» К сожалению, монаху не хватало проницательности, чтобы понять, в чем дело.
...В сердце человеческом имеют место два противоречивых чувства. Нет на свете человека, который бы не сострадал несчастью ближнего. Но стоит этому ближнему каким-то образом поправиться, как это уже вызывает чувство, будто чего-то стало недоставать. Слегка преувеличив, позволительно даже сказать, что появляется желание еще разок ввергнуть этого ближнего в ту же неприятность. Сразу же появляется хоть и пассивная, а все же враждебность к этому ближнему... Монах не понимал, в чем дело, но тем не менее испытывал иавестную скорбь, — несомненно, потому, что смутно подозревал в отношении к себе мирян и монахов Икэноо этот эгоизм сторонних наблюдателей.
И настроение монаха портилось с каждым днем. Он злобно ругал всех, кто попадался ему на глаза. Дело в конце концов дошло до того, что даже его ученик, тот самый, который лечил ему нос, стал тихонько поговаривать, будто он, монах, грешит равнодушием к религии. Монаха особенно возмутила выходка шалопая-послушника. Однажды, услыхав за окном собачий визг, он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, что послушник, размахивая палкой длиною в два фута, гоняет по двору косматую тощую со-
42
бачонку. И если бы он просто гонял! Нет, он гонял и при этом азартно вопил:
— А вот я тебя по носу! А вот я тебя по носу!
Монах вырвал у мальчишки палку и яростно ударил его по лицу. Палка оказалась старой дощечкой для поддерживания носа.
Монах все больше жалел, что столь опрометчиво укоротил себе нос.
А потом настала одна ночь. Вскоре после захода солнца подул ветер, и звон колокольчиков под кровлей пагоды надоедливо лез в уши. Вдобавок изрядно похолодало, поэтому старый монах, хотя ему очень хотелось спать, никак не мог заснуть. Он лежал с раскрытыми глазами и вдруг почувствовал, что у него страшно зачесался нос. Коснулся пальцами — нос разбух, словно пораженный водянкой. Кажется, стал даже горячим.
— Беднягу неправедно укоротили, вот он и заболел, — пробормотал монах, почтительно взявшись за нос, как берут жертвенные цветы для возложения на алтарь перед буддой.
На следующее утро он пробудился, по обыкновению, рано. Выглянув в окно, он увидел, что гинко и конские каштаны во дворе храма за ночь осыпались и двор сиял, словно выстланный золотом. Крыши покрылись инеем. В еще слабых лучах рассвета ярко сверкали украшения пагоды. Монах Дзэнти, стоя у раскрытого окна, глубоко вздохнул.
И в эту минуту к нему вновь вернулось некое почти забытое ощущение.
Он взволнованно схватился за нос. То, чего коснулась его рука, не было вчерашним коротким носом. Это был его прежний длинный нос пяти-шести сун в длину, свисающий через губу ниже подбородка. Монах понял, что за минувшую ночь его нос вновь возвратился в прежнее состояние. И тогда к нему вернулось откуда-то чувство радостного облегчения, точно такое же, какое он испытал, когда нос его сделался коротким.
— Уж теперь-то смеяться надо мной больше не будут, — прошептал монах, подставляя свой длинный нос осеннему ветру.
Январь 1916 г.
Было это в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна. Точное время для нашего повествования роли не играет. Читателю достаточно знать, что случилось это в седую старину, именуемую Хэйанским периодом... И служил среди самураев регента Фудзивара Мотоцунэ некий гои.
43
Хотелось бы привести, как полагается, его настоящее имя, но в старинных хрониках оно, к сожалению, не упомянуто. Вероятно, это был слишком заурядный человек, чтобы стоило о нем упоминать. Вообще следует сказать, что авторы старинных хроник не слишком интересовались заурядными людьми и обыкновенными событиями. В этом отношении они разительно отличаются от японских писателей-натуралистов. Романисты Хэйанской эпохи, как это ни странно, не такие лентяи... Одним словом, служил среди самураев регента Фудзивара Мотоцунэ некий гои, и он-то и является героем нашей повести.
Это был человек чрезвычайно неприглядной наружности. Начать с того, что он был маленького роста. Нос красный, внешние углы глаз опущены. Усы, разумеется, реденькие. Щеки впалые, поэтому подбородок кажется совсем крошечным. Губы... Но если вдаваться в такие подробности, этому конца не будет. Коротко говоря, внешний вид у нашего гои был на редкость затрапезный.
Никто не знал, когда и каким образом этот человек попал на службу к Мотоцунэ. Достоверно было только, что он с весьма давнего времени ежедневно и неутомимо отправляет одни и те же обязанности, всегда в одном и том же выцветшем суйкане и в одной и той же измятой шапке эбоси. И вот результат: кто бы с ним ни встречался, никому и в голову не приходило, что этот человек был когда-то молодым. (В описываемое время гои перевалило за сорок.) Всем казалось, будто сквозняки на перекрестках Судзаку надули ему этот красный простуженный нос и символические усы с самого дня его появления на свет. В это бессознательно верили поголовно все, и, начиная от самого господина Мотоцунэ и до последнего пастушонка, никто в этом не сомневался.
О том, как окружающие обращались с человеком подобной наружности, не стоило бы, пожалуй, и писать. В самурайских казармах на гои обращали не больше внимания, чем на муху. Даже его подчиненные — а их, со званием и без званий, было около двух десятков — относились к нему с удивительной холодностью и равнодушием. Не было случая, чтобы они прервали свою болтовню, когда он им что-нибудь приказывал. Наверное, фигура гои так же мало застила им зрение, как воздух. И если уж так вели себя подчиненные, то старшие по должности, всякие там домоправители и начальствующие в казармах, согласно всем законам природы вообще решительно отказывались его замечать. Скрывая под маской ледяного равнодушия свою детскую и бессмысленную к нему враждебность, они при необходимости сказать ему что-либо обходились исключительно жестами. Но люди обладают даром речи не случайно. Естественно, время от времени возникали обстоя-
44
тельства, когда объясниться жестами не удавалось. Необходимость прибегать к словам относилась целиком на счет его умственной недостаточности. В подобных случаях они неизменно оглядывали его сверху донизу, от верхушки измятой шапки эбоси до продранных соломенных дзори, затем оглядывали снизу доверху, а затем, презрительно фыркнув, поворачивались спиной. Впрочем, гои никогда не сердился. Он был настолько лишен самолюбия и был так робок, что просто не ощущал несправедливость как несправедливость.
Самураи же, равные ему по положению, всячески издевались над ним. Старики, потешаясь над его невыигрышной внешностью, мусолили застарелые остроты, молодые тоже не отставали, упражняя свои способности в так называемых экспромтах все в тот же адрес. Прямо при гои они без устали обсуждали его нос и его усы, его шапку и его суйкан. Частенько предметом обсуждения становилась его сожительница, толстогубая дама, с которой он разошелся несколько лет назад, а также пьяница-бонза, но слухам, бывший с ней в связи. Временами они позволяли себе весьма жестокие шутки. Перечислить их все просто не представляется возможным, но если мы упомянем здесь, как они выпивали из его фляги сакэ и затем мочились туда, читатель легко представит себе остальное.
Тем не менее гои оставался совершенно нечувствителен к этим проделкам. Во всяком случае, казался нечувствительным. Что бы ему ни говорили, у него не менялось даже выражение лица. Он только молча поглаживал свои знаменитые усы и продолжал заниматься своим делом. Лишь когда издевательства переходили все пределы, например, когда к узлу волос на макушке ему прицепляли клочки бумаги или привязывали к ножнам его меча соломенные дзори, тогда он странно морщил лицо — то ли от плача, то ли от смеха — и говорил:
— Что уж вы, право, нельзя же так...
Те, кто видел его лицо или слышал его голос, ощущали вдруг укол жалости. (Это была жалость не к одному только красноносому гои, она относилась к кому-то, кого они совсем не знали, — ко многим людям, которые скрывались за его лицом и голосом и упрекали их за бессердечие.) Это чувство, каким бы смутным оно ни было, проникало на мгновение им в самое сердце. Правда, мало было таких, у кого оно сохранялось хоть сколько-нибудь долго. И среди этих немногих был один рядовой самурай, совсем молодой человек, приехавший из провинции Тамба. У него на верхней губе еще только-только начали пробиваться мягкие усики. Копечно, вначале он тоже вместе со всеми безо всякой причины презирал красноносого гои. Но как-то однажды он услыхал голос,
45
говоривший: «Что уж вы, право, нельзя же так...» И о тех пор эти слова не шли у него из головы. Гои в его глазах стал совсем другой личностью. В испитой, серой, тупой физиономии он увидел тоже Человека, страдающего под гнетом общества. И всякий раз, когда он думал о гои, ему представлялось, будто все в мире вдруг выставило напоказ свою изначальную подлость. И в то же время представлялось ему, будто обмороженный красный нос и реденькие усы являют душе его некое утешение...
Но так обстояло дело с одним-единственным человеком. За этим исключением гои окружало всеобщее презрение, и он жил поистине собачьей жизнью. Начать с того, что он не имел никакой приличной одежды. У него был один-единственный серо-голубой суйкан и одна-единственная пара штанов сасинуки того же цвета, однако вылиняло все это до такой степени, что определить первоначальный цвет было уже невозможно. Суйкан еще держался, у него только слегка обвисли плечи и странную расцветку приняли шнуры и вышивка, только и всего, но вот что касается штанов, то на коленях они были в беспримерно плачевном состоянии. Гои не носил нижних хакама, сквозь дыры проглядывали худые ноги, и вид его вызывал брезгливость не только у злых обитателей казармы: словно смотришь на тощего быка, влачащего телегу с тощим дворянином. Меч он имел тоже до крайности подержаный: рукоять едва держалась, лак на ножнах весь облупился. И недаром, когда он плелся по улице со своим красным носом, на своих кривых ногах, волоча соломенны© дзори, горбясь еще более обычного под холодным зимним небом и бросая по сторонам просительные взгляды, все задевали и дразнили его. Даже уличные разносчики, бывало и такое.
Однажды, проходя по улице Сандзё в сторону парка Синсэн, гои заметил у обочины толпу ребятишек. Волчок запускают, что ли, подумал он и подошел посмотреть. Оказалось, что мальчишки поймали бродячую собачонку, накинули ей петлю на шею и истязают ее. Робкому гои не было чуждо сострадание, но до той поры он никогда не пытался воплотить его в действие. На этот раз, однако, он набрался смелости, потому что перед ним были всего лишь дети. Не без труда изобразив на своем лице улыбку, он похлопал старшего из мальчишек по плечу и сказал:
— Отпустили бы вы ее, собаке ведь тоже больно...
Мальчишка, обернувшись, поднял глаза и презрительно на него уставился. Он глядел на гои совершенно так же, как управитель в казармах, когда гои не мог взять в толк его указаний. Он отступил на шаг и, высокомерно оттопырив губу, сказал:
— Обойдемся без твоих советов. Проваливай, красноносый.
46
Гои почувствовал, будто эти слова ударили его по лицу. Но вовсе не потому, что он был оскорблен и рассердился. Нет, просто он устыдился того, что вмешался не в свое дело и тем себя унизил. Чтобы скрыть неловкость, он вымученно улыбнулся и, не сказав ни слова, пошел дальше по направлению к парку Синсэн. Мальчишки, вставши плечом к плечу, строили ему вслед рожи и высовывали языки. Он этого, конечно, не видел. А если бы и видел, что это могло значить для лишенного самолюбия гои!
Но было бы ошибкой утверждать, будто у героя нашего рассказа, у этого человека, рожденного для всеобщего презрения, не было никаких желаний. Вот уже несколько лет он питал необыкновенную приверженность к бататовой каше. Что такое бататовая каша? Сладкий горный батат кладут в горшок, заливают виноградным спропом и варят, пока он не разварится в кашицу. В свое время это считалось превосходным кушаньем, его подавали даже к августейшему столу. Следовательно, в рот человека такого звания, как гои, оно могло попасть разве что раз в год, на каком-нибудь ежегодном приеме. И даже в этих случаях попадало весьма немного, только смазать глотку. И поесть до отвала бататовой каши было давней и заветной мечтой нашего гои. Конечно, мечтой этой он ни с кем не делился. Да что говорить, он и сам, наверное, не вполне отчетливо сознавал, что вся его жизнь пронизана этим желанием. И тем не менее можно смело утверждать, что жил он именно для этого. Люди иногда посвящают свою жизнь таким желаниям, о которых не знают, можно их удовлетворить или нельзя. Тот же, кто смеется над подобными причудами, — просто ничего не понимает в человеческой природе.
Как это ни странно, мечта гои «нажраться бататовой каши» осуществилась с неожиданной легкостью. Чтобы рассказать о том, как это произошло, и написана повесть «Бататовая каша».
* * *
Как-то второго января в резиденции Мотоцунэ состоялся ежегодный прием. (Ежегодный прием — это большое пиршество, которое устраивает регент — первый советник императора в тот же день, когда дается благодарственный банкет в честь императрицы и наследника. На ежегодный прием приглашаются все дворяне, от министров и ниже, и он почти не отличается от храмовых пиров.) Гои в числе прочих самураев угощался тем, что оставалось на блюдах после высоких гостей. В те времена еще не было обыкновения отдавать остатки челяди, и их поедали, собравшись в одном помещении, самураи-дружинники. Таким образом, они как бы участвовали в пиршестве, однако, поскольку дело происходило
47
в старину, количество закусок не соответствовало аппетитам. А подавали рисовые лепешки, пончики в масле, мидии на пару, сушеное птичье мясо, мальгу из Удзи, карпов из Омп, струганого окуня, лосося, фаршированного икрой, жареных осьминогов, омаров, мандарины большие и малые, хурму на вертеле и многое другое. Была там и бататовая каша. Гои каждый год надеялся, что ему удастся всласть наесться бататовой каши. Но народу всегда было много, и ему почти ничего не доставалось. На этот же раз ее было особенно мало. И потому казалось ему, что она должна быть особенно вкусной. Пристально глядя на опустошенные миски, он стер ладонью каплю, застрявшую в усах, и проговорил, ни к кому не обращаясь:
— Хотел бы я знать, придется ли мне когда-нибудь поесть ее вволю? — И со вздохом добавил: — Да где там, простого самурая бататовой кашей не кормят...
Едва он произнес эти слова, как кто-то расхохотался. Это был непринужденный грубый хохот воина. Гои поднял голову и робко взглянул. Смеялся Фудзивара Тосихито, новый телохранитель Мотоцунэ, сын Токинага, министра по делам подданных, мощный, широкоплечий мужчина огромного роста. Он грыз вареные каштаны и запивал их черным сакэ. Был он уже изрядно пьян.
— А жаль, право, — продолжал он насмешливо и презрительно, увидев, что гои поднял голову. — Впрочем, если хочешь, Тосихито накормит тебя до отвала.
Затравленный пес не сразу хватает брошенную ему кость. С обычной своей непонятной гримасой — то ли плача, то ли смеха — гои переводил глаза с пустой миски на лицо Тосихито и снова на пустую миску.
— Ну что, хочешь? Гои молчал.
— Ну так что же?
Гои молчал. Он вдруг ощутил, что все взгляды устремлены на него. Стоит ему ответить, и на него градом обрушатся насмешки. Он даже понимал, что издеваться над ним будут в любом случае, каким бы ни был ответ. Он колебался. Вероятно, он переводил бы глаза с миски на Тосихито и обратно до бесконечности, но Тосихито произнес скучающим тоном:
— Если не хочешь, так и скажи.
И, услыхав это, гои взволнованно ответил:
— Да нет же... Покорнейше вас благодарю.
Все слушавшие этот разговор разразились смехом. Кто-то передразнил ответ: «Да нет же, покорнейше вас благодарю». Высокие и круглые самурайские шапки разом всколыхнулись в такт
48
раскатам хохота, словно волны, над чашами и корзинками с оранжевой, желтой, коричневой, красной снедью. Веселее и громче всех гоготал сам Тосихито.
— Ну, раз так, приглашаю тебя к себе, — проговорил он. Физиономия его при этом сморщилась, потому что рвущийся наружу смех столкнулся в его горле с только что выпитой водкой. — Ладно, так тому и быть...
— Покорнейше благодарю, — повторил гои, заикаясь и краснея.
И, разумеется, все снова захохотали. Что же касается Тосихито, который только и стремился привлечь всеобщее внимание» то он гоготал еще громче прежнего, и плечи его тряслись от смеха. Этот северный варвар признавал в жизни только два способа времяпрепровождения. Первый — наливаться сакэ, второй — хохотать.
К счастью, очень скоро все перестали о них говорить. Не знаю уж, в чем тут дело. Скорее всего остальной компании не понравилось, что внимание общества привлечено к какому-то красноносому гои. Во всяком случае, тема беседы изменилась, а поскольку сакэ и закусок осталось маловато, общий интерес привлекло сообщение о том, как некий оруженосец пытался сесть на коня, влезши второпях обеими ногами в одну штанину своих мукабаки. Только гои, по-видимому, не слыхал ничего. Наверное, все мысли его были заняты двумя словами: бататовая каша. Перед ним стоял жареный фазан, но он не брал палочек. Его чаша была наполнена черным сакэ, но он к ней не прикасался. Он сидел неподвижно, положив руки на колени, и все его лицо, вплоть до корней волос, тронутых сединой, пылало наивным румянцем от волнения, словно у девицы на смотринах. Он сидел, забыв о времени, уставившись на черную лакированную миску из-под бататовой каши, и бессмысленно улыбался...
* * *
Однажды утром, спустя несколько дней, по дороге в Авата-гути вдоль реки Камогава неторопливо ехали два всадника. Один, при длинном богатом мече, черноусый красавец с роскошными кудрями, был в плотной голубой каригину и в того же цвета хака-ма. Другой, самурай лет сорока, с мокрым красным носом, был в двух ватниках поверх обтрепанного суйкана, небрежно подпоясан и вообще вид собой являл донельзя расхлябанный. Впрочем, кони у того и у другого были отличные, жеребцы-трехлетки, один буланый, другой гнедой, добрые скакуны, так что проходившие по дороге торговцы вразнос и самураи оборачивались и глядели им вслед. Позади, не отставая от всадников, шли еще двое — очевид-
49
но, оруженосец и слуга. Нет необходимости подсказывать читателю, что всадниками были Тосихито и гои.
Стояла зима, однако день выдался тихий и ясный, и ни малейший ветерок не шевелил стебли пожухлой полыни по берегам речки, бежавшей меж угрюмых камней на белой равнине. Жидкий, как масло, солнечный свет озарял безлистные ветви низеньких ив, и на дороге отчетливо выделялись даже тени трясогузок, вертевших хвостами на верхушках деревьев. Над темной зеленью холмов Хигасияма округло вздымались горы Хиэй, похожие на волны заиндевевшего бархата. Всадники ехали медленно, но прикасаясь к плеткам, и перламутровая инкрустация их седел блестела на солнце.
— Позволительно ли будет спросить, куда мы направляемся? — произнес гои, дергая повод неумелой рукой.
— Скоро приедем, — ответил Тосихито. — Это ближе, чем ты полагаешь.
— Значит, это Аватагути?
— Очень даже может быть...
Заманивая сегодня утром гои, Тосихито объявил, что они поедут в направлении Хигасияма, потому что там-де есть горячий источник. Красноносый гои принял это за чистую монету. Он давно не мылся в бане, и тело его невыносимо чесалось. Угоститься бататовой кашей да вдобавок еще помыться горячей водой — чего еще оставалось желать? Только об этом он и мечтал, трясясь на буланом жеребце, сменном коне Тосихито. Однако они проезжали одну деревню за другой, а Тосихито и не думал останавливаться. Между тем они миновали Аватагути.
— Значит, это не в Аватагути?
— Потерпи еще немного, — отозвался Тосихито, усмехаясь.
Он продолжал ехать как ни в чем не бывало и только отвернулся, чтобы не видеть лицо гои. Хижины по сторонам дороги попадались все реже, на просторных зимних полях виднелись только вороны, добывающие себе корм, и тусклой голубизной отливал вдали снег, сохранившийся в тени гор. Небо было ясное, острые верхушки желтинника вонзались в него так, что болели глаза, и от этого почему-то было особенно зябко.
— Значит, это где-нибудь неподалеку от Ямасина?
— Ямасина — вон она. Нет, это еще немного подальше. Действительно, вот и Ямасина они проехали. Да что Ямасина.
Незаметно оставили позади Сэкияма, а там солнце перевалило за полдень, и они подъехали к храму Миидэра. В храме у Тосихито оказался приятель-монах. Зашли к монаху, отобедали у него, а по окончании трапезы снова взгромоздились на коней и пустились в дорогу. Теперь их путь, в отличие от прежнего, лежал через со-
50
вершенно уже пустынную местность. А надо сказать, что в те времена повсюду рыскали шайки разбойников... Гои, совсем сгорбившись, заглянул Тосихито в лицо и осведомился:
— Нам далеко еще?
Тосихито улыбнулся. Так улыбается взрослому мальчишка, которого уличили в проказливой шалости. У кончика носа соба£ раются морщппы, мускулы вокруг глаз растягиваются, и кажется, будто он готов разразиться смехом, но не решается. В
— Говоря по правде, я вознамерился отвезти тебя к себе в Цуруга, — произнес наконец Тосихито и, рассмеявшись, указал плетью куда-то вдаль. Там ослепительно сверкнуло под лучами солнца озеро Оми.
Гои растерялся.
— Вы изволили сказать — в Цуруга? Ту, что в провинции Этидзэн? Ту самую?
Он уже слышал сегодня, что Тосихито, ставши зятем цуругского Фудзивара Арихито, большею частью живет в Цуруга. Однако до сего момента ему и в голову не приходило, что Тосихито потащит его туда. Прежде всего, разве возможно благополучно добраться до провинции Этидзэн, лежащей за многими горами и реками, вот так — вдвоем, в сопровождении всего лишь двух слуг? Да еще в такие времена, когда повсеместно ходят слухи о несчастных путниках, убитых разбойниками... Гои умоляюще поглядел на Тосихито.
— Да как же это так? — проговорил он. — Я думал, что надо ехать до Хпгасияма, а оказалось, что едем до Ямасина. Доехали до Ямасина, а оказалось, что надо в Миидэра... И вот теперь вы говорите, что надо в Цуруга, в провинцию Этидзэн... Как же так... если бы вы хоть сразу сказали, а то потащили с собой, как холопа какого-нибудь... В Цуруга, это же нелепо...
Гои едва не плакал. Если бы надежда «нажраться бататовой каши» не возбудила его смелости, он, вероятно, тут же оставил бы Тосихито и повернул обратно в Киото. Тосихито же, видя его смятение, слегка сдвинул брови и насмешливо сказал:
— Раз с тобой Тосихито, считай, что с тобой тысяча человек. Не беспокойся, ничего не случится в дороге.
Затем он подозвал оруженосца, принял от него колчан и повесил за спину, взял у него лук, блестевший черным лаком, и положил перед собой поперек седла, тронул коня и поехал вперед. Лишенному самолюбия гои ничего не оставалось, кроме как подчиниться воле Тосихито. Боязливо поглядывая на пустынные просторы окрест себя, он бормотал полузабытую сутру «Каннон-кё», красный нос его почти касался луки седла, и он однообразно раскачивался в такт шагам своей нерезвой лошади.
51
Равнина, эхом отдающая стук копыт, была покрыта зарослями желтого мисканта. Там и сям виднелись лужи, в них холодно отражалось голубое небо, и потому никак не верилось, что они покроются льдом в этот зимний вечер. Вдали тянулся горный хребет, солнце стояло позади него, и он представлялся длинной темно-лиловой тенью, где не было уже заметно обычного сверкания неста-явшего снега. Впрочем, унылые кущи мисканта то и дело скрывали эту картину от глаз путешественников... Вдруг Тосихито, повернувшись к гои, живо сказал:
— А вот и подходящий посыльный нашелся! Сейчас я передам с ним поручение в Цуруга.
Гои не понял, что имеет в виду Тосихито. Он со страхом поглядел в ту сторону, куда Тосихито указывал своим луком, но по-прежнему нигде не было видно ни одного человека. Только одна лисица лениво пробиралась через густую лозу, отсвечивая теплым цветом шубки на закатном солнце. В тот момент, когда он ее заметил, она испуганно подпрыгнула и бросилась бежать — это Тосихито, взмахнув плеткой, пустил к ней вскачь своего коня. Гои, забыв обо всем, помчался следом. Слуги, конечно, тоже не задержались. Некоторое время равнина оглашалась дробным стуком копыт по камням, затем наконец Тосихито остановился. Лисица была уже поймана. Он держал ее за задние лапы, и она висела вниз головой у его седла. Вероятно, он гнал ее до тех пор, пока она могла бежать, а затем догнал и схватил. Гои, возбужденно вытирая пот, выступивший в реденьких усах, подъехал к нему.
— Ну, лиса, слушай меня хорошенько! — нарочито напыщенным тоном произнес Тосихито, подняв лису перед своими глазами. — Нынче же ночью явишься ты в поместье цуругского Тосихито и скажешь там так: «Тосихито вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи выслать ему навстречу в Та-касима людей, да с ними пригнать двух коней под седлами». Запомнила?
С последним словом он разок встряхнул лису и зашвырнул ее далеко в заросли кустарника. Слуги, к тому времени уже нагнавшие их, с хохотом захлопали в ладоши и заорали ей вслед: «Пошла! Пошла!» Зверек, мелькая шкуркой цвета опавших листьев, удирал со всех ног, не разбирая дороги среди камней и корней деревьев. С того места, где стояли люди, все было видно как на ладони, потому что как раз отсюда равнина начинала плавно понижаться и переходила в русло высохшей реки.
— Отменный посланец, — проговорил гои.
Он с наивным восхищением и благоговением взирал снизу вверх на лицо этого дикого воина, который даже лисицу обводит
52
вокруг пальца. О том, в чем состоит разница между ним и Тосихито, он не имел времени подумать. Он только отчетливо ощущал, что пределы, в которых властвует воля Тосихито, очень широки, и его собственная воля тоже теперь заключена в них и свободна лишь постольку, поскольку это допускает воля Тосихито... Лесть в таких обстоятельствах рождается, видимо, совершенно естественным образом. И впредь, даже отмечая в поведении красноносого гои шутовские черты, не следует только из-за них опрометчиво сомневаться в характере этого человека.
Отброшенная лисица кубарем сбежала вниз по склону, ловко проскользнула между камнями через русло пересохшей реки и по диагонали вынеслась на противоположный склон. На бегу она обернулась. Самураи, поймавшие ее, все еще возвышались на своих конях на гребне далекого склона. Они казались маленькими, не больше чем в палец величиной. Особенно отчетливо были видны гнедой и буланый: облитые вечерним солнцем, они были нарисованы в морозном воздухе.
Лисица оглянулась снова и вихрем понеслась сквозь заросли сухой травы.
* * *
Как и предполагалось, на следующий день в час Змеи путники подъехали к Такасима. Это была тихая деревушка у вод озера Бив а, несколько соломенных крыш, разбросанных там и сям под хмурым, не таким, как вчера, заволоченным тучами небом. В просветы между соснами, росшими на берегу, холодно глядела похожая на неотполированное зеркало поверхность озера, покрытая легкой пепельной рябью. Тут Тосихито обернулся к гои и сказал:
— Взгляни туда. Нас встречают мои люди.
Гои взглянул — действительно, между соснами с берега к ним спешили двадцать — тридцать человек верховых и пеших, с развевающимися на зимнем ветру рукавами, ведя в поводу двух коней под седлами. Остановившись на должном расстоянии, верховые торопливо сошли с коней, пешие почтительно склонились у обочины, и все стали с благоговением ожидать приближения Тосихито.
— Я вижу, лиса выполнила ваше поручение.
— У этого животного натура оборотня, выполнить такое поручение для нее раз плюнуть.
Так, разговаривая, Тосихито и гои подъехали к ожидающей челяди.
— Стремянные! — произнес Тосихито.
Почтительно склонившиеся люди торопливо вскочили и взялн коней под уздцы. Все вдруг сразу возликовали.
53
Тосихито и гои сошли на землю. Едва они уселись на меховую подстилку, как перед лицом Тосихито встал седой слуга в коричневом суйкане и сказал:
— Странное дело приключилось вчера вечером.
— Что такое? — лениво осведомился Тосихито, передавая гои поднесенные слугами ящички вариго с закусками и бамбуковые фляги.
— Позвольте доложить. Вчера вечером в час Пса госпожа неожиданно потеряла сознание. В беспамятстве она сказала: «Я — лиса из Сакамото. Приблизьтесь и хорошенько слушайте, я передаю вам то, что сказал сегодня господин». Когда все собрались, госпожа соизволила сказать такие слова: «Господин вознамерился вдруг пригласить к себе гостя. Завтра к часу Змеи вышлите ему навстречу в Такасима людей, да с ними пригоните двух коней под седлами».
— Это поистине странное дело, — согласился гои, чтобы доставить удовольствие господину и слуге, а сам переводил зоркий взгляд с одного на другого.
— Это еще не все, что соизволила сказать госпожа. После этого она устрашающе затряслась, вакричала: «Не опоздайте, иначе господин изгонит меня из родового дома!» — а затем безутешно заплакала.
— Что же было дальше?
— Дальше она погрузилась в сон. Когда мы выезжали, она еще не изволила пробудиться.
— Каково? — с торжеством произнес Тосихито, обернувшись к гои, когда слуга замолчал. — Даже звери служат Тосихито!
— Остается только подивиться, — отозвался гои, склонивши голову и почесывая свой красный нос. Затем, изобразив на своем лице крайнее изумление, он застыл с раскрытым ртом. В усах его застряли капли сакэ.
* * *
Прошел день, и наступила ночь. Гои лежал без сна в одном из помещений усадьбы Тосихито, уставясь невидящим взглядом на огонек светильника. В душе его одно за другим проплывали впечатления вечера накануне — Мацуяма, Огава, Карэно, которые они проезжали на пути сюда, болтая и смеясь, запахи трав, древесной листвы, камней, дыма костров, на которых жгли прошлогоднюю ботву; и чувство огромного облегчения, когда они подъехали наконец к усадьбе и сквозь вечерний туман он увидел красное пламя углей в длинных ящиках. Сейчас, в постели, обо всем этом думалось как о чем-то далеком и давнем. Гои с наслажде-
54
нием вытянул ноги под желтым теплым плащом и мысленным взором задумчиво обозрел свое нынешнее положение.
Под нарядным плащом на нем были два подбитых ватой кимоно из блестящего шелка, одолженные Тосихито. В одной этой одежде так тепло, что можно даже, пожалуй, вспотеть. А тут еще поддает жару сакэ, в изобилии выпитое за ужином. Там, прямо за ставней у изголовья, раскинулся широкий двор, весь блестящий от инея, но в таком вот блаженном состоянии это не страшно. Огромная разница по сравнению с теми временами, скажем, когда он был в Киото учеником самурая. И все же в душе нашего гои зрело какое-то несообразное беспокойство. Во-первых, время тянулось слишком медленно. А с другой стороны, он чувствовал себя так, словно ему вовсе не хочется, чтобы рассвет — и час наслаждения бататовой кашей — наступил поскорее. И в столкновении этих противоречивых чувств возбуждение, овладевшее им из-за резкой перемены обстановки, улеглось, застыло, под стать сегодняшней погоде. Все это, вместе взятое, мешало ему и отнимало надежду на то, что даже вожделенное тепло даст ему возможность заснуть.
И тут во дворе раздался громовой голос. Судя по всему, голос принадлежал тому самому седому слуге, который встречал их давеча на середине пути. Этот сухой голос, потому ли, что он звучал на морозе, был страшен, и гои казалось, будто каждое слово отдается у него в костях порывами ледяного ветра.
— Слушать меня, холопы! Во исполнение воли господина пусть каждый принесет сюда завтра утром к часу Зайца по мешку горных бататов в три суна толщиной и в пять сяку длиной! Не забудьте! К часу Зайца!
Он повторил это несколько раз, а затем замолк, и снаружи снова вдруг воцарилась зимняя ночь. В тишине было слышно, как шипит масло в светильнике. Трепетал огонек, похожий на ленточку красного шелка. Гои зевнул, пожевал губами и снова погрузился в бессвязные думы. Горные бататы было велено принести, конечно, для бататовой каши... Едва он подумал об этом, как в душу его опять вернулось беспокойное чувство, о котором он забыл, прислушиваясь к голосу во дворе. С еще большей силой, нежели раньше, ощутил он, как ему хочется по возможности оттянуть угощение бататовой кашей, и это ощущение зловеще укрепилось в его сознании. Так легко явился ему случай «нажраться бататовой каши», но терпеливое ожидание в течение стольких лет казалось теперь совершенно бессмысленным. Когда можешь поесть, тогда вдруг возникает какое-либо тому препятствие, а когда не можешь, это препятствие исчезает, и теперь хочется, чтобы вся процедура угощения, которого наконец дождался, прошла как-ни-
55
будь благополучно... Эти мысли, подобно волчку, неотвязно кружились в голове у гои, пока, истомленный усталостью, он не заснул внезапно мертвым сном.
Проснувшись на следующее утро, он сразу вспомнил о горных бататах, торопливо поднял штору и выглянул наружу. Видимо, он проспал, и час Зайца прошел уже давно. Во дворе на длинных циновках горой громоздились до самой крыши несколько тысяч предметов, похожих на закругленные бревна. Приглядевшись, он понял, что все это — невероятно громадные горные бататы толщиной в три суна и длиной в пять сяку.
Протирая заспанные глаза, он с изумлением, почти с ужасом тупо взирал на то, что делается во дворе. Повсюду на заново сколоченных козлах стояли рядами по пять-шесть больших котлов, вокруг которых суетились десятки женщин подлого звания в белых одеждах. Они готовились к приготовлению бататовой каши — одни разжигали огонь, другие выгребали золу, третьи, черпая новенькими деревянными кадушками, заливали в котлы виноградный сироп, и все мельтешили так, что в глазах рябило. Дым из-под котлов и пар от сиропа смешивались с утренним туманом, еще не успевшим рассеяться, и весь двор скоро заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось яркими красными пятнами только яростно бьющее под котлами пламя. Все, что видели глаза, все, что слышали уши, являло собой сцену страшного переполоха не то на побе боя, не то на пожаре. Гои с особенной ясностью мысли подумал о том, что вот эти гигантские бататы в этих гигантских котлах превратятся в бататовую кашу. И еще он подумал о том, что тащился из Киото сюда, в Цуруга, в далекую провинцию Этидзэн, специально для того, чтобы есть эту самую бататовую кашу. И чем больше он думал, тем тоскливее ему становилось. Достойный сострадания аппетит нашего гои к этому времени уже уменьшился наполовину.
Через час гои сидел за завтраком вместе с Тосихито и его тестем Арихито. Перед ним стоял один-единственный серебряный котелок, но котелок этот был до краев наполнен изобильной, словно море, бататовой кашей. Гои только недавно видел, как несколько десятков молодых парней, ловко действуя тесаками, искрошили одип за другим всю гору бататов, громоздившихся до самой крыши. Он видел, как служанки, суетливо бегая взад и вперед, свалили искрошенные бататы в котлы до последнего кусочка. Он видел, наконец, когда на циновках не осталось ни одного батата, как из котлов поплыли, изгибаясь, в ясное утреннее небо столбы горячего пара, напитанные запахами бататов и виноградного сиропа. Он видел все это своими глазами, и ничего удивительного не было в том, что теперь, сидя перед полным котелком и еще не прикос-
56
пувшись к нему, он уже чувствовал себя сытым... Он неловко вытер со лба пот.
— Тебе не приходилось поесть всласть бататовой каши, — произнес Арихито. — Приступай же без стеснения.
Он повернулся к мальчикам-слугам, и по его приказу на столе появилось еще несколько серебряных котелков. И все они до краев были наполнены бататовой кашей. Гои зажмурился, его красный нос покраснел еще сильнее, и он, погрузив в кашу глиняный черпак, через силу одолел половину котелка. Тосихито пододвинул ему полный котелок и сказал, безжалостно смеясь:
— Отец же сказал тебе. Валяй, не стесняйся.
Гои понял, что дело плохо. Говорить о стеснении не приходилось, он с самого начала видеть не мог этой каши. Половину котелка он, превозмогая себя, кое-как одолел. А дальше выхода не было. Если он съест еще хоть немного, то все попрет из глотки обратно, а если он откажется, то потеряет расположение Тосихито и Арихито. Гои снова зажмурился и проглотил примерно треть оставшейся половины. Больше он не мог проглотить ни капли.
— Покорно благодарю, — пробормотал он в смятении. — Я уже наелся досыта... Не могу больше, покорно благодарю.
У него был жалкий вид, на его усах и на кончике носа, как будто в разгар лета, висели крупные капли пота.
— Ты ел еще мало, — произнес Арихито и добавил, обращаясь к слугам: — Гость, как видно, стесняется. Что же вы стоите?
Слуги по приказу Арихито взялись было за черпаки, чтобы набрать каши из полного котелка, но гои, замахав руками, словно отгоняя мух, стал униженно отказываться.
— Нет, нет, уже довольно, — бормотал он. — Очень извиняюсь, но мне уже достаточно...
Вероятно, Арихито продолжал бы настоятельно потчевать гои, но в это время Тосихито вдруг указал на крышу дома напротив и сказал: «Ого, глядите-ка!» И это, к счастью, отвлекло всеобщее внимание. Все посмотрели. Крыша была залита лучами утреннего солнца. И там, купая глянцевитый мех в этом ослепительном свете, восседал некий зверек. Та самая лиса из Сакамото, которую поймал позавчера на сухих пустошах Тосихито.
— Лиса тоже пожаловала отведать бататовой каши, — сказал Тосихито. — Эй, кто там, дайте пожрать этой твари!
Приказ был немедленно выполнен. Лиса спрыгнула с крыши и тут же во дворе приняла участие в угощении.
Уставясь на лису, лакающую бататовую кашу, гои с грустью и умилением мысленно оглянулся на себя самого, каким он был до приезда сюда. Это был он, над кем потешались многие самураи. Это был он, кого даже уличные мальчишки обзывали красноно-
57
сым. Это был он, одинокий человечек в выцветшем суйкане и драных хакама, кто уныло, как бездомный пес, слонялся по улице Судзаку. И все же это был он, счастливый гои, лелеявший мечту поесть всласть бататовой каши... От сознания, что больше никогда в жизни он не возьмет в рот эту бататовую кашу, на него снизошло успокоение, и он ощутил, как высыхает на нем пот, и высохла даже капля на кончике носа. По утрам в Цуруга солнечно, однако ветер пробирает до костей. Гои торопливо схватился за нос и громко чихнул в серебряный котелок.
Август 1916 г.
Дело было в то время, когда я, возвратившись из дальнего плавания, уже готов был проститься со званием «хангёку» (так на военных кораблях называют кадетов). Это произошло на третий день после того, как наш броненосец вошел в порт Ёкосука, часа в три дня. Как всегда, громко протрубил рожок, призывавший на перекличку увольняемых на берег. Не успела у нас мелькнуть мысль: «Да ведь сегодня очередь сходить на берег правобортовым, а они уже выстроились на верхней палубе1» — как вдруг протрубили общий сбор. Общий сбор — дело нешуточное. Решительно ничего не понимая, мы бросились наверх, на бегу спрашивая друг друга, что случилось.
Когда все построились, помощник командира сказал нам так:
— За последнее время на нашем корабле появились случаи кражи. В частности, вчера, когда из города приходил часовщик, у кого-то пропали серебряные карманные часы. Поэтому сегодня мы произведем поголовный обыск команды, а также осмотрим личные вещи.
Вот что примерно он нам сказал. О случае с часовщиком я слышал впервые, но что у нас бывали покражи, это мы знали: у одного унтер-офицера и у двоих матросов пропали деньги.
Раз личный обыск, понятно, всем пришлось раздеться догола. Хорошо, что было только начало октября, когда кажется, что еще лето, — стоит лишь посмотреть, как ярко озаряет солнце буи, колышущиеся в гавани, — -и раздеваться не так уж страшно. Одна беда: у некоторых из тех, кто собирался на берег повеселиться, при обыске нашли в карманах порнографические открытки, превентивные средства. Они стояли красные, растерянные, не знали, куда деться. Кажется, двоих-троих офицеры побили.
Как бы там ни было, когда всей команды шестьсот человек, то для самого краткого обыска все-таки нужно время. И странное
58
же это было зрелище, более странного не увидишь: шестьсот человек, все голые, толпятся, заняв всю верхнюю палубу. Те, что с черными лицами и руками, — кочегары; в краже заподозрили было их, и теперь они с мрачным видом стояли в одних трусах: хотите, мол, обыскивать, так ищите где угодно.
Пока на верхней палубе заваривалась эта каша, на средней и нижней палубах начали перетряхивать вещи. У всех люков расставили кадетов, так что с верхней палубы вниз — ни ногой. Меня назначили производить обыск на средней и нижней палубах, и я с товарищами ходил, заглядывая в вещевые мешки и сундучки матросов. За все время пребывания на военном корабле таким делом я занимался впервые, и рыться в койках, шарить по полкам, где лежали вещевые мешки, оказалось куда хлопотнее, чем я думал. Тем временем некий Макита, тоже кадет, как и я, нашел украденные вещи. И часы и деньги лежали в ящике сигнальщика по имени Нарасима. Там же нашелся ножик с перламутровой ручкой, который пропал у стюарда.
Скомандовали «разойтись» и сейчас же после этого — «собраться сигнальщикам». Остальные, конечно, были рады-радешеньки. В особенности кочегары, на которых пало подозрение, — они чувствовали себя прямо счастливчиками. Но когда сигнальщики собрались, оказалось, что Нарасима среди них нет.
Я-то был еще неопытен и ничего этого не знал, но, как говорили, на военных кораблях не раз случалось, что украденные вещи находятся, а виновник — нет. Виновники, разумеется, кончают самоубийством, причем в девяти случаях из десяти вешаются в угольном трюме, в воду же редко кто бросается. Рассказывали, впрочем, что на нашем корабле был случай, когда матрос распорол себе живот, но его нашли еще живого и, по крайней мере, спасли ему жизнь.
Поскольку случались такие вещи, то, когда стало известно, что Нарасима исчез, офицеры струхнули. Я до сих пор живо помню, как переполошился помощник командира. Говорили, что в прошлой войне он показал себя настоящим героем, но сейчас он даже в лице изменился и так волновался, что прямо смешно было смотреть. Все мы презрительно переглянулись. Постоянно твердит о воспитании воли, а сам так раскис!
Сейчас же по приказу помощника командира начались поиски по всему кораблю. Ну, тут всех охватило особого рода приятное возбуждение. Совсем как у зевак, бегущих смотреть пожар. Когда полицейский отправляется арестовать преступника, неизменно возникает опасение, что тот станет сопротивляться, однако на военном корабле это исключено. Хотя бы потому, что между нами и матросами строго — так строго, что штатскому даже не понять, —
59
соблюдалось разделение на высших и низших, а субординация — великая сила. Охваченные азартом, мы сбежали вниз.
Как раз в эту минуту сбежал вниз и Макита и тоже с таким видом, что, мол, ужасно интересно, хлопнул меня сзади по плечу и сказал:
— Слушай, я вспомнил, как мы ловили обезьяну.
— Ничего, эта обезьяна не такая проворная, как та, все будет в порядке.
— Ну, знаешь, если мы будем благодушествовать, как раз и упустим — удерет.
— Пусть удирает. Обезьяна — она и есть обезьяна. Так, перебрасываясь шутками, мы спускались вниз.
Речь шла об обезьяне, которую во время кругосветного плавания получил в Австралии от кого-то в подарок наш комендор. За два дня до захода в Вильгельмсгафен она стащила у капитана часы и куда-то пропала, и на корабле поднялся переполох. Объяснялся он отчасти и тем, что во время долгого плавания все изнывали от скуки. Не говоря уж о комендоре, которого это касалось лично, все мы, как были в рабочей одежде, бросились обыскивать корабль — снизу, от самой кочегарки, доверху, до артиллерийских башен, словом, суматоха поднялась невероятная. К тому же на корабле было множество других животных и птиц, у кого — полученных в подарок, у кого — купленных, так что, пока мы бегали по кораблю, собаки хватали нас за ноги, пеликаны кричали, попугаи в клетках, подвешенных на канатах, хлопали крыльями, как ошалелые, — в общем, все было как во время пожара в цирке. В это время проклятая обезьяна вдруг выскочила откуда-то на верхнюю палубу и с часами в лапе хотела взобраться на мачту. Но у мачты как раз работали несколько матросов, и они, разумеется, ее не упустили. Один из них схватил ее за шею, и обезьяну без труда скрутили. Часы, если не считать разбитого стекла, остались почти невредимы. По предложению комендора обезьяну подвергли наказанию — двухдневной голодовке. Но забавно, что сам же комендор не выдержал и еще до истечения срока дал обезьяне моркови и картошки. «Как увидел ее такую унылую — хоть обезьяна, а все же жалко стало», — говорил он. Это, положим, непосредственно к делу не относится, но, принимаясь искать Нарасима, мы и в самом деле испытывали примерно то же, что и тогда в погоне за обезьяной.
Я первым достиг палубы. А на нижней палубе, как вы знаете, всегда неприятно темно. Лишь тускло поблескивают полированные металлические части и окрашенные железные листы. Кажется, будто задыхаешься, — прямо сил нет. В этой темноте я сделал несколько шагов к угольному трюму и едва не вскрикнул от не-
60
ожиданности: у входа в трюм торчала верхняя половина туловища. По-видимому, человек только что намеревался через узкий люк проникнуть в трюм и уже спустил ноги. С моего места я не мог разобрать, кто это, так как голова его была опущена» и я видел только плечи в синей матросской блузе и фуражку. К тому же в полутьме вырисовывался только его силуэт. Однако я инстинктивно догадался, что это Нарасима. Значит, он хочет сойти в трюм, чтобы покончить с собой.
Меня охватило необыкновенное возбуждение, невыразимо приятное возбуждение, когда кровь закипает во всем теле. Оно — как бы это сказать? — было точь-в-точь таким, как у охотника, когда он с ружьем в руках подстерегает дичь. Не помня себя, я подскочил к Нарасима и быстрей, чем кидается на добычу охотничья собака, обеими руками крепко вцепился ему в плечи.
— Нарасима!
Я выкрикнул это имя без всякой брани, без ругательств, и голос мой как-то странно дрожал. Нечего говорить, что это и в самом деле был виновный — Нарасима.
Нарасима, даже не пытаясь высвободиться из моих рук, все так же видимый из люка по пояс, тихо поднял голову и посмотрел на меня. Сказать «тихо» — этого мало. Это было такое «тихо», когда все силы, какие были, иссякли — и не быть тихим уже невозможно. В этом «тихо» таилась неизбежность, когда ничего больше не остается, когда бежать некуда, это «тихо» было как полусорванная рея, которая, когда шквал пронесется, из последних сил стремится вернуться в прежнее положение. Бессознательно разочарованный тем, нто ожидаемого сопротивления не последовало, и еще более этим раздраженный, я смотрел на это «тихо» поднятое лицо.
Такого лица я больше ни разу не видал. Дьявол, взглянув на него, заплакал бы — вот какое это было лицо! И даже после этих моих слов вы, не видевшие этого лица, не в состоянии себе его представить. Пожалуй, я сумею описать вам эти полные слез глаза. Может быть, вы сможете угадать, как конвульсивно подергивались мускулы рта, сразу же вышедшие из повиновения его воле. И само это потное, землисто-серое лицо — его я легко сумею изобразить. Но выражение, складывавшееся из всего этого вместе, это страшное выражение — его никакой писатель не опишет. Для вас, для писателя, я спокойно кончаю на этом свое описание. Я почувствовал, что это выражение как молния выжгло что-то у меня в душе — так сильно потрясло меня лицо матроса.
— Негодяй! Чего тебе тут надо? — сказал я.
И вдруг мои слова прозвучали так, словно «негодяй» — я сам. Что мог бы я ответить на вопрос: «Негодяй, чего тебе тут надо?» Кто мог бы спокойно сказать: «Я хочу сделать из этого человека
61
преступника»? Кто мог бы это сделать, глядя на такое лицо? Так, как я сейчас вам рассказываю, кажется, что это длилось долго, но на самом деле все эти самообвинения промелькнули у меня в душе за одну секунду. И вот в этот самый миг еле слышно, но отчетливо донеслись до моего слуха слова: «Мне стыдно».
Выражаясь образно, я мог бы сказать, что эти слова мне прошептало мое собственное сердце. Они отозвались в моих нервах, как укол иглы. Мне тоже стало «стыдно», как и Нарасима, и захотелось склонить голову перед чем-то, стоящим выше нас. Разжав пальцы, вцепившиеся в плечи Нарасима, я, как и пойманный мною преступник, с отсутствующим взглядом застыл над люком в трюм.
Остальное вы можете себе представить и без моего рассказа. Нарасима сейчас же посадили в карцер, а на другой день отправили в военную тюрьму в Урага. Не хочется об этом говорить, но заключенных там часто заставляют «таскать ядра». Это значит, что целыми днями они должны перетаскивать о места на место на расстояние нескольких метров чугунные шары весом в девятнадцать кило. Так вот, если говорить о мучениях, то мучительней этого для заключенных нет ничего. Помню, у Достоевского в «Мертвом доме», который вы мне когда-то давали прочесть, говорится, что если заставить арестанта много раз переливать воду из ушата в ушат, от этой бесполезной работы он непременно покончит с собой. А так как арестанты там действительно заняты такой работой, то остается лишь удивляться, что среди них не бывает самоубийц. Туда-то и попал этот сигнальщик, которого я поймал, — веснушчатый, робкий, тихий человечек...
Вечером, когда я с приятелями-кадетами стоял у борта и смотрел на таявший в сумерках порт, ко мне подошел Макита и шутливо сказал:
— Твоя заслуга, что взяли обезьяну живой. Должно быть, он думал, что в душе я этим горжусь.
— Нарасима — человек. Он не обезьяна, — ответил я резко и отошел от борта.
Остальные, конечно, удивились: мы с Макита еще в кадетском корпусе были друзьями и ни разу не ссорились.
Шагая по палубе от кормы к носу, я с теплым чувством вспомнил, как растерян был помощник командира, беспокоившийся о Нарасима. Мы относились к сигнальщику, как к обезьяне, а он ему по-человечески сочувствовал. И мы, дураки, еще презирали его — невыразимая глупость! У меня стало скверно на душе, я понурил голову. И опять зашагал по уже темной палубе от носа к корме, стараясь ступать как можно тише. А то, казалось мне, Нарасима, услышав в карцере мои бодрые шаги, оскорбится.
62
Выяснилось, что Нарасима совершал кражи из-за женщин. На какой срок его приговорили, я не знаю. Во всяком случае, несколько месяцев он просидел за решеткой: потому что обезьяну можно простить и освободить от наказания, человека же простить нельзя.
Август 1916 г.
Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Драматургию» Стриндберга.
Специальностью профессора было изучение колониальной политики. Поэтому то обстоятельство, что профессор читал «Драматургию», может показаться читателю несколько неожиданным. Однако профессор, известный не только как ученый, но и как педагог, непременно, насколько позволяло ему время, просматривал книги, не нужные ему по специальности, но в какой-то степени близкие мыслям и чувствам современного студенчества. Действительно, только по этой причине он недавно взял на себя труд прочесть «De profundis»1 и «Замыслы» Оскара Уайльда — книги, которыми зачитывались студенты одного института, где профессор по совместительству занимал пост директора. А раз у профессора было такое обыкновение, не приходится удивляться, что в данную минуту он читал книгу о современной европейской драме и европейских актерах. Дело в том, что у профессора были студенты, которые писали критические статьи об Ибсене, Стриндберге или Метерлинке, и даже энтузиасты, готовые по примеру этих драматургов сделать сочинение драм делом всей своей жизни.
Окончив особенно интересную главу, профессор каждый раз клал книгу в желтом холщовом переплете на колени и обращал рассеянный взгляд на свисавший с потолка фонарь-гифу. Странно, стоило профессору отложить книгу, как мысль его покидала Стриндберга. Вместо Стриндберга ему приходила на ум жена, с которой они покупали этот фонарь. Профессор женился в Америке, во время научной командировки, и женой его, естественно, была американка. Однако в своей любви к Японии и японцам она нисколько не уступала профессору. В частности, тонкие изделия японской художественной промышленности ей очень нравились. Поэтому висевший на веранде фонарь-гифу свидетельствовал не столько о вкусах профессора, сколько о пристрастии его жены ко всему японскому.
1 «Из глубины» (лат.).
63
Каждый раз, опуская книгу на колени, профессор думал о жене, о фонаре-гифу, а также о представленной этим фонарем японской культуре. Профессор был убежден, что за последние пятнадцать лет японская культура в области материальной обнаружила заметный прогресс. А вот в области духовной нельзя было найти ничего, достойного этого слова. Более того, в известном смысле замечался скорее упадок. Что же делать, чтобы найти, как велит долг современного мыслителя, пути спасения от этого упадка? Профессор пришел к заключению, что, кроме бусидо — этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо, это явилось бы вкладом в духовную культуру не только Японии. Это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом, что весьма ценно. И, возможно, способствовало бы делу международного мира. Профессору уже давно хотелось взять на себя, так сказать, роль моста между Востоком и Западом. Поэтому тот факт, что жена, фонарь-гифу и представленная этим фонарем японская культура гармонически сочетались у него в сознании, отнюдь не был ему неприятен.
Это чувство удовлетворения профессор испытывал уже не в первый раз, когда вдруг заметил, что хотя он продолжал читать, мысли его ушли далеко от Стриндберга. Он сокрушенно покачал головой и опять со всем прилежанием уставился в строчки мелкой печати. В абзаце, за который он только что принялся, было написано следующее:
«...Когда актер находит удачное средство для выражения самого обыкновенного чувства и таким образом добивается успеха, он потом уже, уместно это или неуместно, то и дело обращается к этому средству как потому, что оно удобно, так и потому, что оно приносит ему успех. Это и есть сценический прием...»
Профессор всегда относился к искусству, в частности к сценическому, с полным безразличием. Даже в японском театре он до этого года почти не бывал. Как-то раз в рассказе, написанном одним студентом, ему попалось имя Байко. Это имя ему, профессору, гордившемуся своей эрудицией, ничего не говорило. При случае он позвал этого студента и спросил:
— Послушайте, кто такой этот — Байко?
— Байко? Байко — актер театра Тэйкоку в Маруиоути. Сейчас он играет роль Мисао в десятом акте пьесы «Тайкоки», — вежливо ответил студент в дешевеньких хакама.
64
Поэтому и о различных манерах игры, которые Стривдберг критиковал своим простым и сильным слогом, у профессора собственного мнения совсем не имелось. Это могло интересовать его лишь постольку, поскольку ассоциировалось с тем, что он видел в театре на Западе во время своей заграничной командировки. По существу, он читал Стриндберга почти так же, как читает пьесы Бернарда Шоу учитель английского языка в средней школе, выискивая английские идиомы. Однако так или иначе, интерес есть интерес.
С потолка веранды свисает еще не зажженный фонарь-гифу. А в плетеном кресле профессор Хасэгава Киндзо читает «Драматургию» Стриндберга. Думаю, судя по этим двум обстоятельствам, читатель легко представит себе, что дело происходило после обеда в длинный летний день. Но это вовсе не значит, что профессор страдал от скуки. Сделать из моих слов такой вывод — значит намеренно стараться истолковать превратно чувства, с которыми я пишу... Но тут профессору пришлось прервать чтение Стриндберга на полуслове, — чистым наслаждениям профессора помешала горничная, доложившая вдруг о приходе посетителей. Как ни длинен день, люди, видимо, не успокоятся, пока не уморят профессора делами...
Отложив книгу, профессор взглянул на визитную карточку, поданную горничной. На картоне цвета слоновой кости было мелко написано: «Нисияма Токуко». Право, он как будто раньше с этой женщиной не встречался. У профессора был широкий круг знакомств, и, вставая с кресла, он на всякий случай перебрал в уме все вспомнившиеся ему имена. Однако ни одно подходящее не пришло ему в голову. Тогда профессор сунул визитную карточку в книгу вместо закладки, положил книгу на кресло и, беспокойно оправляя на себе легкое кимоно из шелкового полотна, опять мельком взглянул на висевший прямо перед ним фонарь-гифу. Вероятно, всякому случалось бывать в таком положении, и в подобных случаях ожидание более неприятно хозяину, который заставляет ждать, чем гостю, которого заставляют ждать. Впрочем, поскольку речь идет о профессоре, очень заботившемся о соблюдении своего достоинства, незачем особо оговаривать, что так обстояло всегда, даже если дело касалось и не такой незнакомой гостьи.
Выждав надлежащее время, профессор отворил дверь в приемную. Войдя, он выпустил дверную ручку, и почти в то же мгновение женщина лет сорока поднялась со стула ему навстречу. Гостья была одета в легкое кимоно лиловато-стального цвета, настолько изысканное, что профессор даже не мог его оценить; и там, где хаори из черного шелкового газа, слегка прикрывавшее гРУДь, расходилось, виднелась нефритовая застежка на поясе в
3 Акутагава Рюноскэ
65
форме водяного ореха. Что волосы у гостьи уложены в прическу «марумагэ» — это даже профессор, обычно не обращавший внимания на подобные мелочи, сразу заметил. Женщина была круглолица, с характерной для японцев янтарной кожей, по всей видимости — интеллигентная дама, мать семейства. При первом же взгляде профессору показалось, что ее лицо он уже где-то видел.
— Хасэгава, — любезно поклонился профессор: он подумал, что если они с гостьей уже встречались, то в ответ на его слова она об этом скажет.
— Я мать Нисияма Конъитирб, — ясным голосом представилась дама и вежливо ответила на поклон.
Нисияма Конъитиро профессор помнил. Это был один из студентов, писавших статьи об Ибсене и Стриндберге. Он, кажется, изучал германское право, но со времени поступления в университет ванялся вопросами идеологии и стал бывать у профессора. Весной он заболел воспалением брюшины и лег в университетскую больницу; профессор раза два его навещал. И не случайно профессору показалось, что лицо этой дамы он где-то видел. Жизнерадостный юноша с густыми бровями и эта дама были удивительно похожи друг на друга, словно две дыни.
— А, Нисияма-кун... вот как! — Кивнув, профессор указал на стул за маленьким столиком: — Прошу.
Извинившись за неожиданный визит и вежливо поблагодарив, дама села на указанный ей стул. При этом она вынула из рукава что-то белое, видимо, носовой платок. Профессор сейчас же предложил ей лежавший на столе корейский веер и сел напротив.
— У вас прекрасная квартира.
Дама с преувеличенным вниманием обвела взглядом комнату.
— О нет, разве только просторная.
Профессор, привыкший к таким похвалам, пододвинул гостье холодный чай, только что принесенный горничной, и сейчас же перевел разговор на сына гостьи.
— Как Нисияма-кун? Особых перемен в его состоянии нет?
— Н-нет...
Скромно сложив руки на коленях, дама умолкла на минуту, а потом тихо произнесла, — произнесла все тем же спокойным, ровным тоном:
— Да я, собственно, и пришла из-за сына, с ним случилось несчастье. Он был многим вам обязан...
Профессор, полагая, что гостья не пьет чай из застенчивости, решил, что лучше самому подать пример, чем назойливо, нудно угощать, и уже собирался поднести ко рту чашку черного чая.
66
Но не успела чашка коснуться мягких усов, как слова дамы поразили профессора. Выпить чай или не выпить?.. Эта мысль на мгновенье обеспокоила его совершенно независимо от мысли о смерти юноши. Но не держать же чашку у рта до бесконечности! Решившись, профессор залпом отпил полчашки, слегка нахмурился и сдавленным голосом проговорил:
— О, вот оно что!..
— ...и когда он лежал в больнице, то часто говорил о вас. Поэтому, хотя я знаю, что вы очень заняты, я все же взяла на себя смелость сообщить вам о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность...
— Нет, что вы...
Профессор поставил чашку, взял синий вощеный веер и с прискорбием произнес:
— Вот оно что! Какое несчастье! И как раз в том возрасте, когда все впереди... А я, не получая из больницы вестей, думал, что ему лучше... Когда же он скончался?
— Вчера был как раз седьмой день.
— В больнице?
— Да.
— Поистине неожиданно!
— Во всяком случае, все было сделано, все возможное, значит — остается только примириться с судьбой. И все же, когда это случилось, — я нет-нет да и начинала роптать. Нехорошо.
Во время разговора профессор вдруг обратил внимание на странное обстоятельство: ни на облике, ни на поведении этой дамы никак не отразилась смерть родного сына. В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка. Поэтому, если отвлечься от того, что она говорила, и только смотреть на нее, можно было подумать, что разговор идет о повседневных мелочах. Профессору это показалось странным.
...Очень давно, когда профессор учился в Берлине, скончался отец нынешнего кайзера, Вильгельм I. Профессор услышал об этом в своем любимом кафе, и, разумеется, известие не произвело на него особо сильного впечатления. С обычным своим энергичным видом с тросточкой под мышкой он возвращался к себе в пансионат, и тут, едва только открылась дверь, как двое детей хозяйки бросились к нему на шею и громко расплакались. Это была девочка лет двенадцати в коричневой кофточке и девятилетний мальчик в коротких синих штанишках. Не понимая, в чем дело, профессор, горячо любивший детей, стал гладить светловолосые головки и ласково утешать их, приговаривая: «Ну в чем дело, что
3*
67
случилось?» Но дети не унимались. Наконец, всхлипывая, они проговорили: «Дедушка-император умер!»
Профессор удивился тому, что смерть главы государства оплакивают даже дети. Но это заставило его задуматься не только над отношениями между царствующим домом и народом. На Западе его, японца, приверженца бусидо, постоянно поражала непривычная для его восприятия импульсивность европейцев в выражении чувств. Смешанное чувство недоверия и симпатии, которое он в таких случаях испытывал, он до сих пор не мог забыть, даже если бы хотел. А теперь профессор сам удивлялся тому, что дама не плачет.
Однако за первым открытием немедленно последовало второе. Это случилось, когда от воспоминаний об умершем юноше они перешли к мелочам повседневной жизни и вновь вернулись к воспоминаниям о нем. Вышло так, что бумажный веер, выскользнув из рук профессора, упал на паркетный пол. Разговор не был настолько напряженным, чтобы его нельзя было на минуту прервать. Поэтому профессор нагнулся за веером. Он лежал под столиком, как раз возле спрятанных в туфли белых таби гостьи.
В эту секунду профессор случайно взглянул на колени дамы. На коленях лежали ее руки, державшие носовой платок. Разумеется, само по себе это еще не было открытием. Но тут профессор заметил, что руки у дамы сильно дрожат. Он заметил, что она, вероятно, силясь подавить волнение, обеими руками изо всех сил комкает платок, так что он чуть не рвется. И, наконец, он заметил, что в тонких пальцах вышитые концы смятого шелкового платочка подрагивают, словно от дуновения ветерка. Дама лицом улыбалась, на самом же деле всем существом своим рыдала.
Когда профессор поднял веер и выпрямился, на лице его было новое выражение: чрезвычайно сложное, в какой-то мере театрально преувеличенное выражение, которое складывалось из чувства почтительного смущения оттого, что он увидел нечто, чего ему видеть не полагалось, и какого-то удовлетворения, проистекавшего из сознания этого чувства.
— Даже я, не имея детей, хорошо понимаю, как вам тяжело, — сказал профессор тихим, прочувствованным голосом, несколько напряженно запрокинув голову, как будто он смотрел на что-то ослепляющее.
— Благодарю вас. Но теперь, как бы там ни было, это непоправимо.
Дама слегка наклонила голову. Ясное лицо было по-прежнему озарено спокойной улыбкой.
68
* * *
Прошло два часа. Профессор принял ванну, поужинал, затем поел вишен и опять удобно уселся в плетеное кресло на веранде.
В летние сумерки долго еще держится слабый свет, и на просторной веранде с раскрытой настежь стеклянной дверью все никак не темнело. Профессор давно уже сидел в полусумраке, положив ногу на ногу и прислонившись головой к спинке кресла, и рассеянно глядел на красные кисти фонаря-гифу. Книга Стринд-берга снова была у него в руках, но, кажется, он не прочел ни одной страницы. Вполне естественно. Мысли профессора все еще были полны героическим поведением госпожи Нисияма Токуко.
За ужином профессор подробно рассказал обо всем жене. Он похвалил поведение гостьи, назвав его бусидо японских женщин. Выслушав эту историю, жена, любившая Японию и японцев, не могла не отнестись к рассказу мужа с сочувствием. Профессор был доволен тем, что нашел в жене увлеченную слушательницу. Теперь в сознании профессора на некоем этическом фоне вырисовывались уже три представления — жена, дама-гостья и фонарь-гифу.
Профессор долго пребывал в такой счастливой задумчивости. Но вдруг ему вспомнилось, что его просили прислать статью для одного журнала. В этом журнале под рубрикой «Письма современному юношеству» публиковались взгляды различных авторитетов на вопросы морали. Использовать сегодняшний случай и сейчас же изложить и послать свои впечатления?.. При этой мысли профессор почесал голову.
В руке, которой профессор почесал голову, была книга. Вспомнив о книге, он раскрыл ее на недочитанной странице, которая была заложена визитной карточкой. Как раз в эту минуту вошла горничная и зажгла над его головой фонарь-гифу, так что даже мелкую печать можно было читать без затруднения. Профессор рассеянно, в сущности, не собираясь читать, опустил глаза на страницу. Стриндберг писал:
«В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки. Это был прием двойной игры, заключавшийся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»
Профессор опустил книгу на колени. Он оставил ее раскрытой, и на странице все еще лежала карточка Нисияма Токуко. Но мысли профессора были заняты уже не этой дамой. И не женой, и не японской культурой. А чем-то еще неясным, что грозило разрушить безмятежную гармонию его мира. Сценический прием, мимоходом высмеянный Стриндбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намеке, скрытом в про-
69
читанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодушие разнеженного ванной профессора. Бусидо и этот прием...
Профессор недовольно покачал головой и стал снова смотреть вверх, на яркий свет разрисованного осенними травами фона-ря-гифу.
Сентябрь 1916 г.
Когда-то давным-давно японцы о табаке и понятия не имели. Свидетельства хроник о времени, в какое попал он в нашу страну, крайне разноречивы. В одних говорится, что это произошло в годы Кэйте, в других — что это случилось в годы Тэммон. Правда, уже к десятому году Кэйтё табак в нашей стране выращивался, видимо, повсеместно. Насколько курение табачных листьев вошло тогда в обычай, свидетельствует популярная песенка времен Бунроку:
Неслыханно!
На картишки — запрет,
На табак — запрет!
Лекаришка
Имя китайское нацепил.
Кто же привез табак в Японию? Чьих это рук дело? Историки — о, те отвечают единодушно: или португальцы, или испанцы. Есть, однако, и другие ответы на этот вопрос. Один из них содержится в сохранившейся от тех времен легенде. Согласно этой легенде, табак в Японию привез откуда-то дьявол. И дьявол этот проник в Японию, сопутствуя некоему католическому патеру (скорее всего святому Франциску).
Быть может, приверженцы христианской религии обвинят меня в клевете на их патера. И все же осмелюсь сказать, что упомянутая легенда весьма похожа на правду. Почему? Ну посудите сами, ведь если вместе с богом Южных Варваров в Японии является и дьявол Южных Варваров, естественно, что вместе с благом из Европы к нам обычно попадает и европейская скверна.
Я вряд ли смогу доказать, что табак в Японию привез именно дьявол. Но сумел же дьявол, как писал о том Анатоль Франс, соблазнить некоего деревенского кюре с помощью куста резеды. Как раз это последнее обстоятельство и принудило меня окончательно усомниться в том, что история о табаке и дьяволе — совершенная ложь. Впрочем, окажись она все-таки ложью, сколь неправ был бы тот, кто не увидел бы в этой лжи хотя малой доли истины.
Вот почему я и решился поведать здесь историю о том, как попал табак в нашу страну.
70
* * *
В восемнадцатом году Тэммон дьявол, оборотившись миссионером, спутником Франциска Ксавье, благополучно одолел длинный морской путь и прибыл в Японию...
Миссионером он обернулся вот как. Однажды, когда «черный корабль» остановился то ли близ Амакава, то ли еще где-то, один из миссионеров вздумал сойти на берег. Не зная об этом, корабельщики отправились далее без него. Тут-то наш дьявол, который висел себе вниз головой, уцепившись хвостом за рею, и вынюхивал все, что творилось на корабле, принял облик отставшего спутника и стал усердно прислуживать святому Франциску. Для маэстро, который явился доктору Фаусту гусаром в багряном плаще, это был сущий пустяк...
Однако, приехав в нашу страну, дьявол убедился, что увиденное никак не вяжется с тем, что он в бытность свою в Европе прочел в «Записках» Марко Поло.
Так, например, в «Записках» говорилось, что в Японии полно золота, но сколь ни прилежно глядел дьявол кругом себя, золота он так и не заметил. А когда так, рассудил он, поскребу-ка я легонько святое распятие, и у меня будет золото, — хоть этим соблазню будущую паству.
Далее в «Записках» утверждалось, будто японцы постигли тайну воскрешения из мертвых посредством силы жемчуга или еще чего-то в этом роде. Увы! И здесь Марко Поло, по всей видимости, соврал. А если и это ложь, то стоит плюнуть в каждый колодец, как вспыхнет эпидемия страшной болезни и люди от безмерных страданий и думать забудут об этом самом парайсо.
Так думал про себя дьявол, следуя за святым Франциском, удовлетворенным взглядом окидывая местность и довольно улыбаясь.
Правда, был в его затее некий изъян. И с ним даже он, дьявол, совладать не мог. Дело в том, что Франциск Ксавье попросту не успел еще начать свои проповеди, — стало быть, не появились еще вновь обращенные, а значит, дьявол не имел пока достойного противника, иными словами, ему некого было соблазнять. Есть от чего прийти в уныние, будь ты хоть тысячу раз дьявол! И самое главное — он положительно не представлял себе, как ему провести первое, самое скучное время.
Он и так раскидывал, и этак и решил наконец, что займется полеводством. В ушах у него хранились семена самых разных злаков и цветов: он припас их загодя, отправляясь в путь из Европы; арендовать поблизости клочок земли не представляло труда. К тому
71
же сам святой Франциск признал это занятие вполне достойным. Святой, конечно, не сомневался, что служка его намерен вырастить в Японии какое-нибудь целебное растение.
Дьявол сразу же занял у кого-то мотыгу и с превеликим усердием начал вскапывать придорожное поле.
Стояли первые весенние дни, обильная дымка льнула к земле, и звуки дальнего колокола тянулись в ней и наводили дрему. Колокола адесь звучали мелодично, мягко, не в пример тем, к которым привык дьявол на Западе и которые бухали в самое темя. Но если бы вы решили, что дьявол поддался покою здешних мест и умилился духом, вы бы, наверное, ошиблись.
Буддийский колокол заставил его поморщиться еще более недовольно, нежели в свое время звонипца св. Павла, и он с удвоенным рвением продолжал рыхлить свое поле. Эти мирные звуки колокола, эти гармонично льющиеся с горних высот солнечные лучи странным образом размягчали сердце. Мало того что здесь! пропадала всякая охота творить добро, — исчезало малейшее желание чинить зло! Стоило ехать так далеко, чтобы соблазнять японцев!
Вот почему дьявол, который и всегда-то презирал труд, так что даже сестра дурака Ивана укоряла его, говоря, что не нажил он мозолей на ладонях своих, ныне столь усердно махал мотыгой, — он хотел прогнать от себя нравственную лень, грозившую захватить плоть его.
Некоторое время спустя дьявол закончил рыхление поля и бросил в готовые борозды семена, привезенные им в ушах,
* * *
Прошло несколько месяцев, и семена, посеянные дьяволом, пустили ростки, вытянули стебли, а к концу лета широкие листья укрыли все поле. Названия растения не знал никто. Даже когда сам святой Франциск вопрошал дьявола, тот лишь ухмылялся и молчал.
Меж тем на кончиках стеблей густо повисли цветы. Они имели форму воронки и были бледно-лилового цвета. Глядя, как распускаются бутоны, дьявол испытывал страшную радость. Ежедневно после утренней и вечерней служб он приходил на поле и старательно ухаживал за цветами.
И вот однажды (это случилось в отсутствие святого Франциска, уехавшего на проповеди) мимо поля, таща за собой пегого бычка, проходил некий торговец скотом. За плетнем, там, где густо разрослись бледно-лиловые цветы, он увидел миссионера в черной рясе и широкополой шляпе; тот очищал листья растений от насе-
72
комых. Цветы сильно удивили торговца. Он невольно остановился, снял шляпу и вежливо обратился к миссионеру:
— Послушайте, достопочтенный святой! Что это за цветы, позвольте узнать?
Служка оглянулся. Короткий нос, глазки маленькие, вид у красноволосого был наидобродушнейший.
— Эти?
— Они самые, ваша милость.
Красноволосый подошел к плетню и отрицательно покачал головой. Затем на непривычном для него японском языке ответил:
— Весьма сожалею, но названия цветка открыть не могу.
— Эка незадача! Может, святой Франциск сказывал вашей милости, чтобы ваша милость не говорила об этом мне?
— Не-ет! Дело совсем в другом.
— Так скажите мне хоть одно словечко, ваша милость. Ведь и меня просветил святой Франциск и обратил к вашему богу.
Торговец с гордостью ткнул себя в грудь. С его шеи, поблескивая на солнце, свисал маленький латунный крестик. Вероятно, блеск его был слишком резок, иначе от чего бы миссионер опустил голову. Потом, голосом, полным сугубого добродушия, миссионер то ли в шутку, то ли всерьез сказал:
— Увы, ничего не выйдет, любезный. Этого не должен знать никто на свете — таков уж порядок, заведенный в моей стране. Разве вот что — попробуй-ка ты сам угадать! Ведь японцы мудры! Угадаешь — все, что растет на поле, твое.
«Уж не смеется ли надо мной красноволосый?»—подумал торговец.
С улыбкой на загорелом лице он почтительно склонился перед миссионером.
— Что это за штука — ума не приложу! Да и не могу я отгадать так быстро.
— Можно и не сегодня. Даю тебе три дня сроку, подумай хорошенько. Можешь даже справиться у кого-нибудь. Мне все равно. Угадай — и все это отойдет тебе. Да еще в придачу красного вина получишь. Или, ежели хочешь, подарю тебе красивых картинок, где нарисован парайсо и все святые.
Торговца, очевидно, испугала такая настойчивость:
— Ну, а коли не угадаю, тогда как?
— Коли не угадаешь?.. — Тут миссионер сдвинул шляпу на затылок, помахал ладошкой и рассмеялся. Рассмеялся так резко, будто ворон закаркал. Торговца даже удивил его смех. — Что ж, коли не угадаешь, тогда и я с тебя что-нибудь возьму. Так как же? По душе тебе такая сделка? Угадаешь или не угадаешь? Угадаешь — все твое.
73
И в голосе его прозвучало прежнее добродушие.
— Ладно, ваша милость, пусть так. А уж я расстараюсь для вашей милости, все отдам, чего ни пожелаете.
— Неужто все? Даже своего бычка?
— Коли вашей милости этого довольно будет, так хоть сейчас берите! — Торговец ухмыльнулся и хлопнул бычка по лбу. По-видимому, он был совершенно уверен, что добродушный служка решил над ним подшутить. — Зато, если выиграю я, то получу всю эту цветущую траву.
— Ладно, ладно. Итак, по рукам?!
— По рукам, ваша милость. Клянусь в том именем господина нашего Дзэсусу Кирисито.
Маленькие глаза миссионера сверкнули, и он довольно пробормотал себе что-то под нос. Затем, упершись левой рукой в бок и слегка выпятив грудь, он правой рукою коснулся светло-лиловых лепестков и сказал:
— Но если ты не угадаешь, получу я с тебя и душу твою, и тело.
С этими словами миссионер плавным движением руки снял шляпу. В густых волосах торчала пара рожек, совершенно козлиных. Торговец побледнел и выронил шляпу. Листья и цветы неведомого растения потускнели — оттого, быть может, что солнце в этот миг спряталось за тучу. Даже пегий бычок, как будто испугавшись чего-то, наклонил голову и глухо заревел; сама земля, казалось, подала голос.
— Так вот, любезный! Хоть ты обещал это мне, обещание есть обещание. Не так ли?! Ведь ты поручился именем, произнести которое мне не дано. Помни же о своей клятве. Сроку тебе — три дня. А теперь прощай.
Дьявол говорил учтивым тоном, и в самой учтивости его заключена была пренебрежительная усмешка. Затем он отвесил торговцу подчеркнуто вежливый поклон.
* * *
Тут-то, к горести своей, понял торговец, что как последний простак дал дьяволу себя провести. Если так и дальше пойдет, не миновать ему лап нечистого и будет он жариться на «негасимом адском огне». Выходит, напрасно он отбился от прежней веры и принял крещенье. И клятву нарушить никак нельзя — ведь он поклялся именем Дзэсусу Кирисито! Конечно, будь здесь святой Франциск, уж как-нибудь бы все обошлось, но святой Франциск, вот горе-то, был далеко! Три ночи не смыкал торговец глаз. Он измышлял способ разрушить дьявольские ковы и не приду-
74
мал ничего лучшего, как любою ценой добыть имя странного цветка. Но кто скажет ему имя, которого не знал и сам святой Франциск!
Поздним вечером того дня, когда истекал срок договора, торговец, таща за собой неизменного пегого бычка, явился потихоньку к дому миссионера. Дом стоял вблизи поля и окнами был обращен к дороге. Миссионер, наверное, уже спал. Ни единой полоски света не просачивалось из его дома. Светила луна, однако было чуть пасмурно, и на тихом поле сквозь ночной полумрак там и сям виднелись унылые светло-лиловые цветы. Служка имел некий план, не слишком, правда, надежный, но при виде этого грустного места он почувствовал странную робость и решил было удрать, пока не поздно. Когда же он вообразил себе, что за теми дверьми спит господин с козлиными рожками и видит там свои адские сны, последние остатки храбрости, столь тщательно им хранимые, покинули его. Но не икать же от слабости душевной, когда душа и тело твое вот-вот угодят в лапы нечистого.
И тогда торговец, всецело положась на защиту Бирудзэн Марии, приступил к выполнению своего плана. А план был весьма прост. Развязав веревку, на которой он держал пегого бычка, торговец со всей силы пнул его ногой в зад.
Пегий бычок подпрыгнул, разломал плетень и пошел топтаться по всему полю, не забыв при этом несколько раз хорошенько боднуть и стену дома. Топот и рев, колебля слабый ночной туман, разнеслись далеко вокруг. Одно из окон распахнулось... Лица в темноте видно не было, но наверняка там стоял сам дьявол в обличье миссионера. На голове его торчали рога. Впрочем, торговцу, быть может, это только померещилось.
— Какая скотина топчет там мой табак? — спросонья закричал дьявол, размахивая руками. Он был чрезвычайно разгневан, — кто-то осмелился прервать его сон. Но торговцу, прятавшемуся за полем, его хриплая ругань показалась гласом божьим: — Какая скотина топчет там мой табак!!!
* * *
Дальнейшие события развивались вполне счастливо, как и во всех подобного рода историях. Угадав название цветка, торговец оставил дьявола в дураках. Весь табак, возросший на его поле, он забрал себе. Вот и все.
Но тут я задумался, не таит ли старинная эта легенда более глубокого смысла. Пусть дьяволу не удалось заполучить душу и тело торговца, зато он распространил табак по всей нашей стране. То есть, я хочу сказать, не сопутствовал ли поражению дьявола
75
успех, равно как спасению торговца падение. Дьявол, коли уж упадет, даром не встанет. И разве не бывает так, что человек, уверенный, будто поборол искушение, неожиданно для себя оказывается его рабом?
Попутно, очень коротко, расскажу о дальнейшей судьбе дьявола. По возвращении своем святой Франциск силою священной пентаграммы изгнал дьявола из пределов страны. Но и после этого он появлялся то тут, то там в обличье миссионера. Согласно одной из хроник, он частенько наведывался в Киото как раз тогда, когда там возводился храм Намбандзи. Существует версия, будто Касин Кодзи, тот самый, который поднял на смех Мацу нага Дандзё, и был этим дьяволом. Впрочем, дабы не отнимать драгоценного времени, я отсылаю вас к трудам достопочтенного Леф-кадио Хёрна. После того как Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру, кое-кто еще видел дьявола, но потом он исчез совершенно. На этом свидетельства хроник о нем обрываются. Жаль только, что мы ничего не знаем о деятельности дьявола, когда он появился в Японии вновь, после Мэйдзи...
21 октября 1916 в,
MENSURA ZOILI1
Я сижу за столом посреди пароходного салона, напротив какого-то странного человека.
Погодите! Я говорю — пароходный салон, но я в этом не уверен. Хотя море за окном и вся обстановка вызывают такое предположение, но я допускаю, что, может быть, это и обыкновенная комната. Нет, все же это пароходный салон! Иначе бы так! не качало. Я не Киносита Мокутаро и не могу определить с точностью до сантиметра высоту качки, но качка, во всяком случае, есть. Если вам кажется, что я вру, взгляните, как за окном то подымается, то опускается линия горизонта. Небо пасмурно, и по морю широко разлита зеленая муть, но та линия, где муть моря сливается с серыми облаками, качающейся хордой перерезывает круг иллюминатора. А те существа одного цвета с небом, что плавно пролетают среди мути, — это, вероятно, чайки.
Но возвращаюсь к странному человеку напротив меня. Сдвинув на нос сильные очки для близоруких, он со скучающим видом уставился в газету. У него густая борода, квадратный подбородок, и я, кажется, где-то видел его, но никак не могу вспомнить, где именно. По длинным, косматым волосам его можно было бы
1 Мера Зоила (лат.).
76
принять за писателя или художника. Однако с этим предположением не вяжется его коричневый пиджак.
Некоторое время я украдкой посматривал на этого человека и маленькими глотками пил из рюмки европейскую водку. Мне было скучно, заговорить с ним хотелось ужасно, но из-за его крайне нелюбезного вида я все не решался.
Вдруг господин с квадратным подбородком вытянул ноги и произнес, как будто подавляя зевоту:
— Скучно! — Затем, кинув на меня взгляд из-под очков, он опять принялся за газету. В эту минуту я был почти уверен, что где-то с ним встречался.
В салоне, кроме нас двоих, никого не было.
Немного погодя этот странный человек опять произнес:
— Ох, скучно! — На этот раз он бросил газету на стол и стал рассеянно смотреть, как я пью водку. Тогда я сказал:
— Не выпьете ли рюмочку?
— Благодарю... — Не отвечая ни «да», ни «нет», он слегка поклонился. — Ну и скука! Пока доедешь, прямо помрешь.
Я согласился с ним.
— Пока мы ступим на землю Зоилии, пройдет больше недели. Мне пароход надоел до отвращения.
— Как? Зоилии?
— Ну да, республики Зоилии.
— Разве есть такая страна — Зоилия?
— Признаюсь — удивлен! Вы не знаете Зоилии? Не ожидал. Не знаю, куда вы собрались ехать, но только этот пароход заходит в гавань Зоилии по обычному, старому маршруту.
Я смутился. В сущности, я не знал даже, зачем я на этом пароходе. А уж «Зоилия» — такого названия я никогда раньше не слыхал.
— Вот как?..
— Ну разумеется! Зоилия — исстари знаменитая страна. Как вы знаете, Гомера осыпал отчаянными ругательствами один ученый именно из этой страны. До сих пор в столице Зоилии стоит прекрасная мемориальная доска в его честь.
Я был поражен эрудицией, которой никак не ожидал, судя по его виду.
— Значит, это очень древнее государство?
— О да, очень древнее! Если верить мифам, в этой стране сначала жили одни лягушки, но Афина-Паллада превратила их в людей. Поэтому некоторые утверждают, что голоса жителей Зоилии похожи на лягушечье кваканье. Впрочем, это не совсем достоверно. Кажется, в летописях самое раннее упоминание о Зоилии связано с героем, отвергавшим Гомера.
77
— Значит, теперь это довольно культурная страна?
— Разумеется. Например, университет в столице Зоилии, где собран цвет ученых, не уступает лучшим университетам мира. И в самом деле, такая вещь, как измеритель ценности, недавно изобретенный тамошними профессорами, слывет новейшим чудом света. Впрочем, я это говорю со слов «Вестника Зоилии».
— Что это такое — «измеритель ценности»?
— Буквально: аппарат для измерения ценности. Правда, он, кажется, применяется главным образом для измерения ценности романов или картин.
— Какой ценности?
— Главным образом — художественной. Правда, он может измерять и ценности другого рода. В Зоилии, в честь знаменитого предка, аппарат назвали mensura Zoili.
— Вы его видели?
— Нет. Только на иллюстрации в «Вестнике Зоилии»... По внешнему виду он ничем не отличается от обыкновенных медицинских весов. На платформу, куда обычно становится человек, кладут книги или полотна. Рамы и переплеты немного мешают измерениям, но потом на них делают поправку, так что все в порядке.
— Удобная вещь!
— Очень удобная. Так сказать, орудие культуры! — Человек с квадратным подбородком вынул из кармана папиросу и сунул в рот. — С тех пор как изобрели эту штуку, всем этим писателям и художникам, которые, торгуя собачьим мясом, выдают его за баранину, всем им — крышка. Ведь размер ценности наглядно обозначается в цифрах. Весьма разумно поступил народ Зоилии, немедленно установив этот аппарат на таможнях.
— Это почему же?
— Потому что все рукописи и картины, которые ввозят из-за границы, проверяются на этом аппарате, и вещи, лишенные ценности, ввозить не разрешают. Говорят, недавно в одно и то же время проверяли вещи, привезенные из Японии, Англии, Германии, Австрии, Франции, России, Италии, Испании, Америки, Швеции, Норвегии и других стран, и, по правде сказать, результат для японских вещей, кажется, получился неважный. А ведь на наш пристрастный взгляд в Японии есть писатели и художники как будто сносные...
Во время этого разговора дверь отворилась, и в салон вошел негр-бой с пачкой газет под мышкой. Это был проворный малый в легком темно-синем костюме. Бой молча положил газеты на стол и исчез за дверью.
78
Стряхнув пепел с сигары, человек с квадратным подбородком развернул газету. Это и был так называемый «Вестник Зои-лии», испещренный строчками странных клинообразных знаков. Я опять изумился эрудиции этого человека, читавшего такой странный шрифт.
— По-прежнему только и пишут о mensura Zoili, — сказал он, пробегая глазами газету. — А, опубликована ценность рассказов, вышедших в Японии за прошлый месяц! И даже приложены отчеты инженеров-измерителей.
— Фамилия Кумэ встречается? — спросил я, обеспокоенный за товарища.
— Кумэ? Должно быть, рассказ «Серебряная монета»? Есть.
— Ну и как? Какова его ценность?
— Никуда не годится! Во-первых, импульсом к его написанию явилось открытие, что человеческая жизнь бессмысленна. А кроме того, всю вещь обесценивает этакий менторский тон всеведущего знатока.
Мне стало неприятно.
— Простите, весьма сожалею, — человек с квадратным подбородком насмешливо улыбнулся, — но ваша «Трубка» тоже упомянута.
— Что же пишут?
— Почти то же самое. Что в ней нет ничего, кроме общих мест,
— Гм!..
— И еще вот что: «Этот молодой писатель чересчур плодовит...»
— Ой-ой!..
Я почувствовал себя более чем неприятно, пожалуй, даже глупо.
— Да не только вы — любому писателю или художнику, попади он на измеритель, придется туго: никакие надувательства тут не действуют. Сколько бы он сам свое произведение ни расхваливал, измеритель отмечает подлинную ценность, и все идет прахом. Разумеется, дружные похвалы приятелей тоже не могут изменить показания счетчика. Что ж, придется вам засесть за работу и начать писать вещи, представляющие настоящую ценность!
— Но каким же образом устанавливают, что оценки измерителя правильны?
— Для этого достаточно положить на весы какой-нибудь шедевр. Положат «Жизнь» Мопассана — стрелка сейчас же показывает наивысшую ценность.
— И только?
79
— И только.
Я замолчал: мне показалось, что у моего собеседника голова не особенно приспособлена к теоретическому мышлению. Но у меня возник новый вопрос.
— Значит, вещи, созданные художниками Зоилии, тоже проверяют на измерителе?
— Это запрещено законом Зоилии.
— Почему?
— Пришлось запретить, потому что народ Зоилии на это не соглашается: Зоилия исстари — республика. «Vox populi — vox dei»1 — это у них соблюдается буквально. — Человек с квадратным подбородком как-то странно улыбнулся. — Носятся слухи, что,; когда их произведения попали на измеритель, стрелка показала минимальную ценность. Раз так, они оказались перед дилеммой: либо отрицать правильность измерителя, либо отрицать ценность своих произведений, а ни то, ни другое им не улыбалось. Но это только слухи.
В эту минуту пароход сильно качнуло, и человек с квадратным подбородком в мгновение ока скатился со стула. На него упал стол. Опрокинулась бутылка с водкой и рюмки. Слетели газеты. Исчез горизонт за окном. Треск разбитых тарелок, грохот опрокинутых стульев, шум обрушившейся на пароход волны. Крушение! Это крушение! Или извержение подводного вулкана...
Придя в себя, я увидел, что сижу в кабинете на кресле-качалке; оказывается, читая пьесу St. John Ervine «The critics» 2, я вздремнул. И вообразил себя на пароходе, вероятно, потому, что качалка слегка покачивалась.
А человек с квадратным подбородком... иногда мне кажется, что это был Кумэ, иногда кажется, что не он. Так до сих пор и не знаю.
23 октября 1916 г.
Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь нее все, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киёмидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошел бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем —редкое зрелище — проехала тележка с плетеным камышовым верхом, запряженная рыжим быком. Все это появлялось в широких щелях тростнико-
1 «Глас народа — глас божий» (лат.).
2 Сент Джон Эрвин. «Критики» (англ.).
80
вой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.
Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:
— А на поклонение к Каннон-сама по-прежнему народ так и валит.
— Да! — ответил гончар несколько недовольно, может быть, оттого что был поглощен работой. Впрочем, в лице, да и во всем облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздернутым носом ничего сердитого не было. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая помятая шапка момиэ-боси, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тоба.
— Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.
— Шутишь...
— Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах — дело нетрудное, было бы лишь за что! Та же торговля — только не с заказчиками, а с богами и буддами.
Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвел взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под легким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшков и кувшинов, все здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. Даже хлопотливые ласточки и те не вьют свои гнезда под кровлей этого дома...
Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:
— Дедушка, ты на своем веку много чего и видал и слыхал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?
— Правда. В старину, слыхал я, это часто бывало.
— Что бывало?
— Да коротко об этом не расскажешь. А начнешь рассказывать — вашему брату оно и не любопытно.
— Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра...
— Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?
81
Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, — глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.
— Помышлений богов — этого вам в ваши годы не понять.
— Пожалуй, что не понять, так вот я и спросил, дедушка.
— Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают — счастье или злосчастье.
— Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?
— Вот этого-то вам как раз и не понять!
— А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.
Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно — подарок домашним.
— Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.
— Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!
Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.
— Не расскажешь, а, дедушка? — сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.
— Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот...
С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал свой рассказ. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день.
— Дело было лет тридцать — сорок тому назад. Эта женщина, тогда еще девица, обратилась с молитвой к этой самой Канион-сама в храме Киёмидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у нее как раз умерла мать, единственная ее опора, и ей стало трудно сводить концы с концами, так что молилась она не зря.
Покойная ее мать раньше была жрицей в храме Хакусюся и одно время пользовалась большой славой, но с тех пор, как разнесся слух, что она знается с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке — что там лиса, и мужчина бы...
— Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери...
82
— Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме.
— Неужто она была так хороша?
— Да. Что нравом, что лицом — всем хороша. На мой взгляд, ее не стыдно было бы показать где угодно.
— Жаль, что давно это было! — сказал подмастерье, одергивая рукав своей полинялой синей куртки.
Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи.
— Двадцать один день она молилась в храме, и вот вечером в день окончания срока она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на нее и подействовало, потому что, даже когда ее стало клонить ко сну, этот голос все еще неотвязно звучал у нее в ушах — точно под полом трещал сверчок... И вот этот ввук вдруг перешел в человеческую речь, и она услыхала: «Когда ты пойдешь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет!»
Ахнув, она проснулась, — бонза все еще усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил — она, как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчетно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Каннон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно: когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Каннон-сама.
— Вот так так!
— Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону к Годзё, как в самом деле кто-то сзади схватил ее в объятия. Стоял теплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось — как раз в ночь окончания срока молений!
Она спросила его имя — имени он не назвал. Спросила, откуда он, — не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу!» И, крепко обняв, тащил ее за собой вниз по дороге, все дальше и дальше. Хоть плачь, хоть кричи, — пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было.
— Ну, а потом?
83
— Потом он втащил ее в пагоду храма Ясакадэра, и там она провела ночь. Ну, а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем.
Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали еще длиннее. Легкий ветерок сбил к дорогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней,
— Да чего уж там! — сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку: — Что же, это все?
— Будь это все, не стоило бы и рассказывать. — Старик по-прежнему мял в руках горшок. — Когда рассвело, этот человек — должно быть, так уж судила ему судьба — сказал ей: «Будь моей женой!»
— Да ну?!
— Не будь у ней вещего сна —дело другое, ну а тут девушка подумала, что так угодно Каннон-сама, и потому утвердительно кивнула... Они для порядка обменялись чарками, и он со словами: «Это тебе для начала!» — вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок: десять кусков узорчатой ткани и десять кусков шелка. Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!
Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Соловьи больше не пели.
— Вскоре этот человек сказал ей: «Вернусь вечером!» — и торопливо куда-то ушел. Осталась она одна, и тоска одолела ее еще пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у нее, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так, случайно, заглянула в глубь пагоды, — чего только там не было! Что парча или шелка! Стояли там бесчисленные ящики со всякими сокровищами — драгоценными камнями, золотым песком. От всего этого даже у храброй девушки екнуло сердце.
«Всяко бывает, но раз у него такие сокровища, сомнения нет. Он либо вор, либо разбойник!»
До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что еще ждет ее впереди?
Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то ее хрипло окликнул. Само собой, она испугалась, — ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит — какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагроможденными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сгорбленная, ни-
84
эенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ля старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от нее ожидать, судя по ее виду.
Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст свое намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живет у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Все это девушку расстроило чуть не до слез.
Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.
Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шелке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у нее замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И, чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придется плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.
Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на ее старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И все же, должно быть, сказалась разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шелком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня оста-лась лежать недвижимой. Об этом девушка услыхала уже потом — ее труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутемном углу, лицом вверх, точно она спала.
85
Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показались более населенные места, зашла к знакомому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шелка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегченно вздохнула.
— Да и я наконец успокоился!
Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ним и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их еще тянулись по мостовой...
— Значит, на этом и делу конец?
— Однако, — старик покачал головой, — пока она сидела у знакомого, на улице вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в темное дело, у нее опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришел рассчитаться с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.
— Да ну?
— Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окруженные зеваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.
Этот вор — уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзё? Когда она увидела его, ее почему-то стали душить слезы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у нее сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился...
— Н-да...
— Так вот, прежде чем помолиться Каинон-сама, надо подумать!
— Однако, дедушка, ведь она после этого все-таки выбилась из бедности?
— Мало сказать «выбилась», она живет теперь в полном достатке. А все благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шелк. Выходит, Каннон-сама сдержала свое обещание!
— Так разве нехорошо, что с ней все это приключилось? Заря уже пожелтела и померкла. То там, то эдесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.
86
— Убить человека, стать женой вора... на это надо решиться-Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже
мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.— Как бы там ни было, а она счастливица.
— Куда уж!
— Разумеется! Да дедушка и сам так думает.
— Это я-то? Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.
— Вот как? А я бы с радостью взял.
— Ну так иди, поклонись Каннон-сама.
— Вот-вот. Завтра же засяду в храме!
Декабрь 1916 г.
Повинуясь высокому указанию, почтительно сообщаю властям предержащим обо всем, что я видел и слышал собственнолично, о том, как в последнее время сторонники христианства творят злокозненные дела и смущают умы в нашей деревне.
Итак, сообщаю, что третьего месяца седьмого дня сего года в дом ко мне явилась женщина по имени Сино, вдова Ёсаку, здешнего землепашца, и, ссылаясь на то, что девятилетняя дочь ее Сато тяжело захворала, слезно просила меня осмотреть больную.
Вышеназванная Сино, третья дочь крестьянина Собэя, десять лет назад была просватана за крестьянина Ёсаку, от брака с коим родила дочь Сато, однако вскоре муж ее от болезни скончался, после чего Сино вторично в брак не вступала, добывая себе скудное пропитание ткачеством и поденной работой. Сразу же после кончины мужа она по какому-то наваждению всецело предалась христианской ереси и часто навещала живущего в соседней деревне христианского патэрэн, по прозванию Родриге, из-за чего многие односельчане утверждают, будто Сино вступила с оным патэрэн в незаконную связь. Родные Спно, и прежде всего отец ее Собэй, а также братья и сестры, всячески увещевали ее, уговаривая одуматься, она же, нимало не внимая этим советам, денно и нощно молилась вместе с дочерью Сато перед курусу, каковой представляет собой крохотный столбик с перекладиной для распятия, и даже пренебрегала посещением могилы покойного мужа, отчего в настоящее время не только близкие и дальние ее родственники, чтя закон, прервали с ней всякие отношения, но и на
87
деревенских сходках не раз уже обсуждался вопрос, не изгнать ли ее вовсе из деревни.
В силу этого, несмотря на усиленные ее мольбы, я объявил ей, что навестить больную мне никак невозможно, и она удалилась, заливаясь слезами, но назавтра, восьмого дня, снова явилась, повторяя: «Век не забуду вашу доброту, умоляю, навестите больную!» И сколько я ни отказывался, никак не хотела слушать, в довершение же своих просьб бросилась на пол в прихожей моего дома, сокрушаясь и укоряя: «Призвание врача — исцелять людские недуги... Уму непостижимо, как можете вы не внять мне, когда я молю о тяжело занемогшем моем ребенке!» Я же ответил: «Сказано справедливо, но ежели я отказываюсь лечить больную, значит, тем более согласись, к тому имеются веские основания. Скажу напрямик — поведение твое давно уже весьма непохвально, особливо же плохо то, что ты постоянно поносишь богов и Будду, коих почитаю я и все наши односельчане, и твердишь, будто мы поклоняемся сим святыням по наущению бесов и дьявола, — об этом мне доподлинно известно от людей верных. Как же ты, столь праведная и чистая, просишь ныне меня, одержимого дьяволом, исцелить твою дочь? С таковой просьбой надлежит тебе обратиться к дэусу, ему ты и поклоняешься столь усердно. Однако, если ты во что бы то ни стало желаешь, чтобы я все-таки осмотрел твоего больного ребенка, признай же отныне и навсегда, что вера твоя — бесплодное заблуждение. Если же ты на это не согласишься, то, сколько бы ты ни твердила, что врачевание — ремесло гуманное, я наотрез отказываюсь оказать тебе помощь, ибо и мне ведом страх перед карой богов и Будды!» Так говорил я с ней, и Сино волей-неволей пришлось отправиться восвояси, хотя я отнюдь не был уверен, что она по-настоящему поняла мои доводы.
Назавтра, девятого, на рассвете хлынул проливной дождь, отчего на какое-то время деревенские улицы обезлюдели совершенно, и в эту самую пору, приблизительно в шесть часов утра, Сино, не захватив с собой даже зонтика и промокнув до нитки, вновь явилась в мой дом и опять принялась умолять меня навестить и осмотреть ее дочку, я же ответил: «Пусть я не самурай, однако и мое слово твердо... Итак, выбирай, — жизнь дочери или дэусу, от чего-нибудь одного тебе надлежит отказаться». При этих словах Сино точно разумом помутилась — упала передо мной на колени, стала бить земные поклоны, сложила руки, как на молитве, и, задыхаясь и плача, кричала и умоляла: «Слова ваши поистине справедливы, но ведь по христианскому вероучению, если отступиться от веры, не только тело, но и душа моя погибнет навеки. Умоляю вас, пощадите, сжальтесь хотя бы над
88
дочкой!» И хоть была она еретичкой, все же сердце у нее было, очевидно, как у всех прочих женщин; тем не менее, испытывая к ней известное сострадание, но, памятуя, что негоже, повинуясь личному чувству, нарушать установленные властью законы, я продолжал стоять на своем, как она меня ни молила. «Если не отречешься, навестить твою больную мне никак невозможно».
Тогда Сино, будто внезапно уразумев, что дальнейшие мольбы бесполезны, молча воззрилась на меня и некоторое время не произносила ни слова, но вдруг слезы градом покатились у нее из глаз, и, припав к моим ногам, она забормотала что-то голосом едва слышным, как писк москита, но тут как раз с новой силой зашумел на улице дождь, по каковой причине разобрать, что она говорит, я не мог, отчего и пришлось несколько раз переспросить ее, и тогда наконец она отчетливо выговорила свое решение: «Пусть будет так. Раз иного выхода нет, значит, нужно отречься...» Когда же я возразил ей, что не имею никаких доказательств, сдержит ли она свое обещание, и что оное доказательство ей надлежит представить, она молча вытащила из-за пазухи вышеназванный курусу, опустила на пол в прихожей и трижды наступила на него ногой. К этому времени вид у нее был уже довольно спокойный, слезы как будто просохли, только взгляд, которым она смотрела на курусу, валявшийся под ногами, чем-то напоминал взгляд больного лихорадкой, так что и мне, и слуге моему, и всем домочадцам невольно стало не по себе.
Итак, поскольку условие мое было таким образом выполнено, я немедленно приказал слуге взять шкатулку с лекарствами и, невзирая на дождь, отправился вместе с Сино в ее жилище, где в тесной каморке, на постели, обращенной изголовьем к югу, одиноко лежала больная Сато. В самом деле, тело ее было охвачено сильным жаром, так что и впрямь находилась она в забытьи; слабенькой ручкой чертила она в воздухе крест, провозглашая «аллилуйя!» и всякий раз при том улыбаясь. Вышеозначенное же слово «аллилуйя» есть христианское песнопение, прославляющее верховное божество этой веры, — так, плача, пояснила мне Сино, припавшая к изголовью постели. Не теряя времени, я осмотрел больную; оказалось, что больна она, вне всяких сомнений, тифом, и к тому же болезнь стильно запущена, так что жить ей оставалось считанные часы, о чем поневоле мне и пришлось сообщить Сино; та, казалось, вновь впала в безумие, повторяя: «Я отреклась от веры единственно ради спасения жизни ребенка. Если же дочка моя умрет, выходит, все понапрасну!.. Поймите же скорбь души той, что отвернулась от пресвятого дэусу, молю вас, спасите как-нибудь жизнь моей дочки!» — так непрерывно про-
89
сила она, отбивая земные поклоны не только передо мной, но и перед моим слугой, но, поскольку исцелить больную было выше сил человеческих, я всячески наставлял ее, убеждая не впадать в новое прегрешение, и наконец, оставив ей лекарственного настоя на три приема, хотел уже возвратиться домой, благо дождь как раз перестал, однако Сино вцепилась мне в рукав и ни за что не хотела отпускать. Губы ее шевелились, будто она пыталась что-то сказать, но ни единого слова выговорить была не в силах; как вдруг прямо на глазах стала она изменяться в лице и тут же на месте потеряла сознание. От сей неожиданности пришел я в великое замешательство, вместе со слугой стал поспешно приводить ее в чувство, и она наконец снова очнулась, однако теперь была уже слишком слаба, чтобы подняться на ноги, и, заливаясь слезами, проговорила: «Выходит, по собственному малодушию я ныне навсегда потеряла и дочку, и всеблагого дэусу!» Так, сокрушаясь, обливалась она слезами, и хотя я всячески утешал ее, казалось, вовсе не внимала сим утешениям; к тому же состояние ее дочери тоже не внушало более ни малейшей надежды, а посему мне ничего иного не оставалось, как снова позвать слугу и поспешно пуститься в обратный путь.
В тот же день после обеда, навестив больную матушку деревенского старосты господина Цукигоси Ядзаэмона, услышал я от него, что дочка Сино скончалась, сама же Сино с горя помешалась в рассудке. Судя по словам господина Ядзаэмона, смерть Сато наступила примерно через час после моего ухода, а уже в половине одиннадцатого утра Сино впала в безумие и, обняв мертвое тело дочери, громко провозглашала какие-то варварские молитвы. Добавлю также, что данный факт непосредственно наблюдал не только сам господин Ядзаэмон, но и уважаемые жители деревни — господин Киэмон, господин Того, господин Дзибэй и другие, так что не может быть ни малейших сомнений в том, что все это поистине так и было.
Назавтра, третьего месяца десятого дня, с утра зарядил мелкий дождь, к часу же Дракона внезапно ударил первый весенний гром; а когда непогода чуть поутихла, в просвет между ливнем, за мной прислали лошадь от благородного господина Янасэ Кинд-зюро с просьбой явиться, дабы осмотреть больного, по каковой причине я поспешно сел на коня и верхом выехал со двора; проезжая же мимо дома Сино, увидел толпу крестьян, которые с громкой бранью и восклицаниями: «Проклятые патэрэн! Еретики!»—совсем запрудили дорогу, так что коню моему невозможно было ступить, а посему, не слезая с седла, заглянул я сквозь распахнутые двери в дом Сино — а там чужеземец и трое японцев, все в черных одеждах, похожих на облачение монахов, с какими-
90
то палочками в руках, наподобие палочек фимиама, который курят в храмах, хором провозглашают: «Аллилуйя! Аллилуйя!» В довершение сей картины у ног рыжеволосого лежит, прижимая к груди свою дочь, Сино — растрепанная, поникшая, словно утратившая сознание. В особенности же поразило меня, что Сато обеими руками крепко обнимает Сино за шею и детским голоском своим попеременно то провозглашает «аллилуйя!», то окликает мать. Правда, находился я сравнительно далеко, по каковой причине разглядеть все досконально никак не мог, однако цвет лица Сато показался мне чрезвычайно здоровым. Видел я также, что время от времени, отнимая руки от шеи матери, она делала такое движение, словно хотела поймать дым, поднимавшийся от вышеназванных курительных палочек. Я слез с коня и подробно расспросил деревенских жителей о том, как воскресла Сато. Оказалось, что чужеземец патэрэн Родриге, в сопровождении трех японских послушников, явился сегодня утром в дом Сино из соседней деревни, выслушал ее покаяние и исповедь, после чего все они вместе вознесли молитву к верховному божеству своей веры и принялись то курить какой-то чужеземный варварский фимиам, то кропить все кругом святой водой, отчего безумие Сино само собой постепенно утихло, а вскоре воскресла к жизни и Сато, — так в страхе поведали мне крестьяне. Спору нет, с древних времен и до сего дня известно немало случаев воскрешения из мертвых, однако то почти всегда бывало при отравлении вином либо ядовитыми испарениями гор или вод. Но чтобы к жизни воскресал умерший от тифа, подобно Сато, об этом, сколько живу, ни разу не слыхивал, а следовательно, по одному этому факту уже полностью ясно, что здесь дело не обошлось без злого христианского колдовства; особливо же следует упомянуть, что, когда патэрэн появился в деревне, непрерывно грохотали раскаты грома, из чего можно заключить, что и небу он ненавистен.
О том, что Сино с дочерью Сато в тот день перебрались вместе с патэрэн Родриге в соседнюю деревню, а также о том, что стараниями преподобного Никкан, настоятеля храма Дзигэндзи, дом Сино разрушен и предан сожжению, уже сообщил властям деревенский староста господин Цукигоси Ядзаэмон, а посему виденное и слышанное мною лично исчерпывается в основном вышеизложенным показанием. Добавлю лишь, что если паче чаяния я что-либо забыл или пропустил, то сообщу о том дополнительно в ближайшие дни, пока же показания свои заканчиваю.
Область Иё, уезд Увагори, деревня...
7 декабря 1916 г.
Лекарь Огата Рёсай
91
На плотно задвинутые сёдзи падал яркий солнечный свет, и тень старого вишневого дерева на несколько кэн — от правого края до левого — четко, как на картине, выделялась на всем этом освещенном пространстве. Сиси Кураноскэ Ёсикацу, бывший вассал Асано Такуми-но ками, а ныне узник в доме князя Хосокава, сидел спиной к сёдзи, прямой, со скрещенными ногами, и не отрываясь читал. Это был, кажется, какой-то том «Троецарствия», который ему одолжил один из вассалов Хосокава.
Обычно в этой комнате находилось девять человек, но сейчас Катабка Гэнгоэмон вышел в отхожее место; Хаями Тодзаэмон отправился поболтать в нижнюю комнату и еще не возвратился; остальные шестеро — Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Маса Кюдайю, Онодэра Дзюнай, Хорибэ Яхэй и Хадзама Кихэй, — как будто не замечая солнца, освещавшего сёдзи, были погружены в чтение или заняты писанием писем. И не потому ли, что они, все шестеро, были люди старые — каждому перевалило за пятьдесят, — в комнате, чуть тронутой весной, было зловеще тихо. Даже когда кто-нибудь покашливал, звук был не настолько силен, чтобы поколебать застоявшийся в комнате легкий запах туши.
Кураноскэ отвел глаза от «Троецарствия» и, устремив взор куда-то вдаль, тихонько положил руки на стоявшее возле него хибати. В хибати, накрытом металлической сеткой, под тлевшими угольками поблескивали, освещая пепел, красивые красные огоньки. Кураноскэ ощутил их тепло, и душу его охватило чувство спокойной удовлетворенности. Той самой удовлетворенности, которую в пятнадцатый день последнего месяца прошлого года, после отмщения за своего погибшего господина, когда они все ушли в храм Сэнга-кудзи, он выразил в стихе:
| Какая радость!
Рассеялись заботы. Отдал я жизнь. Ясна луна на небе, Сошли с нее все тучи. |
Как прожил он, сгорая от нетерпения и изощряясь в хитростях, эти долгие дни и месяцы, почти целых два года после того, как покинул замок Ако! Уже одно то, что приходилось терпеливо ждать, пока согреет случай, и при этом сдерживать пыл своих горячих товарищей, было совсем нелегко. К тому же за ним неотступно следил Сайсаку, подосланный домом его врага. Приходилось обманывать Сайсаку, маскируясь разгулом, и вместе с тем рассеивать подозрения друзей, которых этот разгул вводил в заблуждение. Он вспо-
92
минал про их прежние совещания в Ямасина и в Маруяма, и в его душу снова вернулось было тяжелое чувство. Но все пришло к тому, к чему шло.
Если что-либо и оставалось незавершенным, то это только приговор — приговор всем сорока семи. Но этот приговор, несомненно, не так уж далек. Да. Все пришло к тому, к чему шло. И дело не только в том, что свершен акт мести. Все произошло в той форме, которая почти полностью отвечала его моральным требованиям. Он чувствовал не только удовлетворение от исполнения долга, но и удовлетворение от воплощения в жизнь высоконравственных начал. Думал ли он о цели мщения, думал ли о его средствах, его чувство удовлетворения не омрачал никакой укор совести. Могло ли для него существовать удовлетворение выше?
При этих словах морщины между сдвинутыми бровями Кураноскэ разгладились, и он обратился через хибати к Ёсида Тюдза-эмоиу, который тоже, по-видимому, устал читать и теперь чертил что-то пальцем у себя на коленях, на которые опустил книгу.
— Сегодня как будто очень тепло.
— Да... Когда вот так сидишь, то, должно быть, оттого что очень тепло, страшно хочется спать.
Кураноскэ усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли строки стихов, которые в день Нового года сложил Томимбри Скээмон после трех чарок новогоднего вина:
| Весна сегодня,
И даже самураю Соснуть не стыдно. |
И эти строки дышали такой же удовлетворенностью, какую он сейчас чувствовал.
— Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено.
— Да, пожалуй.
Тюдзаэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши.
— Мы ведь никак не думали, что сможем еще проводить такие мирные дни.
— Да, мне и во сне не снилось, что я встречу еще один Новый год.
— У меня все время такое чувство, будто мы —настоящие счастливцы.
Оба с довольной улыбкой переглянулись. Если бы в этот миг на сёдзи позади Кураноскэ не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул
93
сёдзи, и вместо нее в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодэаэмона, быть может, Кураноскэ продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щек, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзаэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания.
— Там, внизу, кажется, было весело?
С этими словами Тюдзаэмон снова затянулся трубкой.
— Сегодня дежурный — Дэнъэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там.
— Ну и правильно! Он все боялся опоздать.
Поперхнувшись дымом, Тюдзаэмон грустно засмеялся. Онодэра Дзюнай, все время что-то писавший, поднял голову, как будто о чем-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно, он писал письмо жене в Киото. Кураноскэ засмеялся, морща уголки глаз.
— Ну и что же? Было что-нибудь интересное?
— Нет, как всегда — одна болтовня. Правда, когда Тикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэнъэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого?.. Впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести.
— Кто бы мог подумать!
Тюдзаэмон недоуменно посмотрел на Тодзаэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завел этот разговор.
— Нам рассказали о двух-трех таких случаях. Один очень забавный— тот, что произошел на улице Минатомати и Минами-Хаттёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Все вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты и, когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина!»
Свой рассказ Тодзаэмон сопровождал жестами и хохотал.
— Но это же настоящее буйство!
— Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно: там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-мати и еще где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?
Тодзаэмон и Тюдзаэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвел на умы эдосцев подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Толь-
94
ко Кураноскэ, приложив руку ко лбу, е недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворенности. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершенного ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно, его совесть никак не задевало. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод.
По правде говоря, он был несколько удивлен тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тюдзаэмоном и Тод-заэмоном, теперь посеяли в его душе, исполненной чувства удовлетворенности, семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворенности было приятным для него, приятным настолько, что — при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой — оно как-то утверждало и самый его поступок, и все то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна.
Однако то, что Кураноскэ не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое: такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Кураноскэ так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Хориути Дэнъэмона — вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всем, сказал Тюдзаэмону что-то вроде — «я позову Дэнъэмона», тут же раздвинул фусума и направился вниз. И, по-прежнему улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Дэнъэмона.
— Спасибо, что потрудились зайти к нам, — улыбаясь при виде Дэнъэмона, сказал Тюдзаэмон.
Благодаря простому, прямому нраву Дэнъэмона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ними и его подопечными установились теплые отношения, словно у старых друзей.
— Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашел. Ьот я и пришел, хоть и помешал вам.
Усевшись, Дэнъэмон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвел взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те, кто писал, один за другим поздоровались с ним. Кураноскэ также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хорибэ Яхэй, дремавший, как был в очках, над начатым томом «Тайхэйки», веж-
95
ливо наклонил голову и спросонок уронил очки. Даже Хидзама Ки-хэй, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех.
— Видно, что и вы, Дэнъэмон-доно, не любите стариков, вот к нам и не заглядываете.
Кураноскэ сказал это мягким тоном, непохожим на свой обычный: вероятно, оттого, что, хотя он и расстроился немного, в его груди все еще раэлито было прежнее теплое чувство удовлетворения.
— Что вы, совсем нет! Просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился.
— Как я сейчас слышал, там у вас рассказывали о чем-то очень интересном, — вмешался Тюдзаэмон.
— О чем-то интересном? То есть?
— О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести, об этом именно... — сказал Тодэаэмон и с улыбкой взглянул на Дэнъ-эмона и Кураноскэ.
— Ах, об этом! Да, поистине странно устроен человек! Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики и те захотели вам подражать. Еще неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представления дзёрури или там Кабуки, и то хорошо.
Разговор стал принимать неприятный для Кураноскэ оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и употребляя простонародные выражения попытался повернуть его в другую сторону.
— За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдается мне, что нам прежде всего должно быть стыдно. — Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал: — «Почему?» — спросите вы. А вот почему. В клане Ако самураев много, а видите вы перед собой одних только низших по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуно Сёгэн, но на полдороге он изменил свое решение и кончил тем, что вышел из нашего союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Сйндо Гэнсиро, Кавамура Дэмбэй, Комура Гэнюэмон. По положению они выше Хара Соэмона. И еще Сасаки Кодзаэмон — он ниже Ёсида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были и мои родственники. Если все это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно.
При этих словах Кураноскэ вся атмосфера — атмосфера веселости, царившая в комнате, — исчезла, и сразу ее место заступила серьезность. Можно скаэать, что разговор принял тот оборот, к которому Кураноскэ и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый.
96
Услышав эти слова, Тодзаэмои, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал:
— Вся эта компания — не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя.
— Правильно! А что касается Такада Гомбэя, то он еще хуже скота.
Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, как бы ища у него одобрения. Вспыльчивый Яхэй, конечно, не промолчал:
— Когда мы тогда утром уходили, я подумал: если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только, — явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: «Желание ваше сбылось. Какая великая радость!»
— Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Оямада Сёдзаэмон, тот действительно хорош, — сказал, ни к кому особо не обращаясь, Маса Кюдайю, и тут принялись в один голос бранить отступников и Хара Соэмон и Онодэра Дзюнай. Даже молчаливый Хадзама Ки-хэй и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал свое согласие со всеми.
— Подумать только, в одном и том же клане столь верные вассалы, как вы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горожане и мужики — и те их ругают: собаки, дармоеды! Окобаяси Мокуноскэ-доно в прошлом году сделал себе харакири, и вот разнесся слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, не исключено, что найдется человек, который возьмет да и убьет их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости значит действовать по-эдоски и что и вы с давних пор в гневе на них.
Дэнъэмон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбужденные разговором Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Хаями Тодзаэмон и Хорибэ Яхэй, как будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных вассалов и беспутных сыновей.
Среди всего этого только один человек, только Оиси Курано-скэ, положив руки на хибати, все более и более мрачнел, все меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибати задумчивого взгляда.
Перед ним раскрылось нечто новое: оборот, который он придал разговору, привел к тому, что стали все больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещение за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у
4 Акутагава Рюноскэ
97
него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, свое сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтоб повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно. Поэтому он никогда не менял своего снисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. «Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между нами и ими не так уж велика». Кураноскэ, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдоских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Дэнъэмоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться еще одной последней чертой.
Дэнъэмон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить свое преклонение, круто перевел разговор на эту тему и произнес целую речь, восхваляющую верность и преданность Кураноскэ.
— Как-то от одного сведущего человека я слышал, что в Китае один самурай, не помню, как его звали, так старательно выслеживал врага своего господина, что даже проглотил уголь, чтобы онеметь. Но по сравнению с тем, как Кураноскэ против всякого желания вел разгульную жизнь, это не так уж трудно.
После такого предисловия Дэнъэмон начал длинно-длинно излагать всякие россказни о том, что произошло год назад, когда Кураноскэ устраивал всевозможные кутежи; как тяжелы были ему, Кураноскэ, притворившемуся безумным, эти прогулки к красным клёнам в Такао и Атаго; как мучительны были ему, Кураноскэ, не щадившему себя ради осуществления планов мести, попойки в праздник цветущей вишни в Симабара и Гион.
— Как я слышал, в те дни в Киото даже распевали песенку: «Оиси не камень, он не тверд, он легок, словно он бумажный»
Чтобы так обмануть всех на свете, нужно большое искусство. Не-1 Оиси — большой камень.
98
давно сам Амано Ядзаэмон и тот похвалил: «Вот это настоящее мужество». И это совершенно правильно.
— Что вы! Ничего особенного тут нет, — принужденно отозвался Кураноскэ.
Его сдержанный ответ, по-видимому, не удовлетворил Дэнъ-эмона. Однако он увлекался все более и более. Поэтому он отвернулся от Кураноскэ, к которому до сих пор обращал свою речь, и, оборотившись к Онодэра Дзюнаю, с которым некогда долгое время служил в Киото, принялся еще горячее выражать свое восхищение. Такая его чисто детская горячность была для Дзюная, пользовавшегося во всей их группе репутацией человека с большим опытом, смешна и в то же время трогательна. Он сам, в тон Дэнъэмону, во всех подробностях рассказал, как Кураноскэ, с целью обмануть Сайсаку, подосланного домом его врага, в облачении монаха пробрался к Югйри из Масуя.
Кураноскэ, такой серьезный человек, сочинил даже песенку. Она стала очень модной. Не было публичного дома, где бы ее не распевали. В ней говорилось, как Кураноскэ в черной рясе монаха, пьяный, шагает по осыпанному лепестками вишен Гиону. Да, нет ничего удивительного, что и песенка пошла в ход, и кутежи прославились. И Югири и Укихаси— все знаменитые куртизанки в Симабара и Сюмоку-мати, когда приходил Кураноскэ, не знали, как получше его принять.
Кураноскэ слушал рассказы Дзюная с горечью, как будто его обдавали презрением. И в то же время в его памяти, словно сами собой, пробудились воспоминания о былом разгуле. Это были какие-то до странности яркие, красочные воспоминания. В них он снова видел свет большой свечи, ощущал запах ароматического масла, слышал звуки сямисэна. Даже слова той песенки, о которой упомянул Дзюнай:
| Оиси не камень,
Он не тверд, он легок, Словно он бумажный... — |
вызывали в его душе пленительные, словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. Вспомнил, как он без всяких колебаний повел эту разгульную жизнь — ту самую, которая сейчас всплыла у него в памяти. Как он среди этого разгула моментами наслаждался свободой и привольем, совершенно забывая о деле мести. Он был слишком честен, чтобы отрицать тот факт, что обманывал и самого себя. Конечно, ему, понимающему человеческую природу, и во сне не могло присниться, что этот факт аморален. Оттого-то ему и было неприятно, что им восхищаются, считая его разгул лишь средством
4*
99
выполнения долга верности. Это было ему неприятно, и вместе с тем он чувствовал себя виноватым.
И не было ничего удивительного в том, что, слушая восхваления своего притворного безумия и тех мучений, на которые он себя обрек, Кураноскэ сидел с самым мрачным видом. Получив еще и этот последний удар, он с полной ясностью почувствовал, как из его груди улетучиваются последние остатки весеннего тепла. В ней оставалась только досада на всеобщее непонимание, досада на собственное неразумие, на то, что он не сумел предвидеть такое непонимание. Холодная тень этого чувства все шире и шире ложилась на его душу. Ведь и память о его подвиге отмщения, о его товарищах и, в конце концов, о нем самом, вероятно, так и перейдет в последующие времена в сопровождении столь неоправданных восхвалений. Перед лицом этого нерадостного факта он, положив руки на хибати, где уже остывали угольки, и стараясь не встречаться глазами с Дэнъэмоном, печально вздохнул.
* * *
Это было немного спустя. Оиси Кураноскэ, вышедший из комнаты под первым же удобным предлогом, прислонившись к столбу наружной галереи, любовался яркими цветами, распустившимися на старом сливовом дереве среди мхов и камней старого сада. Свет солнца уже ослабел, и из бамбуков, насаженных в саду, надвигались сумерки. Там, за сёдзи, по-прежнему слышались оживленные голоса. Слушая эти голоса, Кураноскэ почувствовал, что его медленно окутывает печаль. Вместе с легким ароматом сливы все его существо охватило уныние-» невыразимое уныние, проникшее в самую глубь его снова похолодевшего сердца.
Кураноскэ недвижно стоял, подняв глаза на эти твердые, холодные цветы, как будто врезанные в синее небо.
15 августа 1917 г.
Хэ Сяо-эр выронил шашку, подумал: «Мне отрубили голову!» — и в беспамятстве вцепился в гриву коня. Нет, пожалуй, он подумал это уже после того, как вцепился. Просто что-то с глухим звуком впилось в его шею, и в ту же секунду он вцепился в гриву. Едва Хэ Сяо-эр повалился на луку седла, как конь громко заржал,
100
вздернул морду и, прорвавшись сквозь гущу смешавшихся в одну кучу тел, поскакал прямо в необозримые поля гаоляна. Кажется, вслед прозвучали выстрелы, но до слуха Хэ Сяо-эра они донеслись как во сне.
Высокий, выше человеческого роста, гаолян, приминаемый бешено несущейся лошадью, ложился и вставал волнами. И справа и слева стебли то трепали косу Хэ Сяо-эра, то хлестали его по мундиру, то размазывали льющуюся из шеи черную кровь. Но голова его неспособна была осознавать все это в отдельности. В его мозгу с мучительной отчетливостью стоял только один простой факт — зарезан. «Зарезан! Зарезан!» — твердил он мысленно и совершенно машинально бил каблуками по вспотевшему брюху лошади.
Хэ Сяо-эр и его товарищи-кавалеристы, отправившись на разведку в сторону маленькой деревушки, отделенной от лагеря рекой, минут десять назад среди полей желтеющего гаоляна внезапно наткнулись на японский кавалерийский разъезд. Это произошло неожиданно, и ни свои, ни противник не успели взяться за винтовки. Во всяком случае, едва показались фуражки с красным кантом и обшитые красным кантом мундиры, как Хэ Сяо-эр и его товарищи, не задумываясь, разом выхватили шашки и тотчас же повернули лошадей в сторону противника. Разумеется, в эту минуту ни одному из них не приходило в голову, что его могут убить. В мыслях было одно: вот враг. И, может быть, еще: убить врага. Поэтому, повернув лошадей, оскалившись, как псы, они бешено ринулись на японских кавалеристов. Противник, видимо, был во власти тех же побуждений. Через мгновение справа и слева от них стали одно за другим вырастать лица, словно в зеркале появлялось отражение их собственных лиц с оскаленными зубами. И одновременно вокруг них взвились шашки.
А дальше... Дальше представление о времени исчезло. Хэ Сяо-эр до странности ясно помнил, как качался, словно от порывов бури, высокий гаолян, а над верхушками покачивавшихся колосьев висело медно-красное солнце. Но долго ли продолжалась схватка и что и в какой последовательности произошло — этого он почти не помнил. Во всяком случае, все это время Хэ Сяо-эр, громко выкрикивая как безумный что-то для него самого совершенно бессмысленное, без оглядки размахивал шашкой. Вдруг ему показалось, что шашка стала красной, но, по-видимому, от этого ничего не изменилось. Тем временем рукоять шашки сделалась скользкой от пота. И в то же время удивительно сохло во рту. Тут внезапно перед его лошадью вынырнуло искаженное лицо японского солдата с вытаращенными, чуть не вылезающими из орбит глазами и широко раскрытым ртом. Сквозь дыру в разрубленной посредине фуражке с красным кантом видна была наголо обритая голова.
101
Хэ Сяо-эр взмахнул шашкой и изо всех сил рубанул по фуражке. Однако шашка коснулась не фуражки и не головы противника под фуражкой. Она встретилась с взметнувшимся клинком шашки противника. В кипевшем кругом шуме звук удара прозвенел отчетливо и страшно, и в ноздри ударил острый запах металла. Широкий клинок, ослепительно блеснувший на солнце, оказался прямо над головой Хэ Сяо-эра и описал широкий круг... И в тот же миг что-то невыразимо холодное с глухим звуком впилось ему в шею.
* * *
Лошадь со стонущим от боли Хэ Сяо-эром на спине бешено неслась вскачь по полям гаоляна. Гаолян рос густо, и полям его, казалось, нет конца. Голоса людей, лошадиное ржание, лязг скрещивающихся шашек — все уже затихло. Осеннее солнце в Ляо-яуне сияло так же, как в Японии.
Хэ Сяо-эр, как это уже упоминалось, покачивался на спине лошади и стонал от боли. Но звук, пробивавшийся сквозь стиснутые зубы, был не просто крик боли. В нем выражалось более сложное ощущение: Хэ Сяо-эр страдал не только от физической муки. Он плакал от душевной муки — от головокружительного потрясения, в основе которого лежал страх смерти.
Бму было нестерпимо горько расставаться с этим светом. Кроме того, он чувствовал злобу ко всем людям и событиям, разлучавшим его с этим светом. Кроме того, он негодовал на себя самого, вынужденного расстаться с этим светом. Кроме того... Все эти разнообразные чувства, набегая одно на другое, возникая одно за другим, бесконечно мучили его. И по мере того, как набегали эти чувства, он пытался то крикнуть: «Умираю, умираю!» — то произнести имя отца или матери, то выругать японских солдат. Но, к несчастью, звуки, срывавшиеся у него с языка, немедленно превращались в бессмысленные хриплые стоны — настолько раненый ослабел.
«Нет человека несчастней меня! Таким молодым пойти на войну и быть убитым, как собака. Прежде всего ненавижу японца, который меня убил. Потом ненавижу начальника взвода, пославшего меня в разведку. Наконец, ненавижу и Японию и Китай, которые затеяли эту войну. Нет, ненавижу не только их. Все, кто хоть немного причастен к событиям, сделавшим из меня солдата, все они для меня все равно что враги. Из-за них, из-за всех этих людей я вот-вот уйду из мира, в котором мне столько еще хотелось сделать. И я, который позволил этим людям и этим событиям сделать со мной то, что они сделали, — какой же я дурак!»
Вот что выражали стоны Хэ Сяо-эра, пока он, вцепившись в
102
шею коня, несся все дальше и дальше по полям гаоляна. Время от времени то там, то сям вспархивали выводки перепутанных перепелов, но конь, разумеется, не обращал на них никакого внимания. Он мчался вскачь, с клочьями пены на губах, не заботясь о том, что всадник едва держится на его спине.
Поэтому, если бы позволила судьба, Хэ Сяо-эр, неумолчно стеная и жалуясь небу на свое несчастье, трясся бы в седле целый день, пока медно-красное солнце не склонилось бы к закату. Однако равнина постепенно переходила в пологий склон, и когда на пути заблестела узкая мутная речонка, протекавшая между двумя стенами гаоляна, судьба предстала у берега в виде нескольких ив, на низких ветвях которых скопилась опавшая листва. Как только конь Хэ Сяо-эра стал продираться между деревьями, густые ветви вцепились во всадника и сбросили его в мягкую грязь у самой воды.
В момент падения Хэ Сяо-эру почему-то привиделось в небе пылающее желтое пламя. Такое же ярко-желтое пламя, какое он в детстве видел дома, под большим котлом на кухне. «А огонь пылает!» — подумал он и тут же потерял сознание.
Совсем ли потерял сознание Хэ Сяо-эр, упав с коня? Действительно, боль от раны вдруг почти прекратилась. Однако, лежа на пустынном берегу, выпачканный в крови и земле, он сознавал, что смотрит в высокое синее небо, которое гладят листья ив. Это небо было глубже и синей, чем любое другое небо, какое он видел до сих пор. Словно смотришь снизу в огромную опрокинутую темно-синюю чашу. И на дне этой чаши откуда-то появлялись облачка, похожие на сгустки пены, и опять куда-то тихо исчезали. Можно было подумать, что их все снова и снова стирают шевелящиеся листья ив.
Значит, Хэ Сяо-эр не совсем потерял сознание? Однако между его глазами и синим небом как тени проносились разнообразные вещи, которых там на самом деле не было. Прежде всего появилась грязноватая юбка матери. Сколько раз ребенком он в радости и горе цеплялся за эту юбку! Но теперь, едва он протянул к ней руку, она исчезла у него из глаз. Исчезая, она стала тонкой, словно газ, и сквозь нее, как сквозь слюду, просвечивали клубы облаков.
Потом плавно проплыли широкие кунжутные поля, которые тянулись за домом, где он родился. Кунжутные поля в разгаре лета, поля с унылыми цветами, раскрытыми, будто в ожидании сумерек. Хэ Сяо-эр искал взглядом среди этих полей себя и своих
103
братьев. Но на полях не видно было ни души. Слабый солнечный свет озарял лишь молчаливо застывшие бледные цветы и листья. Они проплыли наискосок по воздуху и исчезли, как будто их куда-то утянули.
Потом в воздухе появилось нечто странное, нечто извивающееся. Присмотревшись, он понял, что это большой «драконов фонарь», с каким ходят по улицам в ночь на пятнадцатое января. В длину он был, пожалуй, около пяти-шести кэн. Бамбуковый остов был обтянут бумагой, ярко разрисованной синей и красной краской. По форме фонарь ничем не отличался от дракона, как их рисуют на картинках. С зажженной, несмотря на яркий день, свечой внутри, он тускло маячил в синем небе. Кроме того, — удивительная вещь! — этот фонарь казался живым драконом и в самом деле свободно шевелил длинными усами... Пока Хэ Сяо-эр рассматривал его, дракон медленно уплывал из глаз и сразу исчез.
Когда он скрылся, в небе вдруг показались изящные женские ножки. Их раньше бинтовали, поэтому они были не длиннее трех суй. На кончиках грациозно изогнутых пальцев мягко выделялись белые ноготки. В душе Хэ Сяо-эра вызвало печаль, легкую и смутную, как укус блохи во сне, воспоминание о временах, когда он видел эти ножки. Если бы он мог коснуться их еще раз!.. Но это, конечно, невозможно. Отсюда до того места, где он видел эти ножки, много сотен ли пути. Так он думал, а ножки тем временем стали прозрачными и незаметно слились с тенями в облаках.
Это случилось тогда, когда исчезли ножки. Из глубины души Хэ Сяо-эра поднялась ни разу до сих пор не испытанная странная печаль. Над его головой безмолвно распростерлось огромное синее небо. Под этим небом, под легким веяньем ветерка люди вынуждены влачить свое жалкое существование. Как это грустно! И что он сам до сих пор не знал этой грусти — как это странно! Хэ Сяо-эр глубоко вздохнул.
В этот миг между его глазами и небом стремительно, гораздо быстрее, чем это было в действительности, пронесся отряд японской кавалерии в фуражках с красным кантом. И так же стремительно исчез. Ах, и им, наверно, так же грустно, как и ему! Не будь они призраком, хорошо было бы друг друга утешить и хоть ненадолго забыть свою печаль. Но и это сейчас слишком поздно.
На глаза Хэ Сяо-эра все время набегали слезы. Какой безобразной показалась ему его прежняя жизнь, когда он взглянул на нее глазами, полными слез, — об этом не нужно и говорить. Ему хотелось у всех просить прощения. И самому хотелось всех простить.
«Если меня спасут, я во что бы то ни стало искуплю свое прошлое», — плача, повторял он про себя. Но бесконечно глубокое, бесконечно синее небо, как будто ничему не внемля, медленно, дюйм за дюймом, все ниже и ниже опускалось ему на грудь. В этом океане синевы там и сям что-то слегка сверкало, — должно быть, звезды, которые видно и днем. Прежние призраки уже не заслоняли неба. Хэ Сяо-эр еще раз вздохнул и, с дрожащими губами, медленно закрыл глаза.
Со времени заключения мира между Китаем и Японией прошел год. Как-то ранней весной в одной из комнат японского посольства в Пекине сидели за столом военный атташе майор Кимура и только что приехавший из Японии инженер министерства сельского хозяйства и торговли, кандидат наук Ямакава. Они непринужденно беседовали, забыв о делах за чашкой кофе и папиросой. Несмотря на весну, в большом камине горел огонь, и в комнате было так тепло, что собеседники слегка потели. От карликовой красной сливы в горшке, стоявшей на столе, иногда долетал чисто китайский аромат.
Некоторое время разговор вертелся вокруг императрицы Си-тайхоу, затем перешел на воспоминания о японо-китайской войне, и тогда майор Кимура, видимо под влиянием какой-то мысли, вдруг встал и перенес на стол подшивку газет «Шэньчжоу жибао», лежавшую в углу. Он развернул одну из газет перед инженером Ямакава, указал пальцем на одну из заметок и взглядом предложил прочесть. Инженер немного оторопел от неожиданности: впрочем, он давно знал, что майор держится просто, совсем не как военный. Поэтому он мгновенно представил себе какой-то исключительный случай, связанный с войной, взглянул на газету, и действительно, там оказалась внушительная заметка, которая в переводе на японский газетный язык выглядела так:
«Владелец парикмахерской на улице... некий Хэ Сяо-эр, будучи храбрым воином, не раз обнаруживал свою доблесть во время японо-китайской войны. Тем не менее после своего славного возвращения он вел себя невоздержанно, губил себя вином и женщинами; ...числа, когда он выпивал в ресторане с приятелями, разгорелась ссора, в конце концов перешедшая в драку, вследствие чего он был ранен в шею и немедленно скончался. Весьма странные обстоятельства связаны с раной на шее убитого: она не была нанесена оружием во время драки, а это вскрылась рана, полученная им на поле битвы в японо-китайскую войну, причем, судя по
105
рассказам очевидцев, когда убитый во время драки упал, повалив стол, голова его внезапно отделилась от туловища и в потоках крови покатилась по полу. Хотя власти сомневаются в достоверности этого рассказа и в настоящее время заняты строгими розысками виновного, все же, если в «Странных историях» Ляо Чжая повествуется о том, как у некоего человека из Чжу-чэня отвалилась голова, то почему то же самое не могло случиться и с Хэ Сяо-эром?» и т. д.
— Что это значит? — изумленно произнес инженер Ямакава, прочитав заметку.
Майор Кимура, медленно выпуская струйки папиросного дыма, снисходительно улыбнулся:
— Любопытная история1 Такая вещь только в Китае и может случиться.
— Да разве это мыслимо где бы то ни было?
Инженер Ямакава, усмехаясь, стряхнул пепел в пепельницу.
— Но еще интересней, что... — майор помедлил со странно серьезным лицом, — я знал этого Хэ Сяо-эра.
— Знали? Удивительно! Надеюсь, при вашем звании атташе вы не станете заодно с репортером сочинять небылицы?
— Кто же будет заниматься такой ерундой? Нет, когда я был ранен в битве при... этот самый Хэ Сяо-эр тоже лежал в нашем полевом лазарете, и я для практики в китайском языке несколько раз беседовал с ним. Здесь ведь говорится, что у него была рана на шее, так что девять шансов из десяти, что это он и есть. Отправившись на разведку или что-то в таком роде, он попал в стычку с нашей кавалерией, и японская шашка угодила ему в шею.
— Странная история. Кстати, этот Хэ Сяо-эр, судя по газете, гуляка. Пожалуй, умри такой человек тогда, — все было бы только лучше.
— В то время это был чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий человек, среди пленных такие просто редкость. Оттого и врачи его особенно любили и, по-видимому, лечили со всем усердием. Он рассказывал о себе очень интересные вещи. В частности, я до сих пор хорошо помню, как он описывал мне свое состояние, когда он, раненный, упал с лошади. Он скатился в грязь у реки, лежал и смотрел в небо над прибрежными ивами и будто бы отчетливо видел в этом небе материнскую юбку, женские ножки, кунжутные поля...
Майор Кимура бросил папиросу, поднес к губам чашку с кофе и, взглянув на сливу в горшке, прибавил словно про себя:
— Он говорил, что именно тогда с горечью почувствовал, как отвратительна ему вся его прежняя жизнь.
106
— И как только кончилась война, он превратился в гуляку? Немногого же стоит человек!
Откинув голову на спинку стула и вытянув ноги, инженер Ямакава, иронически улыбаясь, выдохнул дым к потолку.
— «Немногого стоит человек»? Это вы в том. смысле, что он просто прикидывался тихоней?
— Ну да.
— Нет, этого я не думаю. Я думаю, он так чувствовал всерьез, по крайней мере, тогда. Да и теперь, в ту самую секунду, когда у него (употребляя газетное выражение) отвалилась голова, он, вероятно, чувствовал то же самое. Я представляю себе это так: в драке его, пьяного, опрокинули вместе со столом. Рана его открылась, и в тот же миг голова с болтающейся длинной косой покатилась на пол. И юбка матери, женские ножки и цветущие кунжутные поля, которые он видел тогда, опять туманно проплыли у него перед глазами. А может быть, хотя над ним и была крыша, он смотрел далеко ввысь, в глубокое синее небо. И тогда он опять с горечью почувствовал, как отвратительна ему его прежняя жизнь. Но на этот раз было поздно. Впервые, когда он потерял сознание, японские санитары заметили и подобрали его. А теперь тот, с кем он дрался, набросился на него, колотил, пинал. И тут он, полный раскаяния, горько сожалея, испустил дух.
Инженер Ямакава пожал плечами и засмеялся.
— Вы большой, фантазер. Но почему же в таком случае после стольких переживаний он сделался гулякой?
— А это потому, что человек немногого стоит, только в другом смысле. — Закурив новую папиросу, майор Кимура, улыбаясь, ясным, несколько назидательным голосом произнес: — Каждый из нас должен твердо знать, что он немногого стоит. В самом деле, только те, кто это знает, хоть чего-нибудь да стоят. А иначе, как знать, и у нас когда-нибудь отвалится голова, как отвалилась она у Хэ Сяо-эра... Китайские газеты нужно читать именно так и никак иначе.
Декабрь 1917 г.
1
Ночь. Морито за оградой глядит на диск луны и ступает по опавшей листве, погруженный в думы.
Его разговор с самим собой.
«Вот и луна взошла. Обычно я жду не дождусь ее восхода, а сегодня боюсь света! При одной мысли о том, что я, такой, ка-
107
ким был до сих пор, в одну ночь исчезну и с завтрашнего дня сделаюсь убийцей, я дрожу всем телом. Представляю себе, как вот эти руки станут красными от крови. Как проклят я буду в своих собственных глазах! Я не мучился бы так, если бы убил человека, которого ненавижу. Но этой ночью я должен убить человека, к которому ненависти у меня нет.
По виду я его знаю давно. Его имя — Ватару Саэмон-но дзё — я узнал только теперь, но уже не помню, как давно мне знакомо его белое, слишком нежное для мужчины лицо. Когда я узнал, что он муж Кэса, я почувствовал ревность — это правда. Но эта ревность теперь исчезла, не оставив следа в моем сердце. И хотя Ватару — мой соперник в любви, у меня нет к нему ни ненависти, ни злобы. Нет, скорей даже я ему сочувствую. Когда я услышал, сколько стараний положил Ватару, чтобы завоевать Кэса в устье Коромогава, я даже думал о нем с теплотой. Полный одним стремлением сделать Кэса своей женой, разве не стал он даже учиться писать танка? Когда я представляю себе любовные стихи, написанные этим настоящим самураем, я не могу сдержать улыбки. Но это вовсе не улыбка насмешки. Просто меня трогает человек, который так старается понравиться женщине. А может быть, его рвение доставляет мне, влюбленному, своеобразное удовлетворение, потому что он старается понравиться женщине, которую я люблю.
Но люблю ли я Кэса настолько, чтобы так говорить? Моя любовь к Кэса делится на две поры: теперь и раньше. Бще до того, как Кэса связала свою судьбу с Ватару, я ее любил. Или думал, что люблю. Но теперь я вижу, что тогда в моем сердце было много нечистого. Чего я желал от Кэса? Я не знал еще женщин и просто желал овладеть ее телом. Не будет большим преувеличением сказать, что моя любовь к Кэса была лишь чувствительностью, приукрашивавшей это желание. И вот подтверждение: перестав встречаться с Кэса, я все же три года действительно не мог ее забыть, но помнил бы я ее так, если бы тогда узнал ее тело? Как ни стыдно, у меня не хватает духа ответить: да, помнил бы так же. И позже в моей любви к Кэса значительную долю составляло сожаление о том, что я не знал ее тела. Снедаемый такими чувствами, я наконец вступил в связь, которой я так боялся и так ждал. «Ну и что же теперь? — снова спрашиваю я сам себя. — Действительно ли я люблю Кэса?»
Но прежде чем ответить на этот вопрос, мне, как ни тяжело, приходится припомнить некоторые обстоятельства. Случайно встретив Кэса после трехлетней разлуки на заупокойной службе у моста Ватанабэ, я полгода всеми средствами добивался тайного свидания с ней. И мне это удалось. Нет, удалось не только добить-
108
ся свидания, но и овладеть ее телом, как это мне только снилось во сне. Но меня толкнуло на это не только прежнее сожаление о том, что я не знаю ее тела. Сидя на циновках в одной комнате с Кэса в доме у Коромогава, я заметил, что это сожаление как-то незаметно для меня ослабело. Может быть, дело было в том, что к тому времени я уже знал женщин. Но была причина важнее: Кэса подурнела. В самом деле, теперешняя Кэса уже не та, что три года назад. Кожа ее потеряла свой блеск, под глазами появились темные круги. Прежняя пышная мягкость щек и подбородка исчезла, как выдумка. Единственное, что не изменилось, это, пожалуй, только все те же властные, смелые черные глаза. Эта перемена нанесла моему желанию страшный удар. Я до сих пор хорошо помню, что, встретившись с Кэса впервые после трехлетней разлуки, я был так потрясен, что невольно отвел глаза.
Так зачем же, уже не чувствуя прежнего влечения к ней, я вступил с ней в связь? Во-первых, мною двигало странное желание покорить ее. Встретившись со мной, Кэса намеренно преувеличенно рассказывала мне о своей любви к Ватару. А во мне это почему-то вызвало только ощущение лжи. «Эту женщину связывает с мужем только одно чувство — тщеславие», — думал я. «А может быть, она просто сопротивляется, боится вызвать жалость?» — думал я также. И во мне все сильней разгоралась жажда изобличить эту ложь. Но если меня спросят, почему я решил, что это ложь, и скажут мне, что в таких мыслях сказалась моя самовлюбленность, я не смогу возражать. И все же я был убежден, что это ложь. И убежден до сих пор.
Но и желание покорить ее было не все, что мною тогда владело. Кроме того... стоит мне это сказать, как я чувствую, что краска заливает мне лицо. Кроме того, мною владело чисто чувственное желание. Это не было сожаление о том, что я не знал ее тела. Нет, это было более низменное чувство, вовсе не нуждавшееся именно в этой женщине, это было желание ради желания. Даже мужчина, покупающий распутную девку, пожалуй, не так подл, как я был тогда.
Как бы то ни было, под влиянием всех этих побуждений я вступил в связь с Кэса. Или, вернее, опозорил Кэса. Теперь, возвращаясь к вопросу, который я поставил себе с самого начала... Нет, мне незачем спрашивать себя вновь, люблю ли я Кэса. Временами я скорее ненавижу ее. В особенности после того, как все уже было кончено и она лежала в слезах, а я поднял ее, насильно обнимая, — тогда она казалась мне бесстыдней, чем я, бесстыдный! Ее растрепанные волосы, ее потное лицо — все свидетельствовало о безобразии ее тела и ее души. Если раньше я ее и любил, то
109
этот день был последним — любовь исчезла навек. Или если раньше я ее не любил, то с этого дня в душе у меня родилась ненависть — можно сказать и так. И вот... О! Разве не готов я сегодня ради этой женщины, которую я не люблю, убить мужчину, к которому не питаю ненависти?
В этом совершенно никто не виноват. Я заговорил об этом сам, своими собственными устами. «Убить Ватару?» — прошептал я, приблизив губы к ее уху. Когда я вспоминаю об этом, мне начинает казаться, что я тогда сошел с ума! Но я это прошептал. С мыслью «не прошепчу», стиснув зубы, прошептал. Почему мне захотелось так шепнуть, я и теперь, оглядываясь назад, никак не пойму. Но если хорошенько подумать... Чем больше я ее презирал, чем больше я ее ненавидел, тем больше и больше хотелось мне чем-нибудь ее унизить. Ничто не приблизило бы меня к этой цели так, как слова, которые я произнес: «Убить Ватару», — убить мужа, любовь к которому Кэса выставляла напоказ, вынудить у нее согласие на это. И вот я, точно одержимый злым духом, сам того не желая, вызвался совершить убийство. Но если даже этих моих побуждений, из-за которых я сказал «убить Ватару», было мало, то потом какая-то невидимая сила (наверное, сам дьявол) поработила мою волю и увлекла меня на путь ела — иначе объяснить это невозможно. Так или иначе, я неотступно шептал на ухо Кэса одно и то же.
Тогда немного погодя Кэса вдруг подняла лицо и прямо ответила, что согласна на мой замысел. Для меня не только легкость этого ответа оказалась неожиданной. Когда я взглянул на ее лицо, в ее глазах таился странный блеск, какого я ни разу еще у нее не видел. Прелюбодейка! — вот что сразу же пришло мне в голову. И чувство, похожее на отчаяние, в один миг развернуло перед моими глазами весь ужас задуманного мною. Разумеется, излишне упоминать, что меня и тогда мучило отвращение к ее развратному, поблекшему виду. Если бы я только мог, я бы тут же на месте нарушил свое обещание. Я повергнул бы эту неверную жену на дно гнуснейшего позора. Возможно, тогда — пусть я и играл этой женщиной — моя совесть могла бы укрыться за справедливым негодованием. Но на это я уже не был способен. Когда лицо ее вдруг изменилось и она, точно видя меня насквозь, пристально посмотрела мне в глаза, признаюсь прямо: я принужден был дать обещание убить Ватару и назначил день и час потому, что я боялся: если я не соглашусь, Кэса мне отомстит. И до сих пор страх неотвязно сковывает мне сердце. Если кто-нибудь посмеется надо мной, как над трусом, — пусть смеется! Это сделает только тот, кто не видел Кэса тогда. «Если я не убью его, то Кэса — пусть и не собственными руками — все равно убьет меня. Так пусть лучше я сам
110
убью Ватару!» — с отчаянием думал я, глядя в ее глаза, плачущие без слез. Я дал клятву, и когда я увидел, как Кэса опустила глаза и засмеялась, так что на ее бледных щеках появились ямочки, разве основательность моего страха не подтвердилась?
О, из-за этой проклятой клятвы я должен на свою обесчещенную, дважды обесчещенную душу принять грех убийства! Если бы этой ночью я нарушил клятву... Нет, этого я тоже не вынесу. Во-первых, есть та, кому я клялся. И, кроме того, я говорил, что боюсь мести. И это не ложь. Но есть и еще нечто. Что? Что это за великая сила, которая гонит меня, такого труса, на убийство безвинного? Не знаю. Не знаю, но иногда... Нет, не может быть! Я презираю эту женщину. Боюсь. Ненавижу. И все-таки... и все-таки... может быть, я все еще люблю ее...»
Продолжая ходить взад и вперед, Морито больше не произносит ни слова. Лунный свет. Слышно, как где-то поют песни имаё:
| О душа, о сердце человека!
Ты, как непроглядный мрак, темно и глухо. Ты горишь одним огнем — страстей нечистых, Угасаешь без следа, — и вот вся жизнь! |
2
Ночь. Кэса, встав с постели и отвернувшись от света лампады, кусает рукав, погруженная в думы.
Ее разговор с самой собой.
«Придет ли он? Или не придет? Не может быть, чтобы не пришел. Однако луна уже склоняется к закату, а шагов не слышно, — может быть, он раздумал? Вдруг он не придет?.. О, тогда я опять должна буду смотреть на солнце со стыдом, как распутная девка! Как выдержу я такую мерзость, такую гнусность? Тогда я буду все равно что труп, валяющийся на дороге. Опозоренная, попираемая, в довершение всех зол обреченная нагло выставлять свой позор на свет, я все же должна буду молчать, как немая. Если это случится, пусть я умру — даже смерть не облегчит моих мук! Нет, нет, он непременно придет! Я не могу думать иначе с тех пор, как при прощании я видела его глаза. Он боится меня. Ненавидит, презирает и все же боится. В самом деле, если бы я надеялась только на себя, я не могла бы сказать, что он непременно придет. Нет, я надеюсь на подлый страх, рожденный его себялюбием. Вот почему я могу так сказать. Он непременно прокрадется сюда...
111
Я, не способная больше надеяться на самое себя, — что я за жалкий человек! Три года назад я больше всего надеялась на себя, на свою красоту. Три года назад... может быть, ближе к правде будет сказать — до того дня. В тот день, когда я встретилась с ним в одной комнате, в доме у тетки, я с первого же взгляда увидела в его сердце свое безобразие. Лицо его оставалось спокойным, он как ни в чем не бывало говорил мне нежные слова, чтобы меня увлечь. Но разве может поддаться таким словам сердце женщины, однажды понявшей свое безобразие! Я только терзалась. Боялась. Горевала. Я вспомнила, как мне было жутко, когда в детстве, на руках у няньки, я смотрела на лунное затмение, — но насколько тогда было лучше, чем теперь! Все мои мечты сразу развеялись. И меня охватила тоска, как на дождливом рассвете. Дрожа от тоски, я в конце концов отдала свое все равно что мертвое тело этому человеку. Этому человеку, которого я не люблю, который меня ненавидит, который меня презирает, этому сластолюбцу... Может быть, я не могла вынести тоски, охватившей меня, когда я увидела свое безобразие? И я хотела обмануть всех, когда, словно в порыве страсти, прижала голову к его груди? Или же меня, как и его, толкала только гнусная чувственность? От одной этой мысли мне стыдно. Стыдно! Стыдно! Особенно в тот миг, когда я высвободилась из его объятий, как презирала я сама себя!
Как ни хотела я сдержать слезы, от гнева и тоски они лились опять и опять. Но это была не только печаль о нарушенной верности. Мучительнее всего было то, что, заставив меня нарушить мою верность, меня еще и унизили, что, ненавидя меня, как прокаженного пса, меня еще и терзают. Что же я потом сделала? Теперь это представляется мне смутным, как далекое воспоминание. Я только помню, как я рыдала, и вдруг его усы коснулись) моего уха, и он, горячо дыша, тихо прошептал: «Убить Вата-ру?» Услыхав эти слова, я почувствовала еще мне самой непонятное, странное ощущение возвращения жизни. Жизни? Если сияние луны можно назвать светом, то и это было возвращение жизни. Но как эта жизнь не похожа на свет солнца! И все же разве эти ужасные слова не утешили меня? О, неужели я, неужели женщина может так радоваться любви другого мужчины, что готова убить своего мужа?
Ощущая это возвращение жизни, тоскливой, как лунный свет в эту ночь, я все еще плакала. А потом? Потом? Когда, как я взяла с него клятву убить мужа? Только принимая клятву, я в первый раз вспомнила о муже. Я открыто говорю —в первый раз. До тех пор я была поглощена лишь мыслями о самой себе, о своем позоре. И только тогда вспомнила о муже, о своем тихом муже... нет, не о муже. Перед моими глазами, как живое, всплыло
112
лицо мужа, что-то с улыбкой мне говорящего. Наверно, моё замысел шевельнулся в моей душе как раз в тот миг, когда я вспомнила это лицо. Потому что как раз тогда я решила умереть. Я радовалась, что я в силах решиться. Но вот, перестав плакать, я подняла лицо, взглянула на Морито, снова, как и раньше, прочла в его сердце, что я безобразна, и вся моя радость сразу погасла. Я опять вспомнила мрак лунного затмения, которое я видела, лежа на руках у кормилицы. Как будто разом вырвались на волю все притаившиеся на дне радости злые духи. Если я заменю собой мужа, значит ли это, что я действительно люблю его? Нет, нет, мне только хочется под этим предлогом искупить свой собственный грех — то, что я отдалась этому человеку. Я, у которой не хватает мужества покончить с собой! Я, исполненная подлого желания выставить себя перед людьми в лучшем свете! Но это еще можно было бы изменить. Я была еще подлей! Еще, еще безобразней! Под предлогом заменить собой мужа не хотела ли я отомстить этому человеку за его ненависть, за его презрение, за его гнусную чувственность, в угоду которой он сделал меня своей игрушкой, отомстить за все? Вот подтверждение: когда я увидела его лицо, странное оживление, похожее на лунный свет, потухло во мне, и мое сердце вдруг оледенила печаль. Я умру не ради мужа. Я хочу умереть ради себя самой. Я хочу умереть из-за горечи оттого, что изранили мое сердце, и из-за злобы оттого, что осквернили мое тело. Вот почему я хочу умереть. О, моя жизнь ничего не стоит! Ничего не стоит и моя смерть.
Но насколько эта смерть, даже если она и ничего не стоит, желанней, чем жизнь! Скрывая печаль, я принудила себя улыбнуться и еще раз взяла с него клятву убить мужа. Он догадлив, и он по этим моим словам, вероятно, догадался, что я натворю, если увижу, что он нарушил клятву. А если так — он должен прийти, дав клятву, он не может не прийти... Что это, ветер? Когда я подумаю, что мои мучения, начавшиеся с того дня, этой ночью наконец прекратятся, у меня становится легко на сердце. Завтра солнце бросит холодный свет на мой обезглавленный труп. Когда это увидит мой муж... Нет, о муже не надо думать, муж меня любит. Но эта любовь мне не нужна. С давних пор я могла любить только одного человека. И этот единственный человек сегодня ночью придет меня убить. Даже при свете лампады мне слишком светло. Мне, измученной моим возлюбленным...»
Кэса гасит светильник. Вскоре в темноте — слабый звук отодвигаемой ставни. И сквозь щель падает бледный свет луны.
Март 1918 г.
113
1
Однажды Будда бродил в одиночестве по берегу райского
пруда.Весь пруд устилали лотосы жемчужной белизны, золотые сердцевины их разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание.
В раю тогда было утро.
Будда остановился в раздумье и вдруг увидел в окне воды, мерцавшей среди широких листьев лотоса, все, что творилось глубоко внизу, на дне Лотосового пруда.
Райский пруд доходил до самых недр преисподней.
Сквозь его кристальные воды Игольная гора и река Сандзу были видны так отчетливо ясно, словно в глазок биоскопа.
Там, в бездне преисподней, кишело великое множество грешников. И случилось так, что ввор Будды упал на одного грешника по имени Кандата.
Этот Кандата был страшным разбойником. Он совершил много злодеяний: убивал, грабил, поджигал, но все же и у него на счету нашлось одно доброе дело.
Как-то раз шел он сквозь чащу леса и вдруг увидел: бежит возле самой тропинки крохотный паучок. Кандата занес было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: «Нет, он хоть и маленький, а, что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать его»..
И пощадил паучка.
Созерцая картину преисподней, Будда вспомнил, что разбойник Кандата подарил однажды жизнь паучку, и захотел он, если возможно, спасти грешника из бездны ада в воздаяние за одно лишь это доброе дело. Тут, по счастью, на глаза Будде попался райский паучок. Он подвесил прекрасную серебряную нить к зеленому, как нефрит, листу лотоса.
Будда осторожно взял в руку тончайшую паутинку и опустил ее конец в воду между жемчужно-белыми лососами. Паутинка стала спускаться прямо вниз, пока не достигла отдаленнейших глубин преисподней.
2
Там, на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения в Озере крови, то всплывая наверх, то погружаясь в пучину.
Повсюду, куда ни взгляни, царила кромешная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. Это тускло поблески-
114
вали иглы на страшной Игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников.
Преступные души, низверженные после многих мук в самые глубины преисподней, не находили сил стонать и плакать.
Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлебываясь кровью в Озере крови, лишь беззвучно корчился, как издыхающая лягушка.
Но вдруг Кандата поднял голову и начал вглядываться в темноту, нависшую над Озером крови. Из этой пустынной мглы, с далекого-далекого неба, прямо к нему, поблескивая тонким лучиком, плавно спускалась серебряная паутинка, словно опасаясь, как бы ее не приметили другие грешники.
Кандата от радости забил в ладоши. Надо только уцепиться за эту паутинку и полезть по ней, взбираясь все выше и выше. Тогда уж, верное дело, ускользнешь из преисподней.
А если повезет, то, чего доброго, и в рай попадешь. И не погонят тебя больше на вершину Игольной горы, не бросят снова в Озеро крови.
Подбодренный этой надеждой, Кандата крепко ухватился за паутинку обеими руками и начал изо всех сил карабкаться вверх.
Само собой, для опытного вора это было делом привычным.
Но от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри. Как он ни старался, нелегко ему было добраться до горных высот. Лез, лез Кандата вверх и наконец даже его, такого силача, одолела усталость. Не смог он без единой передышки добраться до самого неба.
Делать нечего, пришлось дать себе роздых. Вот остановился он на полдороге, висит на паутинке, отдыхает, и вдруг поглядел вниз, в глубокую пропасть.
Недаром так упорно взбирался Кандата вверх по этой тонкой паутинке. Озеро крови, где он только что терпел лютые муки, скрылось в непроглядной тьме. А вершина страшной Игольной горы, смутно сверкавшая во мраке адской бездны, уже у него под ногами. Если он и дальше будет так проворно карабкаться, что ж, пожалуй, ему и в самом деле удастся дать тягу из преисподней.
Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрел человеческий голос и с хохотом крикнул:
— Спасен! Спасен!
Но тут же внезапно заметил, что и другие грешники без числа и счета облепили паутинку и, как шеренга муравьев, ползут вслед за ним все выше и выше.
115
При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, по-дурацки широко разинув рот.
Эта тоненькая паутинка и его-то одного с трудом выдерживала, где же ей выдержать такое множество людей!
Если паутинка лопнет, тогда и он сам, — подумать только, он сам! — уже забравшийся так высоко, полетит вверх тормашками в ад. Прощай надежда на спасение!
А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из темных глубин Озера крови. Сотни, тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч, паутинке. Надо что-то скорей предпринять, или паутинка непременно порвется и он полетит в бездну.
И Кандата завопил во весь голос:
— Эй вы, грешники! Это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну, живо слезайте. Слезайте вниз!
Но что случилось в тот же миг!
Паутинка, до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за нее цеплялся Кандата.
Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками все ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы.
И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном, безлунном небе преисподней.
3
Стоя на берегу Лотосового пруда, Будда видел все, что случилось, с начала и до конца. И когда Кандата, подобно брошенному камню, погрузился на самое дно Озера крови, Будда с опечаленным лицом опять возобновил свою прогулку.
Сердце Кандаты не знало сострадания, он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, и за это был наказан по заслугам: снова ввергнут в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это зрелище в глазах Будды!
Но лотосы в райском Лотосовом пруду оставались безучастны.
Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды.
И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание. ..
В раю время близилось к полудню.
16 апреля 1918 в.
116
1
Второго такого человека, как его светлость Хорикава, раиыпе-то, уж конечно, не было, да и впредь вряд ли будет. Ходила молва, будто перед его рождением у изголовья достопочтенной матушки явился сам святой Дайитоку. Как бы там ни было, он с самого рождения своего, говорят, непохож был на обыкновенных людей. И оттого ни разу не случалось, чтобы мы не подивились тому, что ему угодно было сделать. Посмотреть хоть на его дворец у реки Хорикава, такой, как это говорят, «величественный», что ли? Там такое понаделано, что нам с нашим простым разумением этого и не понять. Люди рассказывают о его светлости невесть что, сравнивают его светлость с императором Ши Хуан-ди и Ян-ди, да ведь это, пожалуй, все равно что, как говорится в пословице, слепому на ощупь судить о слоне. Однако его светлость помышлял не только о себе, о своем блеске и славе. Нет, он вникал и в то, что было куда ниже его. Он, как говорится, радовался вместе со всем миром — такое уж у него было великодушное сердце.
Вот почему, даже когда его светлость оказался во дворпе Нидзё во время ночных бесчинств злых духов, с ним не приключилось ничего дурного. И дух самого садайдзина Тору, который, как шла молва, из ночи в ночь появлялся во дворце Каварапн, на Третьей Восточной улице, — в том дворце, что прославлен изображением видов Сиогама в Митиноку, — так вот, даже этот призрак исчез, стоило его светлости на него прикрикнуть. Вот какое могущество было у его светлости, так что не удивительно, что народ во всей столице — стар и млад, мужчины и женщины, когда заходила речь о его светлости, говорили о нем, как о живом Будде. Прошел даже слух, что когда при возвращении из дворца с праздника сливовых цветов понесли быки, впряженные в колесницу его светлости и примяли одного старика, как раз там проходившего, то старик только сложил руки и благодарил за то, что по нему прошли быки его светлости.
Вот как все обстояло, и поэтому много чего можно будет порассказать о жизни его светлости даже в грядущие времена. Как он на пиру выставил в подарок гостям целых тридцать белых коней, как он при постройке моста Нагара отдал «в сваи» своего любимого отрока, как повелел китайцу-монаху, что знал искусство врачевания, разрезать себе нарыв на ляжке... Если перебирать все по отдельности — и конца не будет! Но из всего этого множества рассказов самый страшный, пожалуй, будет о том, как
117
появились ширмы с картиной мук ада, что и сейчас в доме его светлости почитаются самой большой драгоценностью. Ведь даже его светлость, которого ничто на свете не могло расстроить, и тот был тогда потрясен. А мы, кто ему прислуживал, еле живы остались, — об этом что уж говорить! Даже мне, служившей у его светлости целых тридцать лет, никогда больше не приходилось видеть такие ужасы.
Но прежде чем поведать вам об этом, нужно сначала рассказать о мастере-художнике Ёсихидэ, что нарисовал эти ширмы с изображением мук ада.
2
Ёсихидэ... верно, и теперь еще есть люди, которые его помнят. Это был такой знаменитый художник, что вряд ли в то время нашелся бы человек, который мог бы с кистью в руках сравниться с ним. В ту пору было ему, пожалуй, лет под пятьдесят. Посмотришь на него — такой низенький, тощий, кожа да кости, угрюмый старик. Во дворец к его светлости он являлся в темно-желтом платье каригину, на голове — шапка момиэбоси. Нрава был он прегадкого, и губы его, почему-то не по возрасту красные, придавали ему неприятное сходство с животным. Говорили, будто он лижет кисти и оттого к губам пристает красная краска, а что это было на самом деле — кто его знает? Злые языки говорили, что Ёсихидэ всеми своими ухватками похож на обезьяну, и даже кличку ему дали: «Сарухидэ»1.
Да, раз уже я сказала «Сарухидэ», то расскажу заодно вот еще о чем. В ту пору во дворце его светлости возвели в ранг камеристки единственную пятнадцатилетнюю дочь Ёсихидэ, милую девушку, совсем непохожую на своего родного отца. К тому же, может, оттого, что она рано лишилась матери, она была задумчивая, умная не по летам, ко всем внимательная, и потому и дворцовая управительница, и все другие дамы любили ее.
Вот по какому-то случаю его светлости преподнесли ручную обезьяну из провинции Тамба, и сын его светлости, большой проказник, назвал ее Ёсихидэ. Обезьяна и сама по себе смешная, а тут еще такая кличка, вот никто во дворце и не мог удержаться от смеха. Ну, если бы только смеялись, это еще ничего, но случалось, что, когда она взберется на сосну в саду или запачкает татами в покоях, люди забавы ради подымали крик: «Ёсихидэ, Ёсихидэ!» — чем, конечно, сильно донимали художника.
1 С а р у — обезьяна.
118
Как -то раз, когда дочь Ёсихидэ, о которой я сейчас говорила, шла по длинной галерее, неся ветку сливы с письмом, из противоположной двери навстречу ей, прихрамывая, кинулась обезьянка Ёсихидэ — она, видно, повредила себе лапу и не могла взобраться на столб, как обычно делала. А за ней —что бы вы думали? — гнался молодой господин, размахивая хлыстом и крича:
— Негодный ворпшка! Постой, постой!
Увидев это, дочь Ёсихидэ было растерялась, но тут как раз обезьянка подбежала, уцепилась за ее подол и жалобно заскулила. Девушке сразу стало так ее жалко —прямо не совладать с собой. С веткой сливы в руке она отвела пахнущий фиалками рукав, нежно обняла обезьянку и, склонившись перед молодым господином, ясным голоском обратилась к нему:
— Осмелюсь сказать, это ведь животное. Пожалуйста, простите ее.
Но молодой господин уже стоял перед ними. Он гневно нахмурился и топнул ногой.
— Чего заступаешься! Обезьяна украла мандарины.
— Ведь это животное... — повторила девушка, набравшись смелости, а потом с грустной улыбкой добавила: — К тому же ее зовут Ёсихидэ. Выходит, будто вы гневаетесь на моего отца, и я не могу спокойно смотреть на это.
Тогда, конечно, молодой господин овладел собой.
— Вот как!.. Ну, раз просишь за отца, я, так и быть, уступлю и прощу, — сказал он неохотно, бросил хлыст и ушел через ту самую дверь, откуда показался.
3
Дружба дочери Ёсихидэ с обезьянкой и началась с этого случая. Девушка подвязала ей на шею, на красивой красной ленте, золотой колокольчик, полученный в подарок от молодой госпожи, и обезьянка уже не отходила от девушки. А когда однажды дочь Ёсихидэ, простудившись, лежала в постели, обезьянка неотлучно сидела возле нее, — может, это только казалось, — с грустной мордочкой и все время кусала себе ногти.
С тех пор — странная вещь! — никто уже больше не мучил обезьянку, как бывало раньше. Напротив, мало-помалу ее стали ласкать, даже сам молодой господин иногда кидал ей персимоны или каштаны. Мало того, когда однажды кто-то из слуг пнул обезьянку ногой, молодой господин очень разгневался; и говорили, что вскоре за тем его светлость повелел дочери Ёсихидэ явиться к нему с обезьянкой на руках именно потому, что ему стало иэ-
119
вестно, как разгневался молодой господии. Тут, кстати, до него дошли и рассказы о том, почему девушка так любит обезьянку. — Девчонка — хорошая дочь. Хвалю.
Так по воле его светлости девушка получила в награду алое акомэ. А когда и обезьянка почтительно взяла в руки акомэ, делая вид, будто его рассматривает, его светлость изволил еще больше развеселиться. Да, вот как это было, и, значит, его светлость стал благоволить к дочери Ёсихидэ именно потому, что одобрил ее почтение и любовь к отцу, сказавшиеся в ее любви к обезьяне, а вовсе не потому, что был сластолюбив, как говорили люди. Правда, и такая молва пошла не без причины, но об этом я расскажу не торопясь, как-нибудь в другой раз. Пока же довольно сказать, что при всей ее красоте не такой был человек его светлость, чтобы засматриваться на какую-то дочь художника.
Так вот, дочь Ёсихидэ удалилась от его светлости с честью, но так как она была девушка умная, то не навлекла на себя зависти остальных камеристок. Напротив, с тех пор ее вместе с обезьянкой стали баловать, и так часто сопровождала она молодую гоёпожу на прогулку, что, можно сказать, почти не отходила от нее.
Однако оставлю пока что девушку и расскажу еще об ее отце, Ёсихидэ. Да, обезьяну вскорости все полюбили, но самого-то Ёсихидэ по-прежнему терпеть не могли и по-прежнему за спиной звали Сарухидэ. И так было не только во дворце. В самом деле, и отец настоятель из Ёкогава, когда произносили при нем имя Ёсихидэ, менялся в лице, словно встретился с чертом, и вообще изволил его ненавидеть. Правда, поговаривали, будто причина в том, что Ёсихидэ изобразил отца настоятеля на шуточных картинках,; но это болтали низшие слуги, и не могу сказать наверняка, так ли это. Во всяком случае, отзывались о нем дурно везде, кого ни спросишь. Если кто не говорил о нем плохо, то разве два-три приятеля-художника. Да еще люди, которые видели его картины, но не знали его самого.
Однако Ёсихидэ не только с виду был гадкий, у него был отвратительный нрав, и нельзя не сказать, что ему доставалось по заслугам.
4
А нрав у него был вот какой: он был скупой, бессовестный, ленивый, алчный, а пуще всего — спесивый, заносчивый человек. Что он первый художник в стране — это прямо-таки капало у него с кончика носа. Ладно бы дело шло только о живописи, но он и в другом не хотел никому уступать и высмеивал даже нравы и
120
обычаи. Один старый ученик Ёсихидэ рассказывал мне, что, когда как-то раз в доме одной знатной особы в знаменитую жрицу Хи-гаки вселился дух и она начала вещать страшным голосом, Ёсихидэ и слушать ее не стал, а взял припасенную кисть и спокойно срисовал ужасное лицо жрицы. Должно быть, и нашествие духа было в его глазах просто детским надувательством.
Вот какой это был человек, и потому лицо будды Киссётэн он срисовал с простой потаскушки; а будду Фудо писал с оголтелого каторжника, и много чего непотребного он делал, а когда его за это упрекали, он только посвистывал. «Что же, боги и будды, которых Ёсихидэ нарисовал, его же за это накажут? Чудно!» Такие слова пугали даже учеников, и многие из них в страхе за будущее торопились его оставить. Как бы там ни было, он думал, что такого замечательного человека, как он, в его время нет нигде на свете.
Нечего говорить о том, какой высоты Ёсихидэ достиг в искусстве живописи. Правда, так как его картины и по рисунку и по краскам во всем отличались от произведений других художников, то среди его недоброжелателей, собратьев по кисти, поговаривали, что он шарлатан. По их словам, когда дело касается картин Кава-нари, или Канаока, или других знаменитых старых мастеров, то о них ходят удивительные рассказы: то будто на разрисованной створке двери в лунные ночи благоухает слива, то будто слышно, как придворные, изображенные на ширме, играют на флейте... Когда же речь идет о картинах Ёсихидэ, то говорят только странные и жуткие вещи. Например, о картине «Круговорот жизни и смерти», которую Ёсихидэ написал на воротах храма Рюгайдзи, рассказывали, что когда поздно ночью проходишь через ворота, то слышатся стоны и рыдания небожителей. Больше того, находились такие, которые уверяли, что чувствовали даже зловоние разлагающихся трупов. А портреты женщин, нарисованные по приказу его светлости? Говорили ведь, что не проходит и трех лет, как те, кто на них изображен, заболевают, словно из них вынули душу, и умирают. Послушать злоязычных, так это самое верное доказательство, что в картинах Ёсихидэ замешано колдовство.
Но поскольку Ёсихидэ, как я уже говорила, был человек особенный, то он только гордился этим, и когда как-то раз его светлость изволил пошутить: «Ты, кажется, любишь уродство?»—то он, неприятно усмехнувшись своими не по возрасту красными губами, самодовольно ответил: «Да, всем этим художникам-верхоглядам не понять красоты уродства!» Пусть он и первый художник в стране, но так кичиться в присутствии его светлости... Недаром ученик, о котором я давеча упоминала, потихоньку дал ему кличку «Тираэйдзю», хуля его за то, что он зазнается. Вы,
121
наверно, знаете: Тпраэйдзю — так звали черта, который давно в старину прибыл к нам из Китая.
Но даже у Ёсихидэ, даже у этого человека, который не признавал никого и ничего, было одно настоящее человеческое чувство.
5
Ёсихидэ до безумия любил свою единственную дочь, ту самую девушку-камеристку. Я уже говорила, что девушка была нежная, хорошая дочь, но и его любовь к ней отнюдь не уступала ее чувству, и если рассказать, что этот человек, который на храмы никогда не жертвовал, на платья дочери или украшения для ее волос денег не жалел никогда, может показаться, что это просто ложь.
Впрочем, любовь Ёсихидэ к дочери сводилась лишь к тому, что он ее лелеял, а найти ей хорошего мужа — этого у него и в мыслях не было. Какое там! Если за девушкой кто-нибудь приударял, он, наоборот, не останавливался перед тем, чтоб набрать головорезов, которые нападали на смельчака и его убивали. Поэтому, когда по слову его светлости девушку произвели в камеристки, старик отец был очень недоволен и даже перед лицом его светлости хмурился. Должно быть, отсюда-то и пошли толки о том, что его светлость увлечен красотой девушки и держит ее во дворце, не считаясь с недовольством отца.
Впрочем, хотя толки-то были ложные, но что Ёсихидэ из любви к дочери постоянно просил, чтобы ее отпустили из дворца, это правда. Однажды, рисуя по приказу его светлости младенца мондзю, он очень удачно изобразил лицо любимого отрока его светлости, и его светлость, весьма довольный, изволил милостиво сказать;
— В награду дам тебе что хочешь. Выскажи твое желание, не стесняясь.
Тогда Ёсихидэ — что бы вы думали? — дерзко сказал:
— Пожалуйста, отпустите мою дочь!
В других дворцах — дело особое, но тех, кто служил его светлости Хорикава, так ласкали... Где ж еще найдется человек, который бы так грубо обратился с подобной просьбой? Это даже его светлость, такого великодушного, видимо, рассердило, и он некоторое время только молча смотрел в лицо Ёсихидэ, а потом изволил резко сказать: «Нельэя», — и тут же поднялся. И такие вещи повторялись несколько раз. Как вспомнишь теперь, пожалуй, с каждым разом его светлость изволил смотреть на Ёсихидэ все холоднее. Да и девушка, должно быть, беспокоясь за отца, часто
122
приходила в комнаты камеристок и горько плакала, кусая рукав. Тогда толки о том, что его светлость влюбился в дочь Ёсихидэ, еще усилились. Некоторые даже говорили, будто ширмы с муками ада появились-де из-за того, что девушка противилась желаниям его светлости; но этого, разумеется, не могло быть.
Как я понимаю, его светлость не хотел отпустить дочь Ёси-хидэ потому, что он с жалостью думал о судьбе молодой девушки. Он милостиво полагал, что, чем оставлять ее у такого упрямого отца, лучше держать ее у себя во дворце, где ей жилось привольно. Разумеется, он благоволил к милой девушке. Но что у него были сластолюбивые помыслы, это досужие выдумки. Да нет, можно сказать, что это просто ложь, лишенная всяких оснований.
Но, как бы там ни было, только уже в то время, когда Ёсихидэ из-за дочери оказался почти в немилости, его светлость, — о чем он помыслил, не знаю, — вдруг призвал к себе художника и повелел ему разрисовать ширмы, изобразив на них муки ада.
6
Стоит только сказать: «Ширма с муками ада», — как эта страшная картина так и встает у меня перед глазами.
Если взять другие изображения мук ада, то надо сказать вот что: то, что нарисовал Ёсихидэ, не похоже на картины других художников, прежде всего, как бы это сказать, по расположению. В углу на одной створке мелко нарисованы десять князей преисподней, а по всему остальному пространству бушует такое яростное пламя, что можно подумать, будто пылают меч-горы, поросшие нож-деревом. Только кое-где желтыми или синими крапинками пробивается китайская одежда адских слуг, а так, куда ни кинь взгляд, все сплошь залито алым пламенем, и среди огненных языков, изогнувшись, как крест мандзи, бешено вьется черный дым разбрызганной туши и летят горящие искры развеянной золотой пыли.
Уже в этом одном сила кисти поражает взор, но и грешники, корчащиеся в огне, — таких тоже почти что не бывает на обычных картинах ада. Среди множества грешников Ёсихидэ изобразил людей всякого звания, от высшей знати до последнего нищего. Важные сановники в придворных одеяниях, очаровательные юные дамы в шелковых нарядах, буддийские монахи с четками, молодые слуги на высоких асида, отроковицы в длинных узких платьях, гадатели со своими принадлежностями — перечислять их всех, так и конца не будет! В бушующем пламени и дыму, истязуемые адскими слугами с бычьими и конскими го-
123
ловами, эти люди судорожно мечутся во все стороны, как разлетающиеся по ветру листья. Там женщина, видно, жрица, подхваченная за волосы на вилы, корчится со скрюченными, как лапы у паука, ногами и руками. Тут мужчина, должно быть, какой-нибудь наместник, с грудью, насквозь пронзенной мечом, висит вниз головою, будто летучая мышь. Кого стегают железными бичами, кто придушен тяжестью камней, которых не сдвинет и тысяча человек, кого терзают клювы хищных птиц, в кого впились зубы ядовитого дракона, — пыток, как и грешников, там столько, что не перечесть.
Но самое ужасное — это падающая сверху карета, соскользнувшая до середины нож-дерева, которое торчит, как клык хищного животного. За бамбуковой занавеской, приподнятой порывами адского ветра, женщина, так блистательно разряженная, что ее можно принять за фрейлину или статс-даму, с развевающимися в огне длинными черными волосами, бьется в муках, откинув назад белую шею, и вспомнить ли эту женщину, вспомнить ли пылающую карету — все, все так и вызывает перед глазами муки огненного ада. Кажется, будто ужас всей картины сосредоточился в этой одной фигуре. Это такое нечеловеческое искусство, что, когда глядишь на картину, в ушах сам собой раздается страшный вопль.
Да, вот какая это вещь, и для того, чтобы она была написана, и произошло то страшное дело. Ведь иначе даже сам Ёсихи-дэ — как мог бы он так живо нарисовать муки преисподней? За то, что он создал эту картину, ему пришлось перенести такие страдания, что сама жизнь ему опостылела. Можно сказать, этот ад на картине — тот самый ад, куда предстояло попасть и самому Ёсихидэ, первому художнику своей страны.
Может быть, торопясь поведать вам об этой удивительной ширме с муками ада, я забежала вперед. Ну, теперь буду продолжать по порядку и перейду к Ёсихидэ в ту пору, как он получил от его светлости повеление написать картину мук ада.
7
Месяцев пять-шесть Ёсихидэ совсем не показывался во дворец и занимался только своей картиной. Странное дело, стоило ему сказать себе: «Ну, принимаюсь за работу!» — как qh, такой чадолюбивый отец, забывал даже родную дочь. Тот ученик, о котором я давеча упоминала, рассказывал мне, что, когда Ёсихидэ брался за работу, в него точно лиса вселялась. И правда, в то время прошел слух, будто Ёсихидэ составил себе имя в живописи потому, что дал обет богу счастья. В подтверждение некоторые
124
говорили, что надо только потихоньку подсмотреть, как Ёсихидэ работает, и тогда непременно увидишь, как вокруг него — и спереди, и сзади, и со всех сторон — вьются призраки-лисицы. Правда то, что, взяв в руки кисть, он забывал обо всем на свете, кроме своей картины. И днем и ночью сидел он, запершись, и редко выходил на дневной свет: А когда писал ширму с муками ада, то стал совсем как одержимый.
Мало того что у себя в комнате, где и днем были спущены занавеси, он при свете лампад тайными способами растирал краски или, нарядив учеников в суйкан или каригину, тщательно срисовывал каждого в отдельности. От таких чудачеств он не воздерживался никогда, даже еще до того, как стал писать ширмы с муками ада, при любой работе. Когда он писал в храме Рюгайдзи картину «Круговорот жизни и смерти», то спокойно присаживался перед валявшимися на дорогах трупами, от которых всякий обыкновенный человек нарочно отворачивается, и точка в точку срисовывал полуразложившиеся руки, ноги и лица. Каким образом находил на него такой стих — это, пожалуй, не всякий поймет. Рассказывать подробно сейчас не хватит времени, но если поведать вам самое главное, то вот как это происходило.
Однажды, когда один из учеников Ёсихидэ (тот самый, о котором я уже говорила) растирал краски, мастер вдруг подошел и сказал ему:
— Я хочу немного соснуть. Только в последнее время я все вижу плохие сны.
В этом не было ничего особенного, и ученик, не бросая работы, коротко ответил:
— Хорошо.
Однако Ёсихидэ — что бы вы думали! — с небывало грустным видом смущенно попросил:
— Не посидишь ли ты возле меня, пока я буду спать? Ученику показалось странным, что мастер принимает так
близко к сердцу какие-то сны, но просьба не была обременительна, и он согласился. Тогда мастер опять встревоженно и как-то смущенно продолжал:— Тогда ступай в заднюю комнату. А если придут другие ученики, то пусть ко мне не входят.
Это была та комната, где он писал картины, и там при задвинутой, как ночью, двери в тусклом свете лампад стояла ширма с картиной, пока набросанной только тушью. Ну вот, когда они пришли туда, Ёсихидэ подложил под голову локоть и крепко заснул, как будто совсем обессилев от усталости. Но не прошло и получаса, как до слуха сидевшего возле него ученика стали доноситься какие-то непонятные, еле слышные стоны.
125
8
Стоны становились громче и постепенно перешли в прерывистую речь — казалось, будто утопающий стонет и вскрикивает, захлебываясь в воде.
— Что ты говоришь: «Приходи ко мне»? Куда приходить? — «Приходи в ад. Приходи в огненный ад!» — Кто ты? Кто ты, говорящий со мной? Кто ты? — «Как ты думаешь, кто?»
Ученик невольно перестал растирать краски и украдкой боязливо взглянул на мастера: морщинистое лицо старика побледнело, на нем крупными каплями выступил пот, рот с редкими зубами и пересохшими губами был широко раскрыт, как будто он задыхался. А во рту что-то шевелилось быстро-быстро, словно дергали за нитку, — да, да, это был его язык. Отрывистые слова срывались с этого языка.
— «Как ты думаешь, кто?» — Да, это ты, Я так и думал, что это ты. Ты пришел за мной? — «Говорю тебе, приходи. Приходи в ад!» — В аду... в аду ждет моя дочь.
Ученику стало жутко, ему вдруг померещилось, будто с ширмы соскользнули какие-то зыбкие, причудливые тени. Разумеется, ученик сейчас же протянул руку к Ёсихидэ и что было сил стал трясти его, чтобы разбудить, но мастер продолжал во сне, как в бреду, говорить сам с собой и никак не мог проснуться. Тогда ученик, собравшись с духом, плеснул ему в лицо стоявшую рядом воду для мытья кистей.
— «Она ждет, садись в экипаж... садись в этот экипаж и приезжай в ад!..»
В ту же минуту эти слова превратились в стон, как будто говорящему сдавили горло, и Ёсихидэ, раскрыв глаза, вскочил так быстро, словно его кольнули. Должно быть, необычайные видения сна еще витали под его веками. Некоторое время он испуганно смотрел прямо перед собой с широко раскрытым ртом и наконец, придя в себя, вдруг грубо приказал:
— Мне уже лучше, ступай!
Зная, что мастеру нельзя перечить, иначе непременно подучишь выговор, ученик поспешно вышел из комнаты, и когда он опять попал на яркий солнечный свет, то облегченно вздохнул, как будто сам проснулся от дурного сна.
Но это еще ничего, а вот примерно через месяц Ёсихидэ позвал к себе в комнату другого ученика: художник, кусая кисть, сидел при тусклом свете лампады и, резко обернувшись к вошедшему, сказал:
— Слушай, у меня к тебе просьба: разденься догола!
Так как и раньше случалось, что мастер давал такое прика-
126
зание, ученик, быстро скинув одежду, разделся донага. Тогда Ёсихидэ как-то странно скривился.
— Я хочу посмотреть на человека, закованного в цепи, так что, как мне ни жаль тебя утруждать, исполни ненадолго мою просьбу, — хладнокровно произнес он.
Этот ученик был крепко сложенный юноша, которому больше пристало держать в руках меч, чем кисти, но тут даже он испугался. Позже, рассказывая об этом, он всегда повторял: «Я думал, уж не сошел ли мастер с ума, не хочет ли он убить меня». Но мастера его нерешительность, должно быть, вывела из терпения. Перебирая в руках откуда-то взявшуюся тонкую железную цепь, он стремительно, точно набрасываясь на врага, схватил ученика за плечи, силой скрутил ему руки и обмотал цепью все тело, потом рванул за конец, и ученик, потеряв равновесие, во весь рост грохнулся на пол.
9
В эту минуту ученик похож был на опрокинутую бутылку сакэ. Руки и ноги его были безжалостно скручены, так что шевелить он мог только головой. К тому же цепь так стягивала его полное тело, что кровь в нем остановилась, и не только на лице и на груди, но на всем теле кожа у него стала багровой. Но Ёсихидэ все это ничуть не беспокоило. Расхаживая вокруг этого тела, похожего на опрокинутую бутылку, и рассматривая его со всех сторон, он один за другим делал наброски. Какие мучения испытывал скованный ученик, об этом, пожалуй, незачем и говорить.
Так, вероятно, продолжалось бы долго, если бы не произошло нечто неожиданное. К счастью (а может быть, лучше сказать — к несчастью), из-за стоявшего в углу комнаты горшка вдруг, извиваясь, узкой лентой потекло что-то похожее на струю черного масла. Вначале оно двигалось вперед медленно, как липкая жидкость, но потом стало скользить быстрее и, поблескивая, подтекло к самому носу ученика. Тогда он с трудом, не помня себя, застонал: «Змея, змея!» Как он потом рассказывал, ему казалось в эту минуту, что вся кровь в нем застыла, — и было отчего. Змея уже чуть не касалась своим холодным жалом его шеи, в которую въелись цепи. Это неожиданное вмешательство испугало даже бесчеловечного Ёсихидэ. Поспешно бросив кисть, он нагнулся и мигом ухватил змею за хвост, так что она повисла вниз головой. Змея, покачиваясь, подняла голову и обвилась сама вокруг себя, но никак не могла дотянуться до его руки.
127
— Из-за тебя пропал рисунок, — хрипло и злобно пробормотал он, бросив змею в горшок в углу комнаты и с явной неохотой развязал цепь, которой был опутан ученик. Это было все, он даже не сказал ученику доброго слова. Должно быть, он досадовал не столько из-за того, что ученика могла укусить змея, сколько из-за того, что испортил рисунок. Потом уже стало известно, что и эту змею он нарочно держал у себя, чтобы рисовать с нее.
Пожалуй, довольно рассказать это одно, чтобы вы в общем представили себе его увлечение работой — неистовое, прямо бешеное. Но уж расскажу заодно, как другой ученик, лет тринадцати — четырнадцати, из-за ширмы с муками ада пережил такой ужас, который чуть не стоил ему жизни. У этого ученика была-белая, как у женщины, кожа. Однажды вечером мастер позвал его в свою комнату, и он, ничего не подозревая, пошел на зов. Смотрит — Ёсихидэ при свете лампады кормит с рук сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной она была, пожалуй, с кошку. Да и перья, торчавшие с обеих сторон, как уши, и большие круглые янтарные глаза — все это тоже напоминало кошку.
10
Ёсихидэ обычно терпеть не мог, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. Так было и со змеей, о которой я сейчас рассказывала, и вообще о том, что делалось у него в комнате, он ученикам не сообщал. То на столе у него стоял череп, то красовались серебряные шарики или лакированные подносики; смотря по тому, что он рисовал, в комнате его появлялись самые неожиданные предметы. И куда он потом все это девает — никто не знал. Пожалуй, и толки о том, что ему помогает бог счастья, пошли отсюда.
Поэтому ученик, решив, что и эта невиданная птица понадобилась мастеру для картины с муками ада, стоя перед мастером, почтительно спросил:
— Что вам угодно?
Но Ёсихидэ, как будто не слыша его, облизнул свои красные губы и указал подбородком на птицу.
— Ну что, совсем ручная, а?
— Как она называется? Я такой никогда не видал! — сказал ученик, с опаской поглядывая на ушастую птицу, похожую на кошку.
— Что, не видал? — усмехнулся Ёсихидэ. — По-городскому воспитан, вот беда... Эта птица называется филин, мне ее несколько дней назад подарил охотник из Курама. Только ручные среди них, пожалуй, редко попадаются.
128

«Ворота Расёмон»
С этими словами он медленно поднес руку к птице, только что кончившей есть, и тихонько погладил ее по спине, от хвоста вверх. И что ж? — в тот же миг птица издала пронзительный крик и вдруг как взлетит со стола, да как расправит когти, да как ринется прямо на ученика! Если бы он не успел закрыться рукавом, она, наверно, истерзала бы ему лицо. Ахнув от страха, ученик стал махать рукавом, стараясь отогнать филина, а птица, щелкая клювом, опять на него... Тут уж ученику было не до того, что здесь сам мастер: он принялся и стоя отбиваться, и сидя ее гнать, и метаться по тесной комнате то туда, то сюда, а диковинная птица все за ним — то повыше взлетит, то пониже опустится, и так и метит все через какую-нибудь щелочку прямо в глаз. При этом она страшно хлопала и шелестела крыльями, и от этого ему почему-то чудился не то запах опавших листьев, не то брызги водопада, не то прелый дух перебродивших фруктов, что обезьяны прячут в дуплах... Сказать «жутко» — мало. Сердце у него сжималось, и тусклый свет лампады казался ему лунным сиянием, а комната учителя — далеким горным ущельем, осажденным демонами.
Однако ученика испугало не только то, что на него накинулся филин. Нет, волосы у него встали дыбом, когда мастер Ёсихидэ, хладнокровно глядя на весь этот переполох, спокойно развернул бумагу, вынул кисть и стал срисовывать эту страшную картину — как женоподобного юношу терзает диковинная птица. Стоило ученику одним глазом увидеть это, как его охватил несказанный страх, и он даже подумал, уж не собирается ли мастер убить его.
11
Да и в самом деле, нельзя сказать, чтобы мастер не был на это способен. Ведь похоже было на то, что он нарочно позвал ученика, чтобы натравить на него птицу и срисовать, как он будет метаться. Поэтому, когда ученик увидел, что делает мастер, он, не помня себя, спрятал голову в рукава, закричал страшным голосом и скорчился на полу у двери в углу комнаты. Тогда Ёсихидэ как-то испуганно вскрикнул и вскочил, но тут птица зашумела крыльями еще сильнее, и в этот миг раздался оглушительный грохот, как будто что-то упало и разбилось. Ученик, полумертвый от страха, невольно опустив рукав, поднял голову, смотрит — в комнате совершенно темно, и только слышно, как мастер сердито кличет учеников.
Наконец издалека отозвался какой-то ученик и торопливо вошел со свечой в руке. При коптящем огоньке стало видно, что
5 Акутагава Рюноскэ
129
лампада опрокинута, пол и татами залиты маслом и на полу валяется филин, судорожно хлопая одним крылом. Ксихидэ так и застыл, приподнявшись над столом, и с ошеломленным видом бормочет что-то непонятное. И не удивительно: вокруг филина, захватив его голову и полтуловпща, обвилась черная змея. Должно быть, когда ученик скорчился у порога, он опрокинул горшок. Змея выползла, филин хотел ее клюнуть — вот и началась вся эта кутерьма. Ученики переглянулись и только подивились представшему перед ними странному зрелищу, а потом молча поклонились мастеру и быстро вышли из комнаты. Что стало со змеей и птицей дальше — никто не знает.
Подобным историям не было числа. Я забыла сказать — ширмы с муками ада художнику повелели написать в начале осени, и вот до самого конца зимы ученики все время жили под страхом этих чудачеств мастера. Но в конце зимы у мастера с работой стало что-то не ладиться, вид у него сделался еще мрачнее, говорил он с раздражением. А картина на ширме как была набросана на три четверти, так дальше и не подвигалась. Мало того, порой художник даже замазывал то, что раньше нарисовал, и этому не видно было конца.
Но что именно у него не ладилось — никто не знал. Да вряд ли кто и старался узнать: наученные горьким опытом, ученики чувствовали себя так, словно сидели в одной клетке с тигром или волком, и только старались не попадаться мастеру на глаза.
12
За это время не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Вот только... у упрямого старикашки почему-то глаза стали на мокром месте; бывало, как останется один — плачет. Один ученик говорил мне — раз он зачем-то зашел в сад и видит: мастер стоит на галерее, смотрит на весеннее небо, а глаза у него полны слез. Ученику стало как-то неловко, он молча повернулся и торопливо ушел. Ну, не странно ли, что этот самонадеянный человек, который для «Круговорота жизни и смерти» срисовывал трупы, валяющиеся по дорогам, плакал, как дитя, из-за того, что ему не удается, как хочется, написать картину.
Но пока Бсихидэ работал как бешеный над своей картиной, будто совсем потеряв рассудок, его дочь отчего-то становилась все печальней, и даже мы стали замечать, что она то и дело глотает слезы. Она и всегда была задумчивая, тихая, а тут еще и веки у нее отяжелели, глаза ввалились — совсем грустная стала. Сначала мы гадали — то ли об отце думает, то ли любовная тоска, пу а потом пошли толки, будто его светлости угодно стало склонять
130
ее к своим желаниям, и уж после этого все разговоры как ножом отрезало, точно все о ней вдруг позабыли.
Как-то ночью, уже когда пробила стража, я одна проходила I
по галерее. Вдруг откуда-то подбежала обезьянка Ёсихидэ и ну дергать меня за подол юбки. Была теплая ночь, луна слабо светила, казалось, пахнет цветущими сливами. Вот я при свете луны и увидела, — что вы думаете? — обезьянка оскалила свои белые зубы, сморщила нос и кричит, как сумасшедшая. Мне стало как-то не по себе, досада меня взяла, что она дергает за новую юбку, и я было оттолкнула ее и хотела пройти дальше, но потом передумала: ведь уже был случай, когда один слуга обидел обезьянку и ему досталось от молодого господина. К тому же видно было, что и обезьянка так поступала неспроста. Тогда я решила узнать, в чем дело, и нехотя прошла несколько шагов в ту сторону, куда она меня тащила.Так я оказалась у того места, где галерея поворачивала за I
угол и откуда за изогнутыми ветвями сосен был виден пруд, чуть поблескивавший даже в ночном полумраке. И вдруг я с испугом услыхала из комнаты рядом тревожный и в то же время странный тихий шум чьего-то спора. Кругом все замерло в полной тишине, не слышно было человеческого голоса, и только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле — не поймешь — плескались рыбы. Поэтому, услыхав эти звуки, я невольно остановилась. «Ну, если это кто-нибудь озорничает, я им покажу!» — подумала я и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери.13
Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно ее душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от нее увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав, — и в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну, тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в не освещенную луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная с тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, там вдруг упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное.
Я думаю, незачем и говорить, что это была дочь Ёсихидэ. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя непохожей. Глаза широко раскрыты. Щеки пылают румянцем. К тому же бес-
5*
131
порядок в одежде придал ей прелесть, необычную при ее всегдашнем младенческом виде. Неужто это в самом деле нежная, пугливая дочь Ёсихидэ? Я прислонилась к двери, глядя на эту красивую девическую фигуру, озаренную луной, и, указывая в ту сторону, откуда слышались чьи-то поспешно удалявшиеся шаги, спросила глазами: кто?
Но девушка, закусив губы, молча покачала головой. Какой у нее был расстроенный вид!
Тогда я нагнулась и, приблизив губы к ее уху, шепнула: «Кто?» Но опять она только покачала головой и ничего не ответила. Мало того, на ее длинных ресницах повисли слезы, и она еще крепче сжала губы.
Я от природы глупа и, кроме самых простых, всем понятных вещей, ничего не смыслю. Поэтому я просто не знала, что еще сказать, и некоторое время стояла неподвижно, словно прислушивалась, как бьется ее сердце. Да и расспрашивать ее дальше мне почему-то казалось нехорошо...
Сколько времени это продолжалось, не знаю. Наконец я задвинула дверь и, оглянувшись на девушку, которая, видно, уже немного пришла в себя, как можно мягче сказала: «Ступай к себе в комнату». Потом с какой-то тревогой в душе, как будто я увидела что-то недозволенное, и чувствуя себя неловко, — а перед кем, не знаю, — я пошла туда, куда направлялась. Но не прошла и десяти шагов, как кто-то опять робко потянул меня сзади за подол. Я испуганно оглянулась. Как вы думаете, кто это был?
Смотрю — у моих ног стоит обезьянка Ёсихидэ и, сложив руки, как человек, звеня золотым колокольчиком, учтиво мне кланяется.
14
После происшествия этого вечера минуло дней двадцать. Однажды Ёсихидэ неожиданно пришел во дворец и попросил приема у его светлости: художник был человек низкого звания, но давно уже пользовался благоволением его светлости. И его светлость, который не так-то легко принимал кого бы то ни было, и на этот раз охотно соизволил дать свое согласие и сейчас же позвал его к себе. Ёсихидэ был в своем всегдашнем темно-желтом каригину и помятой момиэбоси; с видом еще более угрюмым, чем обычно, он почтительно простерся ниц перед его светлостью и хриплым голосом проговорил:
— Дело идет о ширме с картиной мук ада, что ваша светлость давно изволили повелеть мне написать. С великим усердием днем и ночью держал я кисть и добился успеха. Большая часть моей работы уже сделана.
132
— Прекрасно, я доволен.
Однако голос его светлости, изволившего произнести эти слова, звучал как-то вяло, без воодушевления.
— Нет, ничего прекрасного нет! — Ёсихидэ с несколько рассерженным видом опустил глаза. — Большая часть сделана, но одного я сейчас никак не могу нарисовать.
— Что такое?! Не можешь нарисовать?
— Да, не могу. Я никогда не могу рисовать то, чего не видел. А если нарисую, то недоволен. Выходит, все равно что не могу.
Услыхав эти слова, его светлость насмешливо улыбнулся.
— Значит, чтобы нарисовать ширмы с муками ада, тебе нужно увидеть ад?
— Да, ваша светлость изволит говорить правду. Но несколько лет назад, во время большого пожара, я собственными глазами видел такой яростный огонь, что он может сойти за пламя ада. И пламя на картине «Ёдзири-Фудо» я написал благодаря тому, что мне привелось видеть этот пожар. Ваша светлость изволите знать эту картину.
— А как же с грешниками? Да и адских слуг ты вряд ли видел?
Его светлость задавал один вопрос за другим с таким видом, как будто слова Ёсихидэ совершенно не доходили до его ушей.
— Я видел человека, закованного в цепи. Я полностью срисовал, как другого человека терзала хищная птица. Так что нельзя сказать, что я совсем не знаю мучений грешников. И адские слуги... — Ёсихидэ криво усмехнулся, — и адские слуги не раз являлись мне не то во сне, не то наяву. Черти с бычьими мордами, с конскими головами или с тремя лицами и шестью руками, бесшумно хлопая в ладоши, беззвучно разевая рты, приходят меня истязать, можно сказать, ежедневно и еженощно. Нет... что я хочу и не могу нарисовать — это не то.
Такие слова, должно быть, изумили даже его светлость. Некоторое время его светлость недовольно смотрел на Ёсихидэ, а потом, грозно сдвинув брови, отрывисто бросил:
— Говори, чего же ты не можешь нарисовать?
15
— Я хочу в самой середине ширмы нарисовать, как сверху падает карета.
Сказав это, Ёсихидэ в первый раз устремил пронизывающий взгляд в лицо его светлости. Я слышала, что, говоря о картинах,
133
он как будто делается сумасшедшим, и вот в эту минуту от его взгляда действительно становилось жутко.
— А в карете, — продолжал художник, — разметав охваченные пламенем черные волосы, извивается в муках изящная придворная дама. Задыхаясь от дыма, искривив брови, она запрокинула лицо вверх. Рука срывает бамбуковую занавеску, может быть, чтобы избавиться от сыплющихся с нее дождем искр. Над нею, щелкая клювами, кружат и вьются десять, двадцать диковинных птиц... Вот эту даму в карете — ее-то мне и не удается никак нарисовать!
— Ну и что же? — почему-то с довольным видом понукал художника его светлость.
А Ёсихидэ с трясущимися, точно от лихорадки, красными губами еще раз, как во сне, повторил:
— Ее-то мне и не удается нарисовать... — И вдруг резко, точно набрасываясь на кого-то, он выкрикнул: — Прошу вашу светлость — сожгите у меня на глазах карету. И кроме того, если можно...
Лицо его светлости потемнело, но вдруг он громко захохотал. И, давясь от смеха, изволил проговорить:
— Я сделаю все, как ты просишь. А можно или нельзя — об этом рассуждать ни к чему.
Когда я услыхала эти слова, сердце у меня екнуло, и мне вдруг стало страшно. Да и в самом деле, вид у его светлости тоже был необыкновенный — на губах пена, в бровях гроза, можно было подумать, что его заразило безумие Ёсихидэ. Его светлость замолчал было, но вдруг точно что-то прорвалось в нем, и он опять, безостановочно, громко смеясь, сказал:
— Сожгу карету! И посажу туда изящную женщину, наряженную придворной дамой. И женщина в карете, терзаемая пламенем и черным дымом, умрет мучительной смертью. Тот, кто замыслил это нарисовать, действительно первый художник на свете! Хвалю. О, хвалю!
Услыхав слова его светлости, Ёсихидэ сразу побледнел, только губы у него шевелились, точно он ловил ртом воздух, и вдруг, как будто все тело его ослабело, он припал руками к полу и тихо, едва слышно, поблагодарил:
— Это великое счастье!
Должно быть, при словах его светлости перед ним воочию предстал весь ужас его замысла. За всю мою жизнь я только в этот единственный раз его пожалела.
134
16
Это случилось через два-три дня, ночью. Его светлость, согласно своему обещанию, изволил позвать Ёсихидэ, чтобы дать ему посмотреть своими глазами, как горит карета. Разумеется, это произошло не во дворце у реки Хорикава. Карету сожгли на загородной вилле, где раньше, кажется, изволила проживать сестра его светлости. Эту виллу в просторечии называли «Дворец Юкигэ».
Этот «Дворец Юкигэ» был давно уже необитаем, и большой заброшенный сад совсем запустел. Это место выбрали, вероятно, по предложению тех, кто видел, как здесь пустынно. Ходили всякие толки и о скончавшейся здесь сестре его светлости: например, будто и теперь в безлунные ночи по галерее таинственно, не касаясь земли, скользит ее алое платье. Здесь и днем было мрачно, но едва заходило солнце, сильнее раздавалось среди теней бормо-танье садовых ручьев, и выпи жутко носились при свете звезд, точно какие-то диковинные существа.
И тогда как раз была темная безлунная ночь. При светильниках можно было видеть, как его светлость в придворном платье — желтой наоси и темно-лиловой хакама с гербами — сидит, скрестив ноги, у края наружной галереи на подушке, окаймленной белой парчой. Вокруг него почтительно расположились приближенные. Среди них особенно бросался в глаза один силач, о котором рассказывали, что еще недавно, во время войны в Митиноку, он от голода ел человеческое мясо и с тех пор мог сломать рога живому оленю. Он с внушительным видом восседал в углу, опоясанный широким поясом, держа меч рукояткой вниз. Ветер колебал пламя светильников, и человеческие фигуры то выступали на свет, то уходили в тень, и все это было похоже на сон и почему-то наводило страх. А в саду сверкала золотыми украшениями, как звездами, карета, незапряженная, с оглоблями, опущенными наклонно на подставку. Над высоким верхом ее нависал густой мрак, и при взгляде на нее холод пробегал по спине, даром что уже начиналась весна. Синяя бамбуковая занавеска с узорчатой каймой была опущена донизу и скрывала то, что находилось внутри. Вокруг кареты стояли наготове слуги с горящими сосновыми факелами в руках, следя за тем, чтобы дым не относило к галерее.
Сам Ёсихидэ сидел на корточках поодаль, напротив галереи. В своем всегдашнем каригину и помятой шапке момиэбоси он казался каким-то особенно маленьким, жалким, словно его давила тяжесть звездного неба. Позади него в таком же костюме сидел, по-видимому, сопровождавший его ученик. Так как они оба были далеко и в темноте, с моего места над галереей нельзя было различить даже цвета их платья.
135
17
Время близилось к полуночи. Темнота, окутывавшая сад с его деревьями и ручейками, поглощала все звуки, и в тишине, когда кажется, будто слышишь свое дыхание, раздавался только легкий шелест ветерка; при каждом его дуновении доносился запах копоти и дыма факелов. Его светлость некоторое время изволил молча смотреть на эту причудливую картину, а потом, нагнувшись вперед, резким голосом позвал:
— Ёсихидэ!
Художник как будто что-то ответил, но до моего слуха донесся лишь невнятный стон.
— Ёсихидэ! Сегодня я, как ты хотел, сожгу карету.
Проговорив это, его светлость бросил беглый взгляд на приближенных. В эту минуту они как будто многозначительно переглянулись и улыбнулись, а может быть, мне это показалось. Ёсихидэ поднял голову и почтительно посмотрел на галерею, но ничего не сказал.
— Смотри же хорошенько! Это карета, в которой я раньше ездил. Ты ее, наверно, помнишь. Я хочу сейчас зажечь ее и воочию показать тебе огненный ад. — Его светлость замолчал и опять кинул взгляд на приближенных. Потом вдруг жестко произнес: — Внутри, связанная, сидит преступница. И, значит, когда карету зажгут, тело негодницы сгорит, кости обуглятся, и она погибнет в жестоких мучениях. Для твоей ширмы это неповторимая натура! Не упусти же, присмотрись, как запылает белоснежная кожа. Смотри хорошенько, как, воспламенившись, искрами разлетятся черные волосы.
Его светлость замолчал в третий раз, но потом, точно что-то вспомнив и смеясь, — на этот раз неслышно, так, что только тряслись плечи, — произнес:
— Такого зрелища не увидишь до скончания века! Я тоже на него погляжу. Ну-ка, подымите занавески, покажите Ёспхидэ, кто сидит внутри!
Услышав повеление, один из слуг с высоко поднятым факелом подошел к карете и, протянув руку, одним движением откинул занавеску. Пламя пылающего факела алым колеблющимся светом ярко озарило тесную внутренность кареты. Женщина, беспощадно закованная в цепи... о, кто бы мог ошибиться! На роскошное, затканное цветами вишни шелковое платье изящно спускались блестящие черные волосы, красиво сверкали косо воткнутые золотые шпильки. По костюму ее было не узнать, но хрупкая фигурка, белая шея и грустно-застенчивое личико... Это была дочь Ёсихидэ! Я чуть не вскрикнула.
136
И тогда... силач, сидевший против меня, встал и, схватившись за рукоятку меча, устремил грозный взгляд на Ёсихидэ. Испуганная, я увидела, что Ёсихидэ чуть не лишился рассудка. До сих пор он сидел на корточках внизу, но теперь вскочил и, протянув вперед обе руки, не помня себя, хотел броситься к карете. К сожалению, он был далеко от меня и было темно, так что выражение его лица я не разглядела. Но не успела я об этом пожалеть, как бледное, обескровленное лицо Ёсихидэ, нет, не лицо, а вся его фигура, как будто подтянутая в воздух какой-то невидимой силой, прорезав тьму, вдруг отчетливо встала у меня перед глазами. Это, по слову его светлости «зажечь!», слуги бросили факелы, и, подожженная ими, ярко вспыхнула карета, в которой сидела дочь художника.
18
Пламя быстро охватило верх кареты. Лиловые кисти, которыми были увешаны ее края, заколыхались, как от ветра, снизу вырвались белые даже в темноте клубы дыма, искры посыпались таким дождем, словно не то занавеска, не то расшитые рукава одежды женщины, не то золотые украшения разом рассыпались и разлетелись кругом... Страшнее этого ничего не могло быть! А пламя, что, вытягивая огненные языки, обвивало кузов и полыхало до небес, — как его описать? Казалось, точно упало само солнце и на землю хлынул небесный огонь. В первый миг я чуть было не закричала, но теперь душа у меня отлетела, и я только в ужасе смотрела с раскрытым ртом на эту страшную картину. Но отец, Ёсихидэ...
Лица Ёсихидэ я не могу забыть до сих пор. Он хотел было не помня себя броситься к карете, но в тот миг, когда вспыхнуло пламя, остановился и, вытянув вперед руки, впивающимся взглядом смотрел туда, не отрываясь, точно его притягивал дым, окутавший карету. Залитое светом морщинистое, безобразное лицо его было ясно видно все до кончика бороды. Широко раскрытые глаза, искривленные губы, судорожно подергивающиеся щеки... весь ужас, отчаяние, страх, попеременно овладевавшие душой Ёсихидэ, были написаны на его лице. У вора перед казнью, у грешника с десятью грехами и пятью злодействами, представшего перед князьями преисподней, — вряд ли даже у них может быть такое страдальческое лицо! И даже силач побледнел и со страхом смотрел на его светлость.
Но его светлость, кусая губы и только иногда зловеще посмеиваясь, не сводил глаз с кареты. А там... что я увидела там — у меня не хватает духа об этом рассказывать. Это запрокинутое лицо за-
137
дыхающейся от дыма женщины, эти длинные спутанные волосы, охваченные пламенем, это красивое, затканное цветами вишни платье, которое на глазах у всех превращалось в огонь... о, что это был за ужас! В особенности в ту минуту, когда порыв ночного ветра отогнал дым и в расступившемся пламени, в алом, мерцающем золотой пылью зареве стало видно, как она, кусая повязку, которой ей завязали рот, бьется и извивается так, что чуть не лопаются цепи, — о, в эту минуту у всех, начиная с меня и кончая тем силачом, волосы стали дыбом, словно мы собственными глазами видели муки ада!
И вот опять будто порыв ночного ветра пробежал по верхушкам деревьев... Так, верно, подумали все. И едва этот звук пронесся по темному небу, как вдруг что-то черное, не касаясь земли, не паря по воздуху, — как падающий мяч, одной прямой чертой сорвалось с крыши дворца прямо в пылающую карету. И за обгоревшей дымящейся решеткой прижалось к откинутым плечам девушки и испустила резкий, как треск разрываемого шелка, протяжный, невыразимо жалобный крик..» еще раз... и еще раз... Мы все не помня себя вскрикнули: на фоне пламени, поднявшегося стеной, прильнув к девушке, скорчилась привязанная было во дворце у реки Хорикава обезьянка с кличкой Ёсихидэ.
19
Но животное видно было одно лишь мгновение. Золотые искры снопом взметнулись к небу, и сразу же не только обезьянка, но и девушка скрылась в клубах черного дыма. Теперь в саду с оглушительным треском полыхала только горящая карета. Нет, может быть, верней будет сказать, не горящая карета, а огненный столб, взмывающий прямо в звездное небо.
Ёсихидэ как будто окаменел перед этим огненным столбом... Но странная вещь: он, который до тех пор как будто переносил адскую пытку, стоял теперь, скрестив на груди руки, словно забыв о присутствии его светлости, с каким-то непередаваемым сиянием — я бы сказала, сиянием самозабвенного восторга — на морщинистом лице. Можно было подумать, что его глаза не видели, как в мучениях умирает его дочь. Красота алого пламени и мятущаяся в огне женская фигура беспредельно восхищали его сердце и поглотили его без остатка.
И взор его, когда он смотрел на смертные муки единственной своей дочери, был не просто светел. В эту минуту в Ёсихидэ было таинственное, почти нечеловеческое величие, подобное величию разгневанного льва, каким он может присниться во сне. И даже
138
бесчисленные ночные птицы, испуганные неожиданным пламенем и с криками носившиеся по воздуху, даже они, — а может быть, это только казалось, — не приближались к его помятой шапке. Пожалуй, даже глаза бездушных птиц видели это странное величие, окружавшее голову Ёсихидэ золотым сиянием.
Даже птицы. И тем более мы — все мы, вплоть до слуг, затаив дыхание, дрожа всем телом, полные непонятной радости, смотрели не отрываясь на Ёсихидэ, как на новоявленного будду. Пламя пылающей кареты, гремящее по всему поднебесью, и очарованный им окаменевший Ёсихидэ... О, какое величие, какой восторг! И только один — его светлость наверху, на галерее, с неузнаваемо искаженным лицом, бледный, с пеной на губах, обеими руками вцепился в свои колени, покрытые лиловым шелком, и, как зверь с пересохшим горлом, задыхаясь, ловил ртом воздух...
20
О том, что в эту ночь его светлость во «Дворце Юкигэ» сжег карету, как-то само собой стало известно повсюду, и пошли всякие слухи: прежде всего, почему его светлость сжег дочь Ёсихидэ? Больше всего толковали, что это месть за отвергнутую любовь. Однако помышления его светлости клонились совсем к другому: он хотел проучить злобного художника, который ради своей картины готов был сжечь карету и убить человека.
В самом деле, я это слышала из собственных уст его светлости.
А Ёсихидэ, у которого прямо на глазах сгорела родная дочь, все же не оставил своего твердого, как камень, желания написать картину, напротив, это желание как-то даже окрепло в нем. Многие поносили его, называли злодеем с лицом человека и сердцем зверя, позабывшим ради картины отцовскую любовь. Отец настоятель из Ёкогава тоже держался таких мыслей и, бывало, изволил говорить: «Сколь бы превосходен ни был он в искусстве и в умении своем, но если не понимает он законов пяти извечных отношений, быть ему в аду».
Через месяц ширма с картиной мук ада была наконец окончена. Ёсихидэ сейчас же принес ее во дворец и почтительно поверг на суд его светлости. Как раз в это время и отец настоятель был тут же, и, кинув взгляд на картину, он, конечно, был поражен страшной огненной бурей, бушевавшей в преисподней, изображенной на ширме. Раньше он все хмуро косился на Ёсихидэ, но тут произнес: «Превосходно!» Я и теперь еще не могу забыть, как его светлость усмехнулся, услыхав эти слова.
139
С тех пор никто, по крайней мере, во дворце, уже не говорил о Ёсихидэ ничего дурного. Может быть, потому, что, несмотря на прежнюю ненависть, теперь всякий при взгляде на ширмы, подавленный странной мощью картины, как будто воочию видел перед собой великие муки огненного ада.
Но в это время Ёсихидэ уже присоединился к тем, кого нет. Закончив картину на ширмах, он в следующую же ночь повесился на балке у себя в комнате. Вероятно, потеряв единственную дочь, он уже не в силах был больше жить. Тело его до сих пор лежит погребенным в земле там, где раньше был его дом. Впрочем, простой надгробный камень, на все эти долгие годы отданный во власть дождей и ветра, так оброс мхом, что никто и не знает, чья это могила.
Апрель 1918 г,
То, что вы прочитаете ниже, — это предсмертное письмо покойного доктора, назовем его Китабатакэ Гиитиро, которое недавно дал мне прочесть человек, фигурирующий в данном повествовании под вымышленным именем виконта Хонда. На мой взгляд, нет смысла называть настоящего имени доктора Китабатакэ, поскольку ныне его вряд ли уж кто-либо помнит. Я и сам впервые узнал о нем лишь после того, как сблизился с виконтом Хонда, который рассказал мне немало прелюбопытных историй, случившихся в первые годы Мэйдзи. Что это был за человек, каковы были его характер и поступки — обо всем этом можно составить некоторое представление, прочитав предсмертное письмо доктора. Я лишь добавлю несколько фактов, о которых мне случайно довелось услышать. Доктор Китабатакэ был в свое время известным специалистом по внутренним болезням и в то же время слыл знатоком театрального искусства, придерживавшимся радикальных взглядов в области реформы театра. Говорят даже, что он сам написал комедию в двух действиях, положив в основу ее события Токугавской эпохи, переработав для этого некоторые главы из вольтеровского «Кандида». С фотографии Китабатакэ, снятой в ателье Китанива Цукуба, на вас глядит человек атлетического телосложения, с лицом, обрамленным бакенбардами на английский манер. Доктор Китабатакэ, как говорил виконт Хонда, по своим физическим данным превосходил европейцев и еще с юношеских лет проявлял недюжинные способности в любом деле, за которое брался. Некоторые особенности его характера можно уловить даже
140
по почерку: письмо Китабатакэ написано размашистыми, крупными иероглифами в стиле Чжэн Бань-цяо.
Должен признаться, что при опубликовании этой исповеди я позволил себе некоторые вольности. Так, хотя в то время еще не существовало титулов, я называю Хонда виконтом. В то же время могу смело утверждать, что весь дух письма почти полностью сохранен в том, что вы прочитаете ниже.
* * *
«Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса!
Уходя из жизни, я решил признаться вам в постыдной тайне, которую вот уже три года храню в глубине своей души, и раскрыть перед вами свой мерзкий, не поддающийся какому-либо оправданию поступок. Для меня было бы неслыханным счастьем, если бы у вас, по прочтении этой исповеди, шевельнулось чувство сострадания ко мне, уже чувствующему хлад могилы. Но я не скажу ни слова и в том случае, если вы сочтете меня ненормальным, заслуживающим осуждения даже после смерти. Однако факты, в которых я хочу вам признаться, выходят за рамки обычного, и это может действительно навести вас на мысль о том, что я сумасшедший. Прошу вас, не думайте так обо мне. Правда, последние несколько месяцев я сильно страдал от бессонницы, но мое сознание остается ясным, и я очень чутко реагирую на все происходящее. Заклинаю вас нашим двадцатилетним знакомством (не смею сказать — дружбой), не сомневайтесь в том, что психически я вполне здоровый человек! В противном случае эта исповедь, в которой я хочу раскрыть перед вами весь позор своей жизни, превратится всего лишь в никому не нужный жалкий клочок бумаги.
Господин виконт, виконтесса! Я презренный человек, совершивший убийство в прошлом и замышлявший совершить такое же преступление в будущем. Причем на этот раз (вы будете воистину крайне удивлены) я не только намеревался, но уже готов был совершить убийство человека, самого близкого для одного из вас. Позвольте при этом вновь вас предупредить, что я пишу в полном сознании и все, мною написанное, является правдой, одной только правдой. Верьте мне и не считайте эти несколько листков предсмертного письма — единственной памяти о моей жизни — бессмысленным бредом сошедшего с ума человека.
Мне остается жить совсем немного, и именно это заставляет поспешить с рассказом о мотивах, побудивших меня совершить убийство, о том, как оно было совершено, и о том странном состоянии, которое охватило меня после того, как все было кончено. Однако, о, однако и сейчас я явственно ощущаю, как согрел соб-
141
ственным дыханием застывшую тушь, со страхом положил перед собой лист бумаги и безуспешно пытаюсь успокоиться. Снова проследить свое прошлое и изложить его на бумаге— значит для меня пережить все заново. Снова я замышляю убийство, снова совершаю его, снова должен пережить все страдания этого последнего года. Хватит ли у меня сил, выдержу ли я? Я вновь обращаюсь к моему Иисусу Христу, от которого отвернулся много лет тому назад. О боже, молю тебя! Ниспошли мне силы...
С юношеских лет я был влюблен в мою кузину, носившую в девичестве фамилию Канродзи Акико, ныне супругу виконта Хонда (простите меня великодушно за то, что говорю о Вас, виконтесса, в третьем лице). Нужно ли мне перечислять все те счастливые часы, которые я провел вместе с Акико? Думаю, что не стоит докучать вам этим, ибо трудно будет вам в таком случае прочитать мое письмо до конца. Не могу умолчать лишь об одном светлом воспоминании, которое навсегда запечатлелось в глубине моей души. Мне тогда исполнилось шестнадцать, а Акико не было и десяти. В один чудесный майский день мы с Акико играли на газоне под шпалерами глициний во дворе ее дома. Акико спросила, как долго смогу я простоять на одной ноге. Я ответил, что вообще не сумею этого сделать. Тогда Акико подняла ногу, ухватила ее за носок одной рукой, удерживая равновесие, грациозно подняла вверх другую руку и долго так стояла. Наверху покачивались лиловые глицинии, перебирая падавшие на них лучи весеннего солнца, а под ними, словно прекрасное изваяние, замерла Акико. Эта картина, словно живая, до сих пор стоит у меня перед глазами. Мысленно оглядываясь назад, я с удивлением убеждаюсь, что уже тогда, в тот день, когда я увидал Акико под лиловыми глициниями, я любил ее всем сердцем. Эта любовь все сильнее охватывала меня, все мои мысли были только о ней, и я почти совершенно вабросил занятия. Но я так и не собрался с духом, чтобы раскрыть перед ней свою душу. Так прошло несколько лет, во время которых я то погружался во мрак, то чувствовал, что на меня нисходит свет, то плакал от безысходного горя, то смеялся от великой радости. И вот, когда мне исполнился двадцать один год, отец неожиданно сообщил мне, что отправляет меня в далекий Лондон изучать медицину — традиционную специальность нашей семьи. Я хотел при расставании сказать Акико о своей любви, но в нашей семье, придерживавшейся строгих традиций, не принято открыто выражать свои чувства, да и сам я, будучи воспитан в конфуцианском духе, боялся наказания за нарушающий приличия поступок и отправился в далекую английскую столицу, унося в сердце беспредельную печаль разлуки.
Сколько раз за те три года, гуляя по Гайд-парку, вспоминал
142
я Акико, замершую под лиловыми глициниями. Нужно ли говорить, как, бродя где-нибудь по улице Пэл-Мэл, я просто умирал от одиночества в этой чужой стране. Лишь розовые мечты о будущем, о нашей грядущей совместной жизни в какой-то степени облегчали мои страдания. И вот, возвратившись на родину, я узнаю, что Акико вышла замуж за директора банка Мицумура Кёхэя. Я тут же решил покончить жизнь самоубийством, но из-за малодушия и христианской веры, которую я принял в Англии, к несчастью, у меня и рука не поднялась. Если бы вы знали, каким это было для меня горем! Тогда я решил снова уехать в Лондон, чем навлек на себя гнев отца. Мое душевное состояние было таково, что Япония без Акико стала для меня совершенно чужой. Чем влачить жизнь душевно разбитого человека на ставшей для меня чужой родине, лучше, взяв с собой томик «Чайльд-Гароль-да», уехать в дальние края, бродить в одиночестве по свету и сложить свои кости где-нибудь на чужбине, думал я. Однако домашние обстоятельства вынудили меня отказаться от намерения уехать в Англию. Я стал принимать в больнице моего отца бесчисленных пациентов, которые предпочитали меня другим врачам, поскольку я только что вернулся из-за границы, и так изо дня в день я с утра до вечера был прикован к своему кабинету.
Тогда-то я и обратился к богу, умоляя его исцелить мое сердце от разбитой любви. В ту пору в Цукидзи я близко подружился с английским миссионером Генри Таунсендом. Именно ему, прочитавшему и объяснившему мне смысл нескольких глав из Библии, я обязан тем, что моя любовь к Акико после долгих переживании постепенно переросла в горячее и в то же время спокойное братское чувство. Вспоминаю, как мы говорили с Таунсендом о боге, о божественной и человеческой любви. Споры эти затягивались далеко за полночь, и мне не раз приходилось в одиночестве возвращаться домой по безлюдным кварталам Цукидзи. Может быть, моя сентиментальность вызовет у вас снисходительную улыбку, но, не скрою, нередко, проходя по ночным улицам, я взирал на серп луны и втайне молил бога о счастии для моей кузины Акико... А сколько раз, не будучи в силах сдержать нахлынувшие чувства, я безутешно рыдал!
Мне не хватало ни мужества, ни сил для того, чтобы разобраться, вызван ли новый поворот в моей любви тем, что я, так сказать, «примирился с судьбой», либо иной какой-нибудь причиной. В одном лишь я был убежден твердо: возникшее во мне чувство братской любви излечило мою сердечную рану. Первое время по возвращении на родину я всячески избегал Акико и ее супруга, страшился даже услышать разговор о них; теперь же, напротив, стал желать сближения с ними. Ах, сколь легкомысленно
143
было надеяться, что все мои страдания кончатся и на меня снизойдет успокоение, когда я своими глазами увижу их счастливую супружескую жизнь.
Именно эта надежда свела меня наконец с супругом Акико Мицумура Кёхэем. Встреча произошла третьего августа в одиннадцатый год Мэйдзи во время большого фейерверка близ моста Рёгоку; нас познакомил один мой друг, и мы впервые провели вечер вместе в ресторане Манбати в обществе нескольких гейш, развлекались, пили, веселились... Веселился ли я? Нет, печаль была значительно глубже, чем радость. В дневнике я записал: «Когда я вспоминаю, что Акико — жена этого низкого развратника Мицумура, мое сердце готово разорваться от гнева и печали. Господь научил меня видеть в Акико сестру, но как посмел он отдать мою сестру в руки такому чудовищу? О нет, я не в силах больше терпеть козни этого жестокого и лживого бога. Разве можно обращать глаза к небу и поминать имя господне, когда жена и сестра отдана в руки грязному насильнику! Отныне я не уповаю на бога, я сам вырву мою сестру Акико из рук сластолюбивого диавола».
Я пишу свою исповедь, а перед глазами неумолимо всплывает картина этого празднества, — будь оно проклято! Вновь я вижу прозрачный туман над водой, тысячи красных фонариков и бесконечные караваны разукрашенных прогулочных лодок. Разве могу я забыть вспыхивавшие и гаснувшие огни фейерверка, зажигавшие всполохами полнеба, забыть эту пьяную жирную свинью Мицумура, громким голосом распевавшего скабрезные песенки, от которых хотелось заткнуть уши и бежать куда глаза глядят, этого низкого развратника Мицумура, который, развалясь на циновках, обнимал одной рукой старую, видавшую виды гейшу, а другой — молоденькую девочку, едва распустившийся бутон... Боже мой! Я помню даже три герба с изображением переплетающихся ростков мёга на его тонком черном хаори. Именно тогда, в тот вечер, когда мы любовались фейерверком из ресторана Манбати, я почувствовал, что должен его убить. Я знаю, меня побудила убить Мицумура не просто ревность, — нет, моими мыслями, моей рукой руководило негодование, ибо я хотел покарать разврат, восстановить справедливость.
С той поры я стал тайно наблюдать за Мицумура. Мне надо было убедиться, действительно ли он такой сластолюб и развратник, каким мне показался в тот вечер. К счастью, мне помогли в этом знакомые репортеры. Они мне сообщили о таких страшных случаях, свидетельствовавших о преступной развращенности Мицумура, что трудно было даже в них поверить. Именно в эти дни мой друг и старший товарищ Нарусима Рёхоку рассказал мне о-том, как Мицумура соблазнил в киотоском публичном доме
144
«Гион» несовершеннолетнюю гейшу, из-за чего она в конце концов умерла. И это чудовище еще смело обращаться, как с прислугой, со своей женой, олицетворением кротости и преданности. Чума, ниспосланная на человечество, — вот подходящее для него имя! Я понял, что его существование разрушает мораль, угрожает нашим нравственным принципам, а его уничтожение окажет помощь старцам и принесет успокоение юным. Тогда-то возникшая во мне решимость убить Мицумура стала постепенно воплощаться в конкретный план убийства.
Тем не менее я все еще колебался, приводить ли мне этот план в исполнение. К счастью или к несчастью, в эти тяжкие дни судьба свела меня с моим юным другом виконтом Хонда. Однажды вечером, в чайном домике Касивая, что в квартале Хокудзё, я из уст Хонда услышал печальную историю его любви. Я впервые узнал, что виконт Хонда и Акико были уже обручены, когда вмешался Мицумура и с помощью денег добился расторжения помолвки. Этот рассказ возмутил меня еще больше. Я и теперь дрожу от негодования, когда вспоминаю все подлости Мицумура, о которых рассказал мне виконт Хонда в тот вечер в комнате ресторана с опущенными цветными камышовыми шторами, при тусклом свете единственного светильника. И в то же время помню, как сейчас, что меня охватила неописуемая печаль, когда, возвращаясь на рикше домой, я вдруг вспомнил о том, что Хонда и Акико были обручены. Прошу вас позволить мне вновь обратиться к своему дневнику. «После встречи нынешним вечером с виконтом Хонда я принял окончательное решение в ближайшие же дни убить Мицумура. Из рассказа виконта я понял, что он и Акико не только были обручены, но, по-видимому, действительно любят друг друга. (Так вот почему виконт не желает менять свою холостяцкую жизнь!) Итак, если я убью Мицумура, виконту и Акико не составит особого труда соединиться. Похоже, само небо помогает мне в осуществлении моих планов — ведь Акико на протяжении своей супружеской жизни с Мицумура не родила ему ребенка. Не могу сдержать улыбку при мысли о том, что, убив это чудовище Мицумура, помогу моим дорогим виконту и Акико начать счастливую жизнь». Так записал я в своем дневнике.
И вот я приступил к осуществлению своего плана. После длительных раздумий и тщательного взвешивания всех «за» и «против», я наконец выбрал подходящее для убийства место. Нашел также и средство, с помощью которого решил лишить его жизни. Думаю, в этом письме нет необходимости подробно описывать, как все это было осуществлено. Помните ли вы вечер двенадцатого июня двенадцатого года Мэйдзи, когда театр Синтомидза посетил его высочество внук германского император»? Помните ли вы, что
145
в тот вечер возвращавшийся из театра в свой особняк Мицумура внезапно скончался в карете? Так вот, думаю, для вас будет достаточно, если я скажу, что некий пожилой доктор обратил внимание Мицумура на нездоровый цвет его лица и предложил ему принять пилюлю... О, если бы вы могли представить, что творилось в душе этого доктора! Освещаемый светом кроваво-красных фонариков, он стоял у выхода из театра Синтомидза и провожал взглядом удалявшуюся под проливным дождем карету Мицумура. В его душе в дикой пляске переплелись вчерашняя ненависть и сегодняшняя радость. Из его горла вырывался то хриплый омех, то горькие стоны, и он совершенно забыл, где находится и сколько времени прошло. Знайте же, когда, смеясь и рыдая, словно сумасшедший, он возвращался, ступая по грязи, домой, его губы беспрерывно шептали одно и то же имя: Акико...
В ту ночь я не уснул ни на минуту. То вставал, меряя шагами свой кабинет, то снова садился. Радовался ли я? Или печалился? Я и сам не мог в этом разобраться. Какое-то невыразимо острое и сильное чувство охватило все мое существо и ни на миг не позволяло мне успокоиться. На столе стояла бутылка шампанского. Рядом в вазе букет роз. Тут же лежала... коробочка с теми самыми пилюлями. Казалось, что дьявол и ангелы решили разделить со мной мою необычную трапезу...
Никогда не был я так счастлив, как в последующие несколько месяцев. Как я и предполагал, врач из полиции установил, что смерть произошла от кровоизлияния в мозг, останки Мицумура были преданы земле, и теперь в кромешной тьме их пожирали черви. Отныне навряд ли кто-либо мог заподозрить меня в убийстве. К тому же, как я узнал, впервые после смерти мужа Акико ожила и почувствовала себя человеком. Все Это наполняло меня радостью. Я продолжал лечить своих больных, а в свободное время вместе с виконтом Хонда с удовольствием посещал театр Синтомидза только потому, что меня обуревало странное желание снова и снова видеть огни рампы и красную обивку лож, видеть то славное поле боя, на котором я одержал окончательную победу.
Всего несколько месяцев испытывал я радость и удовлетворение. И по мере того, как они проходили, мною начало постепенно овладевать страшное искушение, ставшее позором всей моей жизни. Нет, мне не хватает ни смелости, ни сил, чтобы рассказать вам о том, какую ожесточенную борьбу мне пришлось выдержать, как постепенно эта борьба вынудила меня наложить на себя руки. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я поминутно должен вступать в смертельный бой с этой гидрой искушения. Если вы хотите хоть в какой-то степени представить себе мои страдания, прочтите, прошу вас, несколько выдержек из моего дневника.
146
«...октября. У Акико нет ребенка от Мицумура, она покидает его дом. В последний раз мы видели друг друга шесть лет тому назад. И я решил вместе с виконтом Хонда навестить ее. С тех пор как я приехал из Англии, я ни разу не виделся с Акико, вначале потому, что боялся за себя, потом из опасения, что ей тяжела будет эта встреча, и так это тянется по сей день. Такие ли лучистые у Акико глаза, как и шесть лет тому назад?
...октября. Сегодня зашел за впконтом Хонда, чтобы вместе с ним посетить Акико. Был поражен, узнав от Хонда, что они без меня уже несколько раз встречались. Почему виконт стал так чуждаться меня? Мне стало не по себе, и, сославшись на неотложный визит к больному, я поспешно покинул дом Хонда. После моего ухода виконт, наверно, отправился к Акико один.
...ноября. Вместе с виконтом нанес визит Акико. Красота ее несколько поблекла, но, глядя на нее, все еще нетрудно представить девочку, стоявшую под лиловыми глициниями. Ах, наконец я повидался с Акико. Но почему же грудь мою стеснила невыразимая тоска? Почему? Не знаю причины и потому еще сильнее страдаю.
...декабря. Виконт, по-видимому, намеревается жениться на Акико. Итак, цель, которую я себе поставил, убив супруга Акико, вскоре будет достигнута. И все же... И все же меня не покидает странное, мучительное чувство, будто я вновь теряю Акико.
...марта. Говорят, что свадьба между виконтом и Акико намечена на конец нынешнего года. Молюсь, чтобы это произошло как можно скорее. Иначе я никогда не смогу освободиться от мучительного ощущения потери Акико.
Июнь, 12-го дня. Был в театре Спнтомидза. Глядя на сцену, не переставал удовлетворенно улыбаться, вспоминая жертву, которую в прошлом году в этот самый день настигло мое возмездие. Но на пути домой был настолько поражен внезапно вспыхнувшей в моем мозгу мыслью о мотивах убийства, что забыл, куда направляюсь. Ради кого же я убил Мицумура?I Ради виконта Хонда? Ради Акико? А может быть, ради себя самого? Что я могу ответить на это?
...июля. Сегодня вечером виконт, Акико и я отправились смотреть, как пускают по реке Сумпда фонарики. В бликах света, проникавших сквозь окна кареты, лучистые глаза Акико казались еще прекраснее, и я был настолько очарован, что даже забыл о сидевшем рядом виконте. Но сейчас не время писать об этом. Когда виконт внезапно стал жаловаться на боли в желудке, я опустил руку в карман и нащупал коробочку с пилюлями. Я замер, как громом пораженный. Ведь это была коробочка с теми самыми пилюлями. Почему они оказались при мне в этот вечер? Случайно
147
ли? О, как горячо я надеюсь, что это было случайностью. Но так ли это на самом деле?
...августа. Я пригласил виконта и Акико на ужин. Весь вечер я не мог забыть о пилюлях, которые лежали у меня в кармане. Похоже, на дне моей души скрывается непостижимое для меня самого чудовище.
...ноября. Виконт и Акико наконец сыграли свадьбу. Чувствую, как во мне кипит гнев на самого себя. Так сбежавший с поля боя солдат испытывает гнев за однажды проявленную трусость.
...декабря. По просьбе виконта я осмотрел его. Рядом была Акико. Сказала, что по ночам у него резко подскакивает температура. После осмотра я успокоил Акико, сообщив, что это всего лишь простуда, и сразу же отправился домой, чтобы приготовить для виконта лекарство. В течение двух часов, пока я его готовил, меня с неодолимой силой влекли к себе «те пилюли».
...декабря. Прошлой ночью видел кошмарный сон, будто убил виконта. Весь день неодолимая тоска сжимает мне грудь.
...февраля. О, теперь наконец я понял: чтобы не убить виконта, я должен убить самого себя. А как же Акико?»
Господин виконт и виконтесса! Это был лишь небольшой отрывок из моего дневника, но даже из него, я уверен, вы поймете, какие муки я испытывал в течение многих дней и ночей. Чтобы не убить виконта Хонда, я должен умереть сам. Я бы мог убить его ради того, чтобы спасти себя. Но чем бы, в таком случае, я смог объяснить мотивы, по которым убил Мицумура? Может быть, я отравил Мицумура, бессознательно стремясь к достижению своих эгоистических целей? В таком случае рушится мое «я», моя мораль, мои устои, моя честность. Этого я не смог бы перенести. На мой взгляд, лучше наложить на себя руки, чем потерпеть духовное банкротство. Поэтому ради утверждения собственной личности я решил нынешней ночью разделить участь некогда павшей от моей руки жертвы, воспользовавшись той же коробочкой с пилюлями.
Ваша светлость виконт Хонда, госпожа виконтесса! Теперь вы знаете, что побудило меня покончить жизнь самоубийством. Когда вы получите мою исповедь, я превращусь уже в хладный труп. Глядя в глаза смерти, я решил так подробно раскрыть перед вами тайну своей проклятой жизни лишь для того, чтобы хоть в какой-то степени оправдать себя в ваших глазах. Но если, по-вашему, я заслуживаю ненависть, возненавидьте меня, если сострадание — пожалейте! Я, который сам себя ненавидит и жалеет, с радостью приму и вашу ненависть, и ваше сострадание. Итак, я кончаю. Через несколько минут прикажу подать карету и отправ-
148
люсь в театр Синтомидза. И когда окончится половина программы, я проглочу несколько «тех пилюль» и снова сяду в карету. Сейчас, конечно, другое время года, но мелкий моросящий дождик напомнит мне дождь, который шел тогда, когда наливались плоды сливы. И я так же, как эта жирная свинья Мицумура, буду глядеть на огоньки проезжающих мимо карет и прислушиваться к стуку капель вечернего дождя, разбивающихся о верх кареты. Не успею я отъехать от театра, как наступит последняя минута моей жизни.
Мое письмо вы, наверно, получите уже после того, как утром прочитаете в газетах: доктор Китабатакэ Гиитиро скончался в карете на пути домой из театра, смерть наступила мгновенно от кровоизлияния в мозг.
Прощайте. От души желаю вам счастья и здоровья.
Всегда преданный вам слуга
Китабатакэ Гиитиро». Июль 1918 г.
Даже триста лет, прожитых в блаженстве, которого вовсе не достоин, — лишь призрачное видение в сравнении с вечным и беспредельным блаженством в будущем. Гия де Пекадор, «Записки о
Человек, решивший вступить на стезю добра, познает сладость тайны, скрытой в божественном учении. Imitatione Christi,
|
1
В незапамятные времена в японском городе Нагасаки при эк-лезии, под названием Санта-Лючия, жил юноша-японец по имени Лоренцо. Рассказывают, будто однажды в рождественскую ночь пришедшие молиться христиане нашли его, полуживого от голода, у входа в храм, привели в чувство, а потом патэрэн из жалости взял его к себе на воспитание. Но когда юношу спрашивали о его происхождении, он с простодушным смехом обычно отвечал, что родина его — парайсо, а отец — дэусу, и почему-то ни разу не открыл правды. Говорят, однако, что родители его, судя по всему,
149
были не какие-нибудь язычники. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на сапфировые четки вокруг его запястья. Вот почему и святой отец, и братья, отбросив всякие сомнения, окружили его сердечной заботой. Твердостью веры не уступал он взрослым, и церковные старейшины не находили слов от удивления. Все считали маленького Лоренцо истинным ангелом во плоти, любили его и ласкали, хотя никто не знал, чье он дитя и где родился.
Вдобавок ко всему черты лица у Лоренцо были чистые, словно драгоценная яшма, а голос нежный, как у девушки, что, пожалуй, вызывало еще большее восхищение. С особой любовью, как к младшему брату, относился к Лоренцо монах по имени Симеон, тоже японец, который неизменно сопровождал его повсюду, дружески держа за руку. Этот Симеон был выходцем из самураев, состоявших на службе у даймё, поэтому и ростом он выделялся, и природной физической силой, благодаря чему не раз и не два защищал патэрэна от язычников, бросавших в того камни и черепицу. Был он столь же нежно привязан к Лоренцо, как горный орел к голубке, или, может быть, как цветущая виноградная лоза к кипарисовику с Ливанских гор, вокруг которого крепко обвилась.
Так протекло три с лишним года, и вот уже наступила для Лоренцо пора совершить обряд совершеннолетия. Но тут поползли странные слухи, будто Лоренцо вступил в тайную связь с дочерью торговца зонтами и плетеными шляпами, который жил неподалеку от Санта-Лючии. Этот старик тоже исповедовал святое учение бога и имел обыкновение приходить вместе с дочерью в эклезию. Даже во время молитвы девушка не сводила глаз с Лоренцо, стоявшего с кадилом в руке. Более того, в церковь она всегда приходила нарядно причесанная и бросала на него страстные взгляды. Это, конечно, не укрылось от прихожан. Кто-то заметил, как девушка, проходя мимо Лоренцо, наступила ему на ногу. А некоторые даже утверждали, будто собственными глазами видели, как молодые люди обменялись любовными записками.
Патэрэн, как видно, решил, что нельзя оставить все это без внимания. Однажды он поэвал к себе Лоренцо и, покусывая свою белую бороду, мягко сказал:
— Послушай-ка, дошли до меня разные слухи о тебе и дочери торговца зонтиками. Все это, наверно, выдумка. Что скажешь?
В ответ Лоренцо горестно покачал головой, повторяя сквозь слезы:
— Ничего подобного и в помине не могло быть.
Говорят, патэрэн поверил его словам, рассудив, что в столь гоном возрасте и при таком ревностном почитании бога вряд ли стал бы юноша лгать.
150
Итак, на сей раз сомнения патэрэна рассеялись. Но самые разные толки продолжали ходить среди прихожан Санта-Лючии. Поэтому Симеон, любивший Лоренцо, как брата, тревожился сверх всякой меры, однако стеснялся учинить ему строгий допрос. Не то что прямо расспрашивать Лоренцо, он не мог даже посмотреть на него с недоверием. Но как-то раз на внутреннем дворе Санта-Лючии он нашел любовную записку девушки к Лоренцо. Воспользовавшись тем, что Лоренцо был один в комнате, он ткнул ему в лицо записку и, то угрожая, то уговаривая, учинил подробный допрос. Но Лоренцо с краской смущения на прекрасном лице повторял лишь: «Да, мне известно, что девушка влюблена в меня, я получал от нее письма, но ни разу с нею и словом не обмолвился». Симеон же, поскольку дело было связано с людской хулой, приступал к нему с упреками и расспросами еще настойчивее. Но Лоренцо остановил на Симеоне пристальный, полный печали взгляд и произнес с укором:
— Неужели ты думаешь, что я способен солгать даже тебе?
И, не прибавив больше ни слова, он вдруг вылетел из комнаты с быстротой ласточки. Слова Лоренцо заставили Симеона устыдиться столь сильных своих подозрений. В унынии он уже собрался было уйти, как неожиданно навстречу ему в комнату вбежал не кто иной, как сам Лоренцо. Он стремительно обвил руками шею Симеона и прерывистым шепотом произнес:
— Я виноват. Прости меня.
Не успел Симеон ответить, как Лоренцо оттолкнул его и, видимо, чтобы скрыть слезы, снова опрометью умчался. «Я виноват!» Что означали эти слова? Тайную связь с девушкой или же то, что он дерзко отвечал Симеону? Этого Симеон никак не мог понять.
Но неделю спустя стали настойчиво поговаривать, что дочь торговца зонтиками беременна. Причем рассказывали, будто она сама призналась отцу, что носит под сердцем ребенка Лоренцо из эклезии Санта-Лючия. Старик рассвирепел и немедля отправился к патэрэну с жалобой. При таком обороте дела для Лоренцо уже не было оправдания, и в тот же день собрание святых братьев во главе с патэрэном отлучило его от церкви. Засим должно было последовать изгнание из Санта-Лючии. Лоренцо оказывался без средств к существованию. Однако оставить такого преступника в Санта-Лючии было никак нельзя, это могло бы повредить славе господа. И люди, любившие Лоренцо, проглотив слезы, решили прогнать его.
Больше всех страдал Симеон, к которому Лоренцо относился как к старшему брату. Но он скорее гневался на Лоренцо за обман, нежели печалился по поводу его изгнания. И когда этот ми-
151
лый юноша, такой несчастный, брел к выходу, навстречу холодному ветру, Симеон подошел к нему, размахнулся и наотмашь ударил кулаком по его прекрасному лицу. Удар, говорят, был таким сильным, что сшиб Лоренцо с ног, но он быстро встал и, подняв к небу полные слез глаза, дрожащим голосом произнес:
— Прости его, боже, ибо он не ведает, что творит!
Эти слова охладили пыл Симеона. Какое-то время он еще стоял в дверях, потрясая кулаками, а святые братья его успокаивали. Наконец он скрестил руки на груди и, нахмурившись, как предгрозовое небо, неотрывно, словно пожирая его глазами, смотрел вслед Лоренцо, понуро уходившему за ворота Санта-Лючии. По словам христиан-очевидцев, как раз в этот момент над Нагасаки в западной части неба, казалось, над самой головой уныло бредшего Лоренцо садился шар солнца, будто колеблемый сильным холодным ветром, и хрупкая фигура юноши резко выделялась на фоне валившего небо пламени.
С тех пор Лоренцо поселился на окраине города в бедной лачуге и вел жалкое существование нищего, не то что в прежние времена, когда он держал кадило в главном храме Санта-Лючии. А его служение в прошлом христианскому богу вызывало у толпы язычников презрение не меньшее, чем принадлежность к касте отверженных. Когда он выходил на улицу, его дразнили злые дети, мало того, в него швыряли камнями и обломками черепицы, а то, бывало, гроэили и палкой, и даже мечом. А еще говорят, однажды его схватила страшная лихорадка, свирепствовавшая некогда в Нагасаки, и он семь дней и семь ночей валялся у обочины дороги, корчась в мучениях. И только безграничная любовь и сострадание дэусу всякий раз сохраняли Лоренцо жизнь. Более того, в те дни, когда никто не подавал ему милостыни рисом или деньгами, всевышний обычно ниспосылал ему дикие плоды, рыбу или моллюсков, тем Лоренцо и утолял голод. Потому, рассказывают, Лоренцо в утренних и вечерних своих молитвах не забывал времени, когда жил в Санта-Лючии, и четки у него на запястье не утратили своего сапфирового блеска. Да только ли это? Каждую ночь, когда наступала полная тьма и затихали шаги прохожих, юноша незаметно выскальзывал из своей лачуги и по озаренной луной тропинке шел в знакомую обитель смиренно просить у господа Дзэсу-су Кирисито покровительства.
К тому времени, однако, прихожане Санта-Лючии уже забыли о Лоренцо, и ни у кого, даже у патэрэна, он не вызывал сострадания. Отлучая его от церкви, все твердо верили, что он совершил бесстыдный поступок, и им в голову не могло прийти, что он, как истый христианин, будет приходить каждую ночь в храм божий и творить там молитвы. Таков, видно, был непостижимый промы-
152
сел дэусу, и тут уж ничего не поделаешь, но для самого Лоренцо это было весьма прискорбно.
Ну, а что же дочь торговца зонтиками? Не прошло и месяца после отлучения Лоренцо, как она родила девочку. Суровый старик, видно, полюбил свою первую внучку. Он заботливо ухаживал за дочерью и ребенком, брал малышку на руки, ласкал, а иногда, говорят, даже давал ей куклу поиграть. В этом не было, разумеется, ничего удивительного, а вот кто вел себя очень странно, так это святой брат Симеон. С того самого дня, как у дочери торговца зонтиками родился ребенок, этот огромный человек, способный, наверно, сокрушить самого дьявола, каждую свободную минуту проводил в доме старика, неуклюжими руками держал малютку и со слезами и грустью на угрюмом лице вспоминал о хрупком и нежном Лоренцо, которого любил, как младшего брата. А дочь старика торговца явно горевала и досадовала, что Лоренцо не появлялся с тех пор, как покинул Санта-Лючию, и оттого, видимо, даже посещения Симеона были ей неприятны.
«Никто не властен остановить время», — гласит пословица. Незаметно прошло более года. И тут случилось непредвиденное несчастье — страшный пожар, от которого за одну ночь половина Нагасаки выгорела дотла. Волосы поднимались дыбом у тех, кто видел страшные картины той ночи. Казалось, сквозь бушующее пламя несутся 8вуки трубы, призывающей на Страшный суд. К несчастью, дом зонтичного мастера стоял с подветренной стороны, и пламя охватило его в мгновение ока. Отец с дочерью, все домашние в страхе и растерянности выскочили на улицу и только тут вспомнили о ребенке. Очевидно, девочка осталась в той комнате, где ее уложили спать. Старик в отчаянии топал ногами и всех проклинал. Его дочь все порывалась броситься в огонь спасать ребенка, ее с трудом удерживали. Ветер крепчал, и языки пламени готовы были в ярости опалить даже звезды в небе. А жители, сбежавшиеся, чтобы спасти город от пожара, только ахали да успокаивали молодую женщину, которая металась как безумная. Что еще оставалось им делать? Растолкав толпу, прибежал известный нам брат Симеон. Этот сильный, богатырского вида мужчина, вероятно, не раз побывавший в битвах, не задумываясь, смело устремился в огонь. Но даже Симеону пришлось отступить перед его мощью. Еще два или три раза нырял он в дым, но тут же выскакивал обратно. Наконец он подошел к старику с дочерью, неподвижно стоявшим в стороне, и сказал:
— Сие есть промысел дэусу, ибо все в его власти. Смиритесь же, все усилия тщетны.
В этот момент кто-то рядом со стариком вскричал:
— Господи, помоги!
153
Голос показался Симеону знакомым, и он оглянулся. Боже правый! Это был не кто иной, как Лоренцо. Отблески огня озаряли его прекрасное, но сильно осунувшееся лицо, растрепанные ветром волосы черными прядями ниспадали на плечи. Симеон узнал его с первого взгляда, хотя вид у Лоренцо был самый жалкий. В нищенском рубище, Лоренцо стоял впереди толпы и, не отрываясь, смотрел на пылающий дом. Все последующее произошло буквально в мгновение ока. Разметав пламя, налетел ураганный ветер, и Лоренцо, устремившись вперед, скрылся за огненной стеной. Все тело Симеона покрылось холодным потом.
— Боже, помоги ему! — воскликнул он, осенив себя крестным знамением.
В этот миг в памяти его вдруг всплыл образ Лоренцо, когда тот, прекрасный и печальный, уходил из ворот Санта-Лючии, озаренный солнечным светом, трепетавшим в порывах холодного ветра.
В толпе христиан, хоть и подивились храбрости Лоренцо, все же не могли забыть его греховного прошлого. И ветер разнес над шумевшей толпой всякие толки, суды и пересуды.
— Недаром говорят, что любовь родителя к своему дитяти рано или поздно, а все равно проявится, — злобно проговорил кто-то. — Лоренцо появился здесь, устыдившись своего греха, а теперь бросился в огонь, чтобы спасти единственного ребенка.
Даже старик глядел на Лоренцо с таким же чувством, а потом, видно, для того, чтобы скрыть непонятное смятение души, заламывая руки, стал выкрикивать какие-то бессмысленные слова. Дочь же его, как безумная, бросилась на колени и, закрыв лицо руками, словно замерла в страстной молитве. С неба дождем сыпались на нее огненные хлопья, дым, стелясь по земле, заволакивал лицо, она же, склонив голову, молча, самозабвенно молилась. Вдруг толпа зашумела, задвигалась: среди пляшущих языков пламени, словно сойдя с неба, показался Лоренцо с младенцем на руках. В это время рухнула одна из балок, в воздух с угрожающим гулом взметнулся вихрь огня и дыма. Лоренцо сразу же исчез из виду, а там, где он стоял, поднялся к небу коралловый столб огня.
Несчастье было столь велико, что у всех, начиная от Симеона и кончая стариком, потемнело в глазах, и они стояли молча, словно онемев. Дочь старика заголосила, потом подскочила так, что обнажились ляжки, после чего, точно сраженная молнией, распростерлась на земле. Оно и понятно: на руках у нее чудесным образом оказалась ее маленькая дочка — живая или мертвая, неизвестно, — которую она крепко прижимала к себе. О, всемогущество и безграничная мудрость всевышнего — нет слов, чтобы
154
восславить их! Придавленный рухнувшей балкой, Лореяцо, собрав последние силы, бросил ребенка к ногам: матери, и, к счастью, тот упал невредимым.
Будто вторя голосу молодой женщины, которая, распростершись на земле, захлебывалась слезами радости, с губ старика отца, воздевшего руки к небу, сорвались слова, прославлявшие милосердие божие. Говоря точнее, он просто не мог не произнести этих исполненных благоговения слов. Симеон еще раньше бросился в бурю огня — движимый одним лишь желанием спасти Ло-ренцо. И снова из уст старика понеслись в вечернее небо слова молитвы, исполненные тревоги и скорби. Да и не только из его уст. Дочь его и окружающие христиане, плача, в один голос молились:
— Господи, помоги нам!
И дитя непорочной девы Марии, господь бог наш Дзэсусу Кирисито, принимающий к сердцу горести и печали всех людей на земле, как свои собственные, услышал наконец их молитвы. Смотрите! Это жестоко обожженный Лоренцо на руках Симеона, он спасен — извлечен из самой гущи огня и дыма.
Но на том не закончились трагические события этой ночи. Почти бездыханного Лоренцо христиане на руках принесли к воротам эклезии у наветренной стороны и положили там. В это время дочь торговца зонтами, все еще плача и прижимая к груди ребенка, упала на колени перед патэрэном, который в этот момент как раз вышел к воротам, и при всем народе стала вдруг исповедоваться:
— Эта девочка не дочь господина Лоренцо. Я зачала ее, тайно сойдясь с сыном соседа-язычника.
По ее полному решимости тону, по блеску ее заплаканных глаз видно было, что в этой исповеди нет и росинки лжи. Мудрено ли, что стоявшие вокруг тесным кружком христиане слушали, затаив дыхание, позабыв даже о пламени пожара, лизавшем небо.
Утерев слезы, девушка продолжала:
— Я всегда любила господина Лоренцо, тосковала, но, твердый в вере, он был холоден со мной. Тогда со злости я сказала, что ребенок, который у меня под сердцем, зачат от господина Лоренцо, и так отомстила ему за мучившую меня досаду. Но благородный душой господин Лоренцо не возненавидел меня за великий мой грех, а сегодня, презрев опасность, изволил вынести мою дочь из огня инфэруно. Я благоговею перед его добротой и его деянием, как перед вторым пришествием господа Дзэсусу Кирисито. И как вспомню о сотворенном мною черном зле, то готова хоть сейчас без сожаления отдать свое тело на растерзание дьяволу.
155
Едва закончив свою исповедь, молодая женщина залилась слезами и упала на землю. По толпе верующих, в несколько рядов стоявших вокруг, волной прокатился крик: «Мученик! Мученик!» Поистине похвалы достойно, что Лоренцо пошел по стопам господа Дзэсусу Кирисито и из сострадания к грешнице не погнушался даже стать нищим. Ни патэрэн, которого он почитал как отца родного, ни Симеон, на которого он уповал как на старшего брата, никто не понял его души. Что же это, если не мученик?
Однако, слушая исповедь дочери торговца, наш Лоренцо лишь несколько раз слабо кивнул. Волосы у него обгорели, кожа была сильно обожжена, руки и ноги не двигались, не было ни малейшей надежды на то, что он заговорит. Старик, сердце которого разбила исповедь дочери, и Симеон сидели на корточках возле него, стараясь хоть как-нибудь облегчить его муки, но дыхание Лоренцо с каждой минутой становилось все слабее, видно было, что конец уже близок. Не изменилось только выражение его сияющих, как звезды, глаз, обращенных к далекому небу.
Патэрэн с развевающейся на свирепом ночном ветру белой бородой внимательно выслушал исповедь молодой женщины и торжественно изрек:
— Блажен тот, кто раскаялся. Да не коснется сего счастливца наказующая рука человека. Будем же еще усерднее следовать учению господа и смиренно ждать Страшного суда. Стремление Лоренцо уподобиться в своих деяниях господу Дзэсусу Кирисито — редкая среди христиан этой страны добродетель. А ведь он еще так молод...
Но что это? Патэрэн вдруг замолчал, вперив взгляд в Лоренцо, который лежал у его ног, так, словно юношу озарял свет парайсо. С каким благоговением смотрел на него патэрэн! Никогда еще у старика не дрожали руки так сильно. По щекам его непрерывно текли слезы.
Смотри, Симеон! И ты, старик торговец зонтами! Смотрите! Весь озаренный отблесками огня, более алыми, чем кровь господа Дзэсусу Кирисито, безгласный, лежит у ворот Санта-Лючии прекрасный отрок, а из-под обгоревшей одежды его, как две драгоценные яшмы, выглядывают две девственно чистые груди. Только сейчас все заметили природную нежность его лица, хотя оно было сильно обожжено. О, значит, Лоренцо — девушка? Лоренцо — девушка! Смотрите, христиане, стоящие неподвижно, словно стена, спиной к бушующему пожару! Лоренцо, изгнанный из Санта-Лючии за нарушение заповеди о целомудрии, — это девушка с пленительным взглядом, такая же, как дочь торговца зонтиками.
156
Рассказывают, что благоговейный трепет охватил верующих, будто голос всевышнего донесся до них с высокого неба, на котором сейчас не было видно ни звездочки. И все склонили голову, как колосья под ветром, и упали на колени вокруг Лоренце! Слышно было только, как ревет пламя, эхом отдаваясь в небе, да еще чьи-то сдавленные рыдания. Быть может, это плакала дочь торговца зонтами? Или Симеон, считавший себя старшим братом Лоренцо? И тут мертвую тишину потряс торжественный скорбный голос патэрэна, который простер над Лоренцо руки и стал читать молитву. Когда он умолк, юная девушка, которую называли Лоренцо, узревшая сияние рая там, вдали, за темными небесами, со спокойной улыбкой отошла в мир иной.
О жизни этой девушки больше ничего не известно. Но какое
это имеет значение? Самое драгоценное в жизни человека — это неповторимое мгновенное движение души. Оно подобно лучу еще не взошедшей луны, выхватывающему из мрака пенистую волну, всколыхнувшую океан страстей, которые живут в душе. Именно такая жизнь прожита не зря. Поэтому знать последние минуты Лоренцо разве не то же, что узнать всю его жизнь?2
Среди принадлежащих мне книг есть книга под названием «Legenda Aurea», изданная орденом иезуитов Нагасаки. Содержание ее не сводится, однако, к западноевропейской так называемой «Золотой легенде». Наряду с записью слов и деяний заморских апостолов и святых в ней запечатлено мужество и самоочищение японских христиан, что, видимо, должно было способствовать распространению Евангелия.
Книга состоит из двух томов, напечатанных на миноской бумаге хираганой вперемежку со скорописью. Печать очень нечеткая, и порой нельзя разобрать, печатный ли это знак или рукописный. На обложке первого тома латинскими буквами в горизонтальную строчку написано название книги, а под ним двумя вертикальными строчками иероглифов выгравировано: «В 1596 году от Р. X., во 2-м году Кэйтё, первой декаде третьего месяца». Слева и справа от даты изображен трубящий ангел. При всей примитивности техники исполнения в рисунке есть что-то привлекательное. Второй том ничем не отличается от первого, если не считать надписи на обложке: «Выгравировано в середине мая».
Оба тома содержат около шестидесяти страниц. Первый состоит из восьми глав, второй — из десяти. Каждый том начинает-
157
ся предисловием неизвестного автора и заканчивается оглавлением, написанным латинскими буквами. Предисловие не отличается изяществом и ровностью стиля, нередки выражения и обороты, в которых чувствуется буквальный перевод о европейского. Это наводит на мысль, что написано оно рукой европейца — того же натэрэна.
Изложенная выше «Смерть христианина» основана на второй главе второго тома упомянутой «Золотой легенды» и, возможно, представляет собой точную запись события, случившегося в одном христианском храме в Нагасаки. Однако что касается упомянутого в записях большого пожара, то ни один источник, начиная с «Рассказов о гавани Нагасаки», даже не дает указания на то, был ли вообще такой пожар, что не позволяет установить точную дату события.
В рассказ «Смерть христианина» я позволил себе, по условиям издания, внести некоторые изменения. Я буду счастлив, если мне удалось не слишком повредить легкости и изяществу подлинника.
12 августа 1918 г.
Как-то в конце года я и мой приятель — критик шли под вечер в сторону Кандабаси по аллее, обсаженной уже голыми ивами, по так называемой «дороге чиновной мелюзги». Справа и слева от нас в еще не угасшем полусвете сумерек какие-то люди, видимо, такие же мелкие чиновники, к которым когда-то негодующе обратился Симадзаки Тосон: «Держите голову выше!», понуро семенили по дороге. Понуро, вероятно, потому, что знали всю безнадежность стараний разогнать общее уныние. Мы шли тесно, плечо к плечу, слегка ускорив шаг и не произнося почти ни слова, пока не миновали трамвайной остановки на Отэмати. И тогда мой приятель, окинув взглядом фигуры съежившихся от холода людей, ожидавших у красного столба очередного трамвая, неожиданно вздрогнул и как будто про себя пробормотал:
— Вспомнился Мбри-сэнсэй.
— Мори-сэнсэй? Это кто такой?
— Учитель в школе, где я учился. Я тебе еще о нем не рассказывал?
Вместо того чтобы ответить «нет», я только нагнул край шляпы. Ниже следуют воспоминания об учителе Мори, которые по дороге рассказал мне приятель.
158
* * *
Это произошло лет десять назад, когда я был учеником третьего класса одной префектуральной средней школы. Во время зимних каникул от крупозного воспаления легких — осложнения после инфлюэнцы — скончался молодой учитель Адати-сэнсэй, преподававший в нашем классе английский язык. Это случилось совершенно внезапно, не было времени подыскать подходящего преемника, и поэтому-то, вероятно, и прибегли к крайней мере. Уроки покойного Адати-сэнсэй поручили старику Мори, который в то время служил преподавателем английского языка в какой-то частной школе.
Я впервые увидел учителя Мори в тот день, когда он приступил к занятиям. Мы были вне себя от любопытства, ожидая встречи с новым учителем, и, едва в коридоре послышались его шаги, в классе стало небывало тихо. Вот эти шаги остановились перед дверью нашего уже бессолнечного, холодного класса, дверь раскрылась и — ах, эта картина и сейчас, как живая, встает перед моими глазами. Когда, открыв дверь, учитель Мори вошел, он своим маленьким ростом прежде всего напомнил нам человека-паука из праздничного балагана. Единственное, что скрашивало это впечатление, была голова учителя, почти красивая по форме, блестящая и совершенно лысая; хотя на затылке еще сохранилось несколько полуседых волосков, она почти не отличалась от яйца страуса, как его изображают на картинках в учебнике естествознания. Наконец, незаурядную внешность учителя дополняла удивительная визитка, заношенная буквально до синевы, так что трудно было поверить, что в прошлом она была черной. Вдобавок у грязноватого воротника, похожий на бабочку, красовался щегольски завязанный бант. Все это я помню с поразительной отчетливостью. Итак, едва учитель вошел в класс, как в разных углах неожиданно послышался сдержанный смех, в чем не было ничего удивительного.
Однако учитель Мори, с хрестоматией и классным журналом в руках, совершенно невозмутимо, точно никого из учеников не замечая, поднялся на кафедру, ответил на наше приветствие и с ласковой улыбкой на своем добром, изжелта-бледном лице пронзительным голосом воскликнул:
— Господа!
За прошедшие три года никогда еще ни один школьный учитель не обращался к нам со словом «господа». И, услышав «господа» от учителя Мори, мы, естественно, широко раскрыли глаза от изумления. Вместе с тем мы, затаив дыхание, ждали, что за обращением «господа» последует большая речь о порученных ему занятиях или что-нибудь в таком роде.
159
Однако, сказав «господа», учитель Мори только обводил класс глазами и некоторое время больше не раскрывал рта. На его одутловатом лице блуждала спокойная улыбка, но углы рта нервно подергивались, а ясные глаза, в которых было что-то коровье, беспокойно поблескивали. И была, казалось, в этом молчании обращенная к нам немая мольба, только какая, учитель и сам не мог бы определить.
— Господа! — немного спустя повторил учитель Мори тем же тоном. На этот раз он сразу же, точно желая не дать отзвучать слову «господа», с величайшей поспешностью добавил: — Начиная с сегодняшнего дня я буду учить вас по хрестоматии.
Любопытство наше разгорелось, и, боясь произвести малейший шум, мы жадно уставились ему в лицо. Но учитель Мори окинул класс тем же умоляющим взглядом и вдруг, словно внутри у него лопнула какая-то пружина, сел. Положив рядом с уже развернутой хрестоматией классный журнал, он раскрыл его и стал просматривать. Незачем и говорить, как разочаровало нас такое внезапное окончание вступительной речи, вернее, разочаровало и рассмешило.
К счастью, учитель, предупреждая наш смех, оторвал свои коровьи глаза от журнала и сразу же вызвал одного из нас, прибег вив к фамилии «сан». Разумеется, это был знак встать и начать переводить. Ученик поднялся и бойким тоном, свойственным токийским школьникам, стал переводить отрывок из какой-то ангг лийской книги, кажется, из «Робинзона Крузо».
Учитель Мори, время от времени поднося руку к своему лиловому банту, стал вежливо поправлять ученика — не только ошибки в переводе, но даже малейшие неточности в произношении. Произношение учителя Мори было несколько искусственное, но в общем правильное, ясное, и похоже было, что он сам в глубине души особенно им гордится.
Однако, когда ученик сел на место и переводить начал учитель, в классе стали раздаваться смешки. Дело в том, что учитель, у которого и без того было неестественное произношение, обнаружил при переводе еще и непостижимое для японца незнание японских слов. Вероятно, знать он их знал, но не мог вспомнить в нужную минуту. Например, одну строку он переводил так: «Тогда Робинзон Крузо решил разводить. Кого же он решил разводить? Этих странных животных... их много в зоопарке... как их зовут... они любят кривляться... да вы их хорошо знаете! Такие с красной мордой... что, обезьяны? Да-да, обезьяны! Он решил разводить обезьян». Само собой разумеется, что раз так обстояло даже с обезьяной, то если дело касалось хоть сколько-нибудь затруднительного слова, он натыкался на нужный перевод с трудом,

«Паутинка»
только после долгих олужданий вокруг да около. Причем каждый раз учитель Мори ужасно терялся и, беспрестанно поднови руку к горлу и чуть не обрывая свой лиловый бант, подымал смущенное лицо и кидал на нас смятенные взгляды. И тут же, обхватив руками свою лысую голову, опять опускал лицо над столом и подавленно замолкал. Тогда и без того маленькое тело учителя беспомощно съеживалось, совсем как воздушный шарик, из которого выпустили воздух, и нам даже представлялось, что его свешивающиеся со стула ноги болтаются в пространстве. Учеников это забавляло, и они посмеивались. Пока учитель повторял перевод, смех постепенно становился более дерзким, и наконец на передней парте раздался открытый хохот. Как, вероятно, горек был наш смех для доброго учителя Мори, — право, при одном воспоминании об этих жестоких звуках мне и теперь хочется заткнуть себе уши.
И все же учитель Мори храбро продолжал переводить, пока не прозвучал сигнал на перемену. Тогда, дочитав последний отрывок, он с тем же невозмутимым видом ответил на наше прощальное приветствие и, словно позабыв только что выдержанную жестокую битву, спокойно вышел из класса. Мы разразились неудержимым хохотом, зашумели, нарочно стуча крышками парт; некоторые ученики, вскочив на кафедру, сразу же принялись передразнивать повадки и голос нового учителя... Ах, да и я сам, со значком старосты класса, окруженный другими учениками, задрал нос и стал указывать им ошибки в переводе учителя... надо ли все это вспоминать? В самом деле, тогда я даже похвалялся тем, чего не знал наверно: действительно ли это ошибки или нет?
* * *
Это было в час отдыха, через три-четыре дня. Мы, несколько учеников, собрались у песчаной горки на гимнастической площадке и, греясь на теплом зимнем солнце, без конца болтали о предстоящих в недалеком будущем годовых экзаменах. Громко скомандовав «раз-два!», на песок спрыгнул учитель Тамба, весивший целых восемнадцать кан, который упражнялся со школьниками на железном столбе, и рядом с нами появилась его фигура в жилете и спортивной кепке.
— Ну, как он, ваш новый учитель Мори? — осведомился он. Тамба-сэнсэй тоже преподавал в нашем классе английский язык, но он был известный любитель спорта, и так как он с давних пор хорошо распевал стихи, то пользовался большой популярностью в компании героев — мастеров дзюдо и фехтования, не терпевших никакого английского языка. Поэтому в ответ на слова учителя
6 Акутагава Рюноскэ
161
один из героев, поигрывая боксерской перчаткой, с несвойственной ему робостью, ответил:
— Да, уж очень... как бы это сказать, уж очень, как будто...
не так уж хорошо знает.Стряхивая платком песок с брюк, учитель Тамба самодовольно рассмеялся.
— Хуже тебя, что ли?
— Нет, по сравнению со мной-то лучше.
— Ну так чего ж тут рассуждать!
Герой почесал рукой в перчатке голову и бесславно стушевался. Но первый по английскому языку ученик нашего класса, поправляя свои очки с толстыми стеклами, возразил не по возрасту благоразумным тоном:
— Ведь большинство из нас, сэнсэй, намерены держать вступительные экзамены в специальные институты, поэтому мы хотели бы учиться у преподавателя, который может выходить за рамки программы.
Но Тамба-сэнсэй, по-прежнему богатырски смеясь, сказал:
— Чего там, ведь дело идет об одном семестре, так у кого ни учись, все едино.
— Значит, Мори-сэнсэй будет преподавать у нас только один семестр?
Этот вопрос, видимо, и учителя Тамба слегка задел за живое. Житейски опытный учитель намеренно не ответил и, сняв спортивную кепку, стал энергично стряхивать пыль со своей коротко стриженной головы, а затем, обведя нас взглядом, искусно переменил тему:
— Видите ли, Мори-сэнсэй — очень старый человек и поэтому немного другой, чем мы... Вот сегодня утром вхожу я в трамвай, а Мори-сэнсэй сидит в самой середине, и когда трамвай подходил к остановке, где ему надо было пересаживаться, он вдруг завопил: «Кондуктор, кондуктор!» Мне стало смешно, сил нет. Во всяком случае, он немного странный человек.
Но если уж речь зашла об этой стороне личности учителя Мори, то и без Тамба-сэнсэя мы знали многое, что приводило нас в изумление...
— И еще Мори-сэнсэй в дождь ходит в гэга, хотя на нем европейский костюм.
— А у пояса у него всегда висит что-то завернутое в белый носовой платок, и подумайте — это его вавтрак!
— Я видел, как Мори-сэнсэй в трамвае держался за ремень, и перчатки у него были совсем дырявые.
Окружив учителя Тамба, мы наперебой болтали невероятную чушь. Видимо, поддавшись этому, учитель Тамба, когда наши го-
162
лоса стали громче, произнес веселым тоном, вертя в руке свою кепку:
— Да это что! Шляпа-то у него старая...
И в этот самый момент — кто бы мог подумать? — на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от нас у входа в двухэтажное здание училища, напротив спортивной площадки, появилась невозмутимая тщедушная фигурка учителя Мори в старом котелке; рука его, как обычно, прикасалась к лиловому банту. У входа несколько первоклассников играли в лошадки; увидев учителя, они наперебой стали вежливо кланяться. И Мори-сэнсэй, стоя на солнце, лучи которого падали на каменные ступени входа, с улыбкой ответил на поклоны, приподняв котелок. При виде этой картины мы почувствовали какой-то стыд, и оживленный смех на некоторое время затих. Только Тамба-сэнсэй, видимо, был слишком смущен и растерян, чтобы просто замолчать. Произнеся: «Шляпа-то у него старая», — он слегка высунул язык, быстро надел свою кепку и вдруг, круто обернувшись и громко крикнув «раз!», забросил свое полное тело, облаченное в жилетку, на железный столб. Затем, подтягиваясь по-рачьи и вытягивая ноги далеко вверх, он крикнул «два!» и, отчетливым силуэтом пронзая синее зимнее небо, легко взобрался на самый верх. Вполне естественно, что эта комичная попытка учителя Тамба скрыть свое смущение всех нас рассмешила. Глядя вверх на учителя Тамба, ученики, на минуту было притихшие, громко загалдели и захлопали учителю Тамба, совсем как болельщики на футболе.
Разумеется, я аплодировал вместе со всеми. Но уже тогда начинал, правда, пока еще инстинктивно, ненавидеть учителя Тамба. Это не значит, что я так уж проникся сочувствием к учителю Мори. Доказательством служили аплодисменты, которыми я наградил учителя Тамба, заключавшие в себе косвенное недоброжелательство к учителю Мори. Анализируя себя теперь, я, пожалуй, могу объяснить свое тогдашнее состояние духа таким образом: презирая Тамба-сэнсэя, я вместе с тем презирал заодно и Мори-сэнсэя. А может быть и так, что мое презрение к учителю Мори стало более наглым, словно получив подтверждение в словах учителя Тамба — «а шляпа-то у него старая». Поэтому, продолжая аплодировать, я через плечо торжествующе оглянулся на вход в школу. А там наш невозмутимый учитель Мори, как зимняя муха, жадно греющаяся на солнце, одиноко стоял на каменных ступенях и с интересом наблюдал за невинными играми первоклассников. Его котелок и лиловый галстук... Почему эта картина, которую я тогда охватил одним взглядом и которая показалась мне достойной осмеяния, до сих пор не выходит у меня из головы?
6*
163
* * *
Чувство презрения, которое в первый же день занятий возбудил в нас учитель Мори своим костюмом в своими знаниями, особенно с тех пор как учитель Тамба допустил оплошность (?), понемногу крепло во всем классе. Дело было как-то утром менее чем через неделю. С прошлого вечера шел снег, и на торчавшей перед окнами крыше здания, заменявшего в дождь спортивную площадку, больше не просвечивали черепицы. Но в классе стояла печка, где пылал раскаленный уголь, и даже снег, оседавший на оконных стеклах, таял, не успевая блеснуть своей голубизной. Поставив стул перед печкой, учитель Мори своим пронзительным голосом с увлечением объяснял помещенную в хрестоматии «A Psalm of life», но никто, конечно, его серьезно не слушал. Мало того что не слушал: мой сосед по парте, мастер дзюдо, подложил под хрестоматию развернутый журнал «Букё-сэкай» и с самого начала читал приключенческий роман Осикава Сюнро.
Так продолжалось минут двадцать — тридцать. Затем учитель Мори вдруг поднялся со стула и, пересказывая стихотворение Лонгфелло, которое он только что объяснял, принялся толковать о вопросах человеческой жизни. В чем состояла суть его разговоров, я не помню, но думаю, что это были не столько рассуждения, сколько какие-то впечатления его собственной жизни, потому что из того, что он говорил взволнованным голосом, все время взмахивая обеими руками, как птица с ободранными крыльями, мне смутно припоминаются такие фразы:
— Вы еще не знаете человеческой жизни. Хотите узнать, но не знаете. И в этом ваше счастье. Когда станете такими, как мы, то прекрасно узнаете жизнь. Узнаете и то, что есть в ней много тяжелого... Понимаете? Много тяжелого. Вот и у меня — двое детей. Надо отдать их в школу. А чтоб отдать, э... чтоб отдать... плата за учение? Да. Нужна плата за учение. Понимаете? Поэтому есть очень много тяжелого.
Но настроение, с которым учитель жаловался на жизненные трудности школьникам, ничего не знающим о жизни, жаловался, может быть, и сам того не желая, разумеется, не могло нам быть понятным. Более того, видя только смешную сторону самого факта его жалоб, мы во время его речи стали потихоньку посмеиваться. Этот смешок не. превратился в обычный громкий смех, вероятно, лишь потому, что жалкая одежда учителя и выражение его лица, когда он разглагольствовал своим пронзительным голосом, словно воплощая в себе сами тяготы жизни, пробудили в нас некоторое сочувствие. Но хотя наш смех не стал громче, зато немного спустя
164
сидевший рядом со мной мастер дзюдо вдруг отложил журнал и подчеркнуто резко встал.
— Сэнсэй, мы пришли в класс, чтобы нас учили английскому языку. А раз нас не учат, то и незачем приходить в класс. И если вы будете продолжать разговаривать, я уйду в гимнастический зал.
С этими словами он скорчил ужасную гримасу и с шумом опустился на место. Никогда не видел я такого странного лица, как у учителя Мори в эту минуту. Как пораженный громом, он с полураскрытым ртом остолбенел у печки и в течение двух-трех минут только молча смотрел в лицо дерзкому ученику. Потом в его коровьих глазах мелькнуло то самое умоляющее выражение, и вдруг, поднеся руку к лиловому галстуку и улыбаясь так, словно он плакал, он стал повторять, несколько раз склоняя свою лысую голову:
— Я виноват. Я виноват и глубоко извиняюсь. В самом деле, вы приходите в класс учиться английскому языку. Я виноват, что не учил вас английскому языку. Я виноват и глубоко извиняюсь. Понимаете? Глубоко извиняюсь.
При свете красного пламени, косо падавшем из раскрытой двери печки, еще более четко выступали потертые места на плечах и боках его визитки. И лысая голова учителя, каждый раз, когда он ее наклонял, отливавшая красивым медным блеском, еще больше напоминала яйцо страуса.
Но и эта жалкая картина мне, каким я был тогда, только раскрывала низость Мори-сэнсэя как учителя. Он до того боится потерять место, что подлаживается к ученикам. Значит, он учительствует вовсе не потому, что интересуется преподаванием, а потому, что вынужден к этому жизнью. Предаваясь таким туманным рассуждениям и чувствуя презрение не только к его одежде и знаниям, но и к самой его личности, я, облокотившись на хрестоматию, снова и снова нагло смеялся над учителем, который перед пылающей печкой и духовно и физически сгорал на огне. Разумеется, так делал не я один. Когда учитель, изменившись в лице, стал извиняться, донявший его мастер дзюдо мельком взглянул в мою сторону и с лукавой улыбкой вернулся к изучению спрятанного под хрестоматией приключенческого романа. После этого до самого сигнала к перерыву учитель Мори, еще более растерянный, чем обычно, с отчаянием переводил несчастного Лонгфелло. «Life is real, life is earnest»1, — повторял он, бледный, обливаясь потом, словно умоляя о чем-то, и его пронзительный голос, как будто застревающий у него в горле, до сих пор звучит у меня в ушах. Но тогда такие же, как этот голос, трагические голоса
1 Жизнь реальна, жизнь сурова (англ.). — Перевод М. Зенкевича.
165
миллионов других людей были слишком далеко, чтобы достичь нашего слуха. Поэтому весь этот час скука наслаивалась на скуку, и не я один без стеснения зевал во весь рот. А учитель Мори, вытянувшись перед печкой своим маленьким телом и не обращая никакого внимания на снег, бьющий в оконные стекла, размахивал хрестоматией и упорно, словно в голове у него развернулась какая-то пружина, с отчаянием восклицал: «Life is real, life is earnest!»
Так как дело шло таким порядком, то, когда окончился семестр, составлявший срок договора и фигура учителя Мори опять исчезла у нас из вида, мы радовались, а отнюдь не сожалели. Вернее, мы настолько равнодушно отнеслись к его уходу, что даже не обрадовались по-настоящему. В особенности когда я и другие в последующие семь-восемь лет переходили из средней школы в высшую нормальную, а из высшей нормальной школы в университет, никто из нас не чувствовал к нему никакой привязанности, так что мы совершенно позабыли о самом его существовании.
И вот осенью, в год окончания университета... Это случилось в первой декаде декабря, когда к концу дня часто бывает густой туман и с ив и платанов в аллеях летят желтые листья, в вечер после дождя. Порыскав по букинистическим лавкам в Канда, я раздобыл несколько немецких книг, которые со времени европейской войны стали редкостью. Подняв воротник для защиты от промозглого воздуха поздней осени, я проходил мимо магазина Наканиспя. Почему-то мысль об оживленных голосах и горячих напитках вдруг показалась мне привлекательной, и без всякой определенной цели я зашел в тамошнее кафе.
Оказалось, однако, что это кафе, хотя и маленькое, совершенно пусто, ни одного посетителя в нем не было. На стоящих рядами мраморных столиках в позолоте сахарниц холодно отражался электрический свет. С чувством грусти, как будто меня кто-то обманул, я сел за столик, стоявший перед вделанным в стену зеркалом. Подошедшему официанту я заказал кофе, вынул сигару и, перепортив кучу спичек, наконец зажег ее. Вскоре на моем столике появилась чашечка дымящегося кофе, но все же охватившее меня уныние, как и туман за окном, никак не рассеивалось. Книга по философии, которую я купил у букиниста, была с мелкой печатью, и в знаменитой статье, ради которой я ее купил, нельзя было прочесть ни страницы. Тогда я волей-неволей откинулся на спинку стула и, берясь то за бразильский кофе, то за гаванскую сигару, лениво устремил блуждающий взор на зеркало, висевшее прямо передо мной.
166
В зеркале ярко и холодно, словно часть сцены, отражалась лестница на второй этаж, видимая сбоку за ней противоположная стена, белая окрашенная дверь, висящая на стене афиша концерта. Кроме того, виден был мраморный столик. Виден был большой вазон с хвойным деревом, Впдна была висячая электрическая лампа. Видна была большая фаянсовая газовая печь. Видны были фигуры трех-четырех официантов, которые разговаривали о чем-то, сидя перед печкой. И, наконец... так, по порядку разглядывая все, что было видно в зеркале, я добрался до официантов, сидевших перед печкой, и тут изумился, увидев среди них за столиком фигуру посетителя. Вероятно, я сначала не обратил на него внимания, потому что, видя его среди официантов, бессознательно принял его за повара этого кафе или кого-то в том же роде. Но изумился я не только тому, что, вопреки моему первому впечатлению, здесь оказался еще один посетитель. Дело в том, что хотя фигура посетителя в зеркале была мне едва видна в профиль, однако по лысой голове, похожей на яйцо страуса, по визитке, вытертой до синевы, по цвету вечно лилового банта — я узнал с одного взгляда нашего учителя Мори.
Едва я увидел его, в моем уме отчетливо всплыли те семь-восемь лет, которые нас разделяли. Староста класса в средней школе, учившийся по английской хрестоматии, и я, который, сидя за столиком, спокойно выпускал через нос дым сигары... мне эти годы не могли показаться короткими. Но не оттого ли, что уносящий все «поток времени» с одним только учителем Мори, уже перешагнувшим за свой век, не смог поделать ничего... Учитель, который сейчас, в этот вечер, сидел в кафе за столиком с официантами, был тот самый человек, который давным-давно в классе, куда не заглядывало заходящее солнце, учил нас по английской хрестоматии. Его лысая голова не изменилась. Лиловый галстук был все тот же. И пронзительный голос... Да ведь, кажется, он своим пронзительным голосом озабоченно объясняет что-то официантам... Невольно улыбаясь и позабыв о своем унынии, я внимательно прислушался к голосу учителя.
— Этим существительным управляет вот это прилагательное. «Наполеон» — имя человека, поэтому оно называется существительным. Поняли? А за этим существительным, прямо за ним, — знаете вы, что стоит за ним? Ну, скажи ты.
— Относительно... относительное существительное, — заикаясь, ответил один из официантов.
— Что, относительное существительное? Относительных существительных не бывает. Относительные... относительные... местоимения? Ну да, относительное местоимение. Местоимение — оно
167
замещает существительное «Наполеон». Поняли? Местоимение — это слово, употребляющееся вместо имени.
Судя по разговору, учитель Мори преподавал в этом кафе официантам английский язык. Я передвинулся вместе со стулом и посмотрел в зеркало с другой точки. Действительно, на столике лежала какая-то развернутая книга, похожая на хрестоматию. Учитель Мори тыкал пальцем в ее страницы и, по-видимому, никак не мог закончить свои объяснения. В этом он тоже был все такой же, как раньше. Только обступившие его официанты, в отличие от тогдашних школьников, тесно сбившись в кучу, с горящими глазами послушно внимали его сбивчивым объяснениям.
Пока я наблюдал в зеркало эту сцену, на поверхность моего сознания понемногу всплыло теплое чувство к учителю Мори. Что, если я подойду к нему и выражу сожаление, что так долго с ним не встречался? Но вряд ли учитель помнит меня, поскольку видел меня только в классе в течение всего одного семестра. А если даже и помнит... Вспомнив недоброжелательный смех, которым мы тогда награждали учителя Мори, я вдруг сообразил, что выкажу гораздо больше уважения к нему, если не назову себя. Поэтому, поскольку кофе как раз был выпит, я тихонько поднялся, оставив недокуренную сигару. Но как я ни старался не производить ни малейшего шума, все же я, по-видимому, привлек внимание учителя. В тот миг, как я встал, изжелта-бледное круглое лицо, грязноватый воротник и лиловый галстук оказались обращенными в мою сторону. И на мгновенье коровьи глаза учителя встретились в зеркале с моими глазами. Но, как я и ожидал, в его глазах не показалось такого выражения, какое говорило бы о том, что он увидел старого знакомого. Единственное, что в них мелькнуло, это, как бывало и раньше, жалкое выражение какой-то вечной мольбы.
Опустив глаза, я принял у официанта счет и, чтобы рассчитаться, молча подошел к конторке у входа в кафе. У конторки со скучающим видом сидел знакомый мне старший официант с ровным пробором в приглаженных волосах.
— Там у вас учатся английскому языку. Это их обучают по просьбе кафе? — спросил я, уплачивая.
И старший официант, не сводя глаз с прохожих за дверью, пренебрежительно ответил:
— Какое там, никто его не просил! Просто приходит каждый вечер и вот так учит. Что ж, говорят, он бывший учитель английского языка, теперь одряхлел, нигде его на работу не берут, вот он и таскается, чтобы убить время. За одной чашкой кофе просиживает целый вечер, так что и нам не такой уж интерес.
168
Слушая этот ответ, я так и видел перед собой глаза учителя Мори, молящие о чем-то неизвестном ему самому. Ах, учитель Мори! Мне показалось, что теперь я начинаю смутно представлять его себе — его благородную личность. Если существуют педагоги от рождения, то таким был он. Перестать учить английскому языку хоть на минуту было для него так же невозможно, как перестать дышать. Случись это, его жизненная сила, как лишенное влаги растение, сразу же увяла бы. Вот почему он каждый вечер приходит в это кафе выпить чашку кофе. Разумеется, он делает это не от скуки, не для того, чтобы убить время, как думает старший официант. Я вспоминал, как мы, сомневаясь в искренности учителя, издевались над ним, считая, что он преподает только ради заработка, и теперь это представилось мне заблуждением, из-за чего я мог лишь краснеть. Подумать только, как должен был страдать наш учитель Мори от этих злостных кривотолков — «чтобы убить время», «ради заработка». И при таких страданиях он всегда сохраняет невозмутимость и в неизменном котелке, с лиловым бантом неустрашимо делает свои переводы, делает их храбрее, чем шел на подвиги Дон-Кихот. Только иногда все же в глазах его проскальзывает мольба, обращенная к ученикам, которых он учил, а может быть, и ко всем людям, с которыми он имел дело, — мучительная мольба о сочувствии.
Охваченный этими мгновенно промелькнувшими мыслями, подавленный каким-то непонятным волнением, я не знал, плакать мне или смеяться, и, спрятав лицо в поднятый воротник, поспешно вышел из кафе. А позади, под слишком ярким холодным электрическим светом, учитель Мори, пользуясь отсутствием посетителей, по-прежнему своим пронзительным голосом учил английскому языку жадно внимавших ему официантов:
— Так как это слово замещает имя, то его называют местоимением. Поняли? Местоимением... Ясно?
Декабрь 1918 г.
Все, что вы прочитаете ниже, может быть, и нельзя отнести к жанру рассказа. Да я вообще затрудняюсь ответить на вопрос, к какому жанру это можно было бы отнести. Я просто попытался правдиво и, по возможности, без предубеждения рассказать о некоторых событиях, случившихся несколько лет тому назад. Боюсь, это может показаться скучным тем читателям, которые не питают интереса к моей жизни, жизни моих друзей и веяниям того времени.
169
Тем не менее я решил опубликовать эти воспоминания, успокаивая себя тем, что подобное опасение неизбежно возникает при издании любого художественного произведения. Наконец, я хотел Сы добавить, что сказанное мною о правдивом изложении не обязательно распространяется и на последовательность в изложении фактов. Только сами факты, в общем, описаны правдиво.
1
Было ясное ноябрьское утро. Спустя долгое время я снова надел неудобную студенческую форму и отправился в университет. У входа я встретился с Нарусэ, на котором была такая же точно форма. Я сказал: «Давненько!» Он ответил: «Давненько!» Мы положили рядом наши квадратные студенческие фуражки и вошли в старое кирпичное здание юридического и литературного факультетов. У входа перед доской объявлений стоял одетый по-японски Мацуока. Мы еще раз обменялись нашими «давненько».
Сначала мы поговорили о нашем журнале «Синейте», который собирались выпустить в ближайшие дни. Затем Мацуока рассказал о том, как он после долгого перерыва появился в университете, зашел не то в аудиторию по истории западной философии, не то в какую-то другую, сел и стал ждать. Сколько он ни ждал, ни преподаватель, ни студенты не появлялись. Мацуока это показалось странным. Он вышел наружу и спросил у посыльного, в чем дело. Оказалось, он пришел в выходной день. Для такого рассеянного человека, как Мацуока, в этом не было ничего необычного. Ведь это он однажды, намереваясь сесть на трамвай, вышел из дома с десятью сэнами в кармане, зашел в табачную лавку и преспокойно сказал: «Один билет туда и обратно».
Тем временем мимо нас промчался похожий на горбуна посыльный, который изо всех сил тряс звонок, извещающий о начале утренних лекций.
Первой была лекция ныне покойного Лоуренса. Мы распрощались с Мацуока и вместе с Нарусэ поднялись на второй этаж. В аудитории уже было полно студентов. Одни читали свои конспекты, другие болтали о разных разностях. Мы заняли стол в углу и начали обсуждать темы рассказов, которые собирались написать для журнала «Синейте». Над нашими головами висела на стене табличка «Курить воспрещается», но мы, беседуя, вытащили из карманов «Сикисима»1 и закурили. Курили не только мы. Другие студенты тоже преспокойно дымили папиросами. В этот
1 «Сикисима» — марка папирос.
170
момент, дерзка портфель под мышкой, в аудиторию поспешно вошел Лоуренс. Поскольку я уже успел докурить свою «Сикисима» и даже выбросил окурок, опасаться мне было нечего, и я спокойно раскрыл конспекты. У Нарусэ папироса еще дымилась во рту. Он быстро бросил окурок под стол и наступил на него, пытаясь погасить. К счастью, Лоуренс не обратил внимания на струйку дыма, поднимавшуюся из-под нашего стола. Поэтому, проверив по списку присутствующих, он сразу же приступил к лекции.
Все сходились в то время на том, что лекции Лоуренса крайне скучны. Но в то утро лекция была особенно неинтересна. Вначале Лоуренс конспективно изложил ее содержание. Причем это происходило по следующей схеме: акт первый, сцена вторая — краткое изложение. И так акт за актом, сцена за сценой. Не было никаких человеческих сил выносить подобную скуку. Прежде во время лекции меня всегда охватывала мысль: какой злой рок заставил меня поступить в университет?! Теперь я даже об этом не думал. Настолько я покорился судьбе, вынуждавшей меня молча выслушивать эти «великолепные» лекции. В то утро я, как обычно, механически двигал пером, прилежно записывая нечто напоминавшее английский перевод содержания пьесы императорского театра. Но вскоре меня стало клонить ко сну. И я, конечно, уснул.
У меня была законспектирована всего одна страничка, когда я сквозь сон услышал какие-то странные интонации в голосе Лоуренса, заставившие меня проснуться. Вначале мне показалось, что Лоуренс заметил, будто я сплю, и ругает меня за это. Но в следующий момент я понял, что Лоуренс размахивает «Макбетом» и с увлечением говорит голосом шута. Я подумал, что и сам-то я отношусь к разряду шутов. Мне показалось это комичным, и сонливость мгновенно исчезла. Рядом Нарусэ конспектировал лекцию. Иногда он поглядывал в мою сторону и потихоньку смеялся. Я успел испортить еще несколько страниц, когда наконец прозвенел звонок, извещавший об окончании лекции. Вслед за Лоуренсом мы дружной толпой выплеснулись в коридор.
Стоя в коридоре, мы любовались пожелтевшей листвой росших во дворе деревьев. Подошел Тоёда Минору. «Покажи на минутку твой конспект», — попросил он. Я дал ему конспект, но оказалось, что того места, которое его интересовало, в конспекте не было: я его как раз проспал. Я, естественно, почувствовал себя неловко. «Ну, ладно», — сказал Тоёда и неторопливо двинулся дальше. Слово «неторопливо» употреблено здесь мною не случайно. Ведь ты и правда всегда ходил неторопливо... Где ты теперь? Чем занимаешься? Точно не знаю. Хотел бы только сказать, что среди поклонников Лоуренса или, если сказать по-другому, среди сту-
171
дентов, которым симпатизировал Лоуренс, Тоёда был единственным, к которому, если не все мы, то, по крайней мере, я питал в некоторой степени дружеские чувства. И даже теперь, когда я пишу эти строки, я вспоминаю твою неторопливую походку, и мне хочется снова встретиться с тобой в коридоре университета и обменяться обычными приветствиями.
Тем временем снова прозвенел звонок, и мы с Нарусэ спустились на первый этаж, в аудиторию. Следующей была лекция по филологии профессора Фудзиока Кацудзи. Остальные студенты пришли заранее и заняли места поближе к кафедре. А такие лентяи, как мы, всегда приходили последними и садились за стол в самом углу. В то утро мы, как всегда, до самого звонка проболтались в коридоре второго этажа, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Лекции профессора Фудзиока по филологии имели право на существование уже хотя бы потому, что профессор обладал прекрасно поставленным звучным голосом и пересыпал свои лекции оригинальными шутками. Правда, я, как человек, от рождения лишенный филологического мышления, сказал бы несколько по-иному: только поэтому они и имели право на существование. Вот почему и сегодня то делая записи, то прекращая их, я с интересом слушал изобиловавшую интересными подробностями лекцию о Максе Мюллере.
Передо мной сидел студент с длинными волосами. Иногда он откидывал голову назад, и его волосы шуршали по моим записям, словно подметая их. Я даже не знал имени этого человека, и вплоть до сегодняшнего дня у меня все не было случая спросить, с какой целью он отрастил себе такую шевелюру. Во всяком случае, именно на этой лекции по филологии я сделал открытие, что его прическа, может быть, и совпадала с его личными эстетическими потребностями, но вступала в противоречие с практическими потребностями других. Но поскольку, к счастью, моя практическая потребность в слушании этой лекции была не столь настоятельна, я не записывал те места лекции, во время которых мне мешали его волосы. В промежутках, когда мне они не мешали, я вместо записей рисовал картинки. К несчастью, прозвенел звонок, а я не успел и наполовину зарисовать профиль сидевшего напротив потрясающего франта. Этот звонок, извещавший об окончании лекции, одновременно означал, что наступил полдень.
Вместе с Нарусэ мы отправились в харчевню «Иппакуся», что напротив университета. Там на втором этаже мы купили содовой воды и заказали обед за двадцать сэнов. За едой обсуждали различные проблемы. Мы с Нарусэ были друзьями. Причем наша дружба не омрачалась особыми расхождениями. В то время у нас было много общего и в идейном плане. Случайно мы оба почти
172
одновременно прочитали «Жана Кристофа», и оба были покорены этим романом. За обедом мы всегда без устали беседовали, перескакивая с одной темы на другую. В тот день к нам подсел официант Тани и завел разговор о бирже. «На худой конец, надо всегда быть готовым к этому», — решительно заключил Тани, выворачивая руки назад, будто его ведут полицейские. «Дурак», — заключил Нарусэ и перестал его слушать. Меня же все, что рассказывал Тани, очень интересовало, так как я в то время писал рассказ «Кошелек». Я проговорил с Тани до конца обеда и в один присест узнал больше десятка слов из биржевого жаргона.
После обеда лекций в университете не было, и мы, выйдя из харчевни, отправились в гости к Кумэ, который поблизости снимал комнату в Мияура. Будучи еще большим лодырем, чем мы, Кумэ вообще не посещал лекций. Он писал рассказы и пьесы. Когда мы пришли, он читал не то «Братьев Карамазовых», не то что-то еще, придвинув к столу жаровню для обогревания ног.
— Садитесь сюда, — пригласил Кумэ.
Мы сели, протянув ноги к жаровне. В нос ударил исходивший от пятен на подушках запах растительного масла, а также запах раскаленных углей. Кумэ сообщил нам, что он пишет рассказ об отце, покончившем жизнь самоубийством, когда Кумэ еще был ребенком. Это был вроде бы его дебют, и поэтому, по словам Кумэ, он измучился вконец, не зная, как к этому подступиться. Тем не менее Кумэ, как всегда, прекрасно выглядел, и на его лице нельзя было обнаружить какие-либо следы испытываемых им мук творчества. Потом он у меня спросил:
— Как дела?
— Написал наконец половину «Носа», — ответил я.
Нарусэ сказал, что он приступил к очерку о своей поездке в Японские Альпы летом этого года. Попивая приготовленный Кумэ кофе, мы долго разговаривали о различных проблемах творчества.
Кумэ начал подвизаться на литературном поприще значительно раньше нас. По сравнению с нами он, несомненно, обладал и большим писательским мастерством. Меня в особенности поражало его уменье легко и в короткий срок создавать трехактные и одноактные пьесы. Среди нас только один Кумэ с достаточной уверенностью занимал или собирался занять в литературных кругах соответствующее положение. Надо сказать, что он способствовал пробуждению уверенности и у нас, непрестанно страдавших оттого, что высота идеала не соответствовала нашим способностям. В самом деле, что касается лично меня, то если бы не дружба с Кумэ, если бы он искусственно меня не подбадривал и не воодуг шевлял, я бы, возможно, ничего не написал и на всю жизнь удовольствовался лишь ролью рядового читателя. Вот почему, когда
173
у нас возникал творческий разговор о литературе, им, как правило, дирижировал Кумэ. В тот день он тоже вел за собой наш оркестр. Наша беседа то оживлялась, то замирала. Помню, по какой-то причине мы часто упоминали имя Таяма Катая.
Справедливости ради следует сказать, что личность Таяма и его энергия сыграли не последнюю роль в серьезном влиянии, которое оказало на литературную жизнь Японии натуралистическое течение. И в этом смысле Таяма, — сколь бы скучными мы ни считали его «Жену» и «Школьного учителя» и сколь бы примитивной ни была его теория плоского отображения, — если не заслуживал уважения со стороны нашего, более молодого поколения, то, по крайней мере, привлекал к себе наш интерес. К сожалению, в то время мы были еще неспособны в должной мере оценить его бьющую через край творческую индивидуальность. Именно поэтому мы ничего не могли открыть в его произведениях, кроме лунного света и сексуальных картинок. В то же время его заметки и критические статьи, в которых Таяма рассказывал в стиле Гюисман-са о любопытных подробностях из жизни новообращенного, только вызывали у нас холодную усмешку, ибо нам приходило в голову комичное сопоставление Таяма с Дюрталем. Но это не означало, что мы видели в нем ловкача. Правда, мы не считали его и солидным романистом или мыслителем. Прежде всего мы признавали в нем талантливого автора путевых заметок. В то время я дал ему псевдоним Sentimental landscape-painter1. В самом деле, в перерывах между романами и критическими заметками Таяма усердно писал путевые заметки. Мало того, выражаясь несколько гиперболически, можно сказать, что и большинство его романов представляли собой путевые заметки, в которые там и сям вкрапливались образы мужчин и женщин — поклонников Venus Libentina2. Когда Таяма писал свои путевые заметки, он просто преображался. Он чувствовал себя свободно, становился веселым, откровенным, был прост и наивен. Ну прямо как осел, который дорвался до свежей зеленой травки. Думаю, с полным правом можно сказать, что в этой уж области Таяма был уникален. В то же время тогда еще в большей степени, чем теперь, мы не считали Таяма авторитетным идеологом и столпом натурализма в литературных кругах. Если же говорить без обиняков, мы пренебрежительно относились к его заслугам в области натуралистического течения и считали, что «все это благодаря тому, что такое уж тогда было время».
Покончив с обсуждением Таяма Катая, я и Нарусэ простились с Кумэ. Когда мы вышли на улицу, короткий зимний день уже
1 Сентиментальный пейзажист (англ.).
2 Богиня чувственной любви (лат.).
174
клонился к вечеру, и солнце отбрасывало на тротуар длинные тени: Ощущая хорошо нам знакомое и всегда желанное творческое возбуждение, мы дошли пешком до Хонго, 3, простились и поехали по домам.
2
Спустя некоторое время в погожий солнечный день я и Нару-сэ после утренних лекций отправились к Кумэ; Мы вместе пообедали, и Кумэ показал нам рукопись пьесы, которую ему прислал утром Кикути из Киото. Это была одноактная пьеса «Любовь Саката Тодзиро», главным героем которой являлся известный актер Токугавской эпохи. Кумэ предложил мне просмотреть ее. Я начал читать. Тема была интересная. Однако непомерно многословные диалоги, своей пестротой напоминавшие ткани в стиле юдзэн, портили все дело. Создавалось впечатление, будто подъедаешь остатки со стола Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюнъитиро. «Весь грех в многословии», — вынес я свой приговор. Нарусэ тоже прочитал пьесу и выразил отрицательное к ней отношение. «И меня она не восхищает. Чувствуется какой-то школярский подход», — согласился с нами Кумэ. От нашего имени Кумэ написал Кикути письмо, изложив в нем критические замечания по поводу пьесы. Тем временем к Кумэ зашел Мацуока. В отличие от нас троих, обосновавшихся на литературном факультете, Мацуока занимался на философском. Но он, как и все мы, посвятил себя писательской деятельности. Среди нас троих он был особенно близок с Кумэ. Одно время они вместе снимали комнату в доме, расположенном позади военного арсенала. В этом доме изготовляли рабочую спецодежду. Будучи романтиком в практической жизни, Кумэ часто погружался в беспочвенные мечты о том, как он наденет на себя один из этих голубых рабочих комбинезонов, поставит европейский стол в своем личном кабинете, который напоминал бы студию художника, и назовет этот кабинет творческой мастерской Кумэ Macao. Всякий раз, когда я посещал снимаемый ими угол, я вспоминал эту мечту Кумэ. Однако Мацуока владели мысли и настроения, не имевшие ничего общего с рабочей спецодеждой. Еще не освободившись от плена сентиментализма, он уже в то время все глубже и глубже погружался в волны религии. Он помышлял создать новый Иерусалим, не связанный ни с Западом, ни с Востоком, увлекался Киркегором, пытался писать довольно странные акварели. Я и сейчас хорошо помню, что среди его акварелей была одна, которая более напоминала картину, когда ее ставили вверх ногами. После того как Кумэ переехал из их общей комнаты в Мияура, Мацуока снял
175
угол в доме на Хонго, 5. Он и сейчас живет там и пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакья Муни.
Попивая приготовленный Кумэ кофе и немилосердно куря, мы вчетвером оживленно обсуждали разнообразные проблемы. Это было время, когда на вершину Парнаса вот-вот должен был вступить Мусякодзи Санэацу. И естественно, его произведения и высказывания нередко становились темой наших бесед. Мы с радостью ощущали, что Мусякодзи открыл настежь окна на нашем литературном Парнасе и впустил струю свежего воздуха. Очевидно, эту радость с особой силой почувствовало наше поколение, пришедшее в литературу вслед за Мусякодзи, а также молодежь, которая появилась после нас. Поэтому неизбежны были расхождения (в большей или меньшей степени) в оценке творчества Мусякодзи писателями и читателями предшествовавшего нам периода и периода, последовавшего после нас. Такое же расхождение имело место и в оценке творчества Таяма Катая (вопрос в том, для кого из них, для Мусякодзи или для Таяма, эта степень расхождения более соответствовала истине. Хотел бы лишь отметить, что, когда я выше говорил «такое же расхождение», я не имел в виду одинаковую «степень расхождения»). В то время мы тоже не считали Мусякодзи литературным мессией. Существовало также расхождение в оценке его как писателя и как мыслителя. Говоря о нем как о писателе, следует, к сожалению, отметить, что он всегда слишком спешил с завершением своих произведений. Несмотря на то что Мусякодзи часто в своей «Смеси» подчеркивал тесную связь между формой и содержанием, он, опиравшийся не столько на терпеливую, тщательную обработку, сколько на вдохновение, в своей практической творческой деятельности забывал о тонких и своеобразных взаимоотношениях между формой и содержанием. Поэтому форма, к которой прежде Мусякодзи относился с пренебрежением, в «Его сестре» и последующих произведениях стала восставать против него. В пьесах Мусякодзи постепенно исчезал неповторимый элемент драматизма (правда, нельзя сказать, что он исчез полностью. Даже в «Мечте одного юноши», которую некоторые критики вообще не причисляли к пьесам, если читать фразу за фраэой, можно обнаружить целый ряд отрывков, написанных с мощной драматической выразительностью), и вместо того, чтобы обрисовывать характер героя, он постепенно все в большей степени стал использовать пьесу для изложения своих собственных мыслей. А поскольку для изложения этих мыслей и чувств не требовалось особой драматической выразительности, постольку они получались значительно слабее, чем то, о чем он писал в «Смеси». Будучи знакомыми с произведениями Мусякодзи еще с тех времен, когда была опубликована «Одна семья», мы испытывали
176
серьезное неудовлетворение этой его новой тенденцией, которая стала проявляться начиная с «Его сестры». Но фактом было также и то, что во многих его заметках, публиковавшихся под рубрикой «Смесь», таились могучие силы, которые, подобно тайфуну, раздували стремление к идеалу, извергая иногда мощные протуберанцы пламени. Часто некоторые критики указывали на отсутствие логики в идеях, излагавшихся Мусякодзи в «Смеси». Однако в нас слишком много было человеческого для того, чтобы признавать за истину только то, что уже удостоверено логикой. Нет, одна из великих и светлых истин Мусякодзи состояла прежде всего в том, чтобы серьезно относиться именно к человеческому. Когда втоптанный в грязь и давным-давно потерявший свое истинное лицо гуманизм вновь появился на литературной арене, где, как сказано в главе о Христе из Эммауса, «день уже склонился к вечеру», все мы вместе с Мусякодзи почувствовали, как «горело в нас сердце наше». В наше время я часто слышал от подобных мне людей, в том числе даже от писателей, которые придерживаются противоположных Мусякодзи взглядов, что когда они снова перечитывают его «Смесь», к ним всегда возвращается былое и столь дорогое сердцу волнение. Мусякодзи показал нам — по крайней мере, мне — пример, как для того, чтобы встретить гуманность, которую «посадили на осленка», он «постилал одежды свои по дороге», рубил ветви деревьев и устилал ими дорогу...
Поговорив у Кумэ о том о сем, мы все вместе вышли на улицу. У Хонго, 3, расставшись с Нарусэ и Мацуока, я и Кумэ сели в трамвай, направлявшийся к Гиндза. Мы поужинали несколько раньше обычного в кафе «Лайон» и двинулись в театр Кабуки, где купили билеты на стоячие места. Мы попали на вторую пьесу репертуара того дня. Пьеса была новая. Не только сюжет, но и само название ее было нам незнакомо. На сцене стояли декорации, плохо имитировавшие чайный домик. Там и сям были налеплены искусственные цветы сливы, напоминавшие изделия из ракушек. На наружной галерее чайного домика Тюся, игравший самурая, объяснялся с девушкой, роль которой исполнял Утаэмон. Я вырос в торговых кварталах Токио и не питал особого интереса к вещам, созданным в эдоском вкусе, в том числе и к пьесам. Я был к ним настолько равнодушен, что любая драматическая ситуация почти никогда не оказывала на меня впечатления. (А может быть, меня сделали равнодушным. Ведь родители брали меня с собой в театр начиная с двухлетнего возраста.) Поэтому в театре я в большей степени, чем содержанием пьесы, интересовался игрой актеров и в большей степени, чем игрой актеров, интересовался публикой, сидевшей в дома и садзики. И на этот раз меня гораздо больше, чем великие актеры, привлекал похожий на приказчика человек
177
в спортивной шапке с козырьком, который грыз сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену. Я сказал, что он не отрываясь смотрел на сцену, но должен добавить, что мой приказчик в то же время ни на минуту не прекращал есть каштаны. Он запускал руку за пазуху, доставал горсть каштанов, лущил их и тут же отправлял в рот. Отправив в рот очередную партию, он снова залезал рукой за пазуху, вытаскивал новую горсть каштанов, лущил и снова отправлял в рот. Причем во время всего этого процесса он ни на секунду не отрывал глаз от сцены. Заинтересовавшись столь тонким разделением зрительных и вкусовых ощущений, я в течение некоторого времени внимательно наблюдал за его лицом. Наконец у меня появилось желание спросить у него, каким из этих двух дел он занимался серьезно. Как раз в этот момент сидевший рядом со мной Кумэ истошным голосом вавопил: «Татибаная!» Я вздрогнул и невольно бросил взгляд на сцену. Вдоль двора спокойно шествовал игравший молодого самурая Удзаэмон, который не был способен на что-либо другое, кроме исполнения роли обольстителя женщин. Однако сидевший рядом приказчик словно и не слышал выкрика Кумэ. Он по-прежнему уписывал сладкие каштаны и не отрываясь смотрел на сцену, словно хотел вцепиться в нее. Я подумал, что комичность приказчика слишком серьезна, чтобы смеяться над ней. В то же время я почувствовал, что ситуация заслуживает того, чтобы отобразить ее в каком-нибудь рассказе. Несмотря на появление на сцене Татибаная, сам спектакль был еще более ужасен, чем картины Икэда Тэрука. Не дожидаясь окончания первого действия, я воспользовался моментом, когда поворачивалась сцена и менялись декорации, и бросился вон из театра, увлекая за собой упиравшегося Кумэ.
Когда мы вышли на освещенную луной улицу, я сказал Кумэ:
— Что за идиотизм так орать в театре!
— Почему? Я просто замечательно кричал, — ответил Кумэ, не желая признать глупость своего поведения. Вспоминая теперь об этом эпизоде, я предполагаю, что на поведении Кумэ сказалась изрядная доза виски, выпитая им в кафе «Лайон».
3
«Все же существование чисто литературного факультета в университете явление очень странное. Известно, что он включает в себя отделения японской, китайской, английской, французской и немецкой литературы. Но чем же на этих отделениях практически занимаются? По правде говоря, это для меня остается неясным Несомненно, предметом изучения там является литература каждой
178
страны. И эту, так сказать, литературу там, несомненно, рассматривают как один из разделов искусства. Говорят об изучении литературы как о науке. Но действительно ли это наука? (Точнее сказать, действительно ли это самостоятельная наука?) Если видеть в ней науку, если (употребляя более трудное выражение) имеются все условия для того, чтобы видеть в ней Wissenschait \ то тогда она будет, безусловно, идентична эстетике. И не только эстетике. Я полагаю, что, например, история литературы полностью идентична исторической науке. Правда, среди лекций, которые читаются теперь на чисто литературном факультете, многие не имеют ничего общего ни с эстетикой, ни с историей. Эти лекции даже из приличия нельзя считать наукой. Мягко говоря, они представляют собой изложение точки зрения преподавателей. Грубо говоря, это просто вздор. Поэтому я считаю, что правильней было бы ликвидировать этот чисто литературный факультет. Лекции обзорного порядка можно объединить с эстетикой. Историю литературы присоединить к лекциям по исторической науке. Остальные же лекции, поскольку они представляют собой чистейший вздор, следует вообще изъять из программы. Если слово «вздор» звучит слишком грубо, можно выразиться более высокопарно: эти лекции не гармонируют с таким заведением, как университет, где ставят целью изучение научных дисциплин. Осуществление этих мероприятий является неотложной задачей. В противном случае публика будет значительно легче поддаваться вздору, которым напичканы читаемые в университете лекции, поскольку он подается в более качественной упаковке, чем тот же вздор, который публикуется в газетных или журнальных критических статьях. А так как статьи, публикуемые в газетах и журналах, рассчитаны на широкие слои населения, а университетские лекции только на студентов, то вздорный характер последних легче скрыть от широкой публики. При любых обстоятельствах было бы несправедливым еще более приукрашивать этот совершенно спокойно распространяемый на лекциях вздор. Для меня лично еще куда ни шло. Ведь я поступил в университет лишь с тем, чтобы получить возможность пользоваться библиотекой. Ну, а если бы я вдруг загорелся серьезным желанием исследователя?! Каким путем я смог бы заняться изучением литературы? В конце концов я оказался бы в крайне затруднительном положении. В таких условиях можно, конечно, создать солидную работу, если, например, подобно Итикава Санки, исследовать английскую литературу с точки зрения филологии. Но в таком случае драмы Шекспира и поэмы Мильтона превратятся лишь в набор английских слов. Заниматься подобными исследованиями
1 Наука (нем.)..
179
у меня нет никакого желания, да если бы оно и появилось, я не смог бы создать что-либо стоящее. Можно, конечно, удовлетвориться и вздором, но зачем для этого утруждать себя поступлением в университет? Если же у кого-либо появилось желание изучать литературу в эстетическом либо историческом плане, то в тысячу раз было бы полезней поступить не на литературный, а на другие факультеты. Исходя из этой точки зрения, смысл существования чисто литературного факультета оправдывается всего лишь мотивами практического удобства. Но сколь бы это ни было удобно, вред, приносимый его существованием, перевешивает. Поэтому лучше бы такого факультета не существовало вообще. А раз так, то было бы более справедливым его ликвидировать. Что? Вы говорите, что он необходим для подготовки преподавателей средних школ? Послушайте, ведь я не шучу, а говорю более чем серьезно. Для подготовки преподавателей средних школ существует специальный педагогический институт. Вы требуете, чтобы в таком случае этот институт ликвидировали? Но ведь говорить так — это все равно что ставить вопрос с ног на голову. Уж если следовать такой логике, то в первую очередь следует ликвидировать в университете чисто литературный факультет и как можно быстрее слить его с педагогическим институтом».
Все эти мысли я заставил выслушать Нарусэ во время прогулки по улице Канда, известной множеством букинистических лавок.
4
Однажды вечером в конце ноября мы с Нарусэ отправились в императорский театр на концерт. В театре встретились с Кумэ, который, так же как и мы, был одет в студенческую форму. В то время среди нас троих я считался наиболее сведущим в музыке. Можно представить себе, насколько все мы были далеки от музыки, если даже я считался ее знатоком. Надо сказать, что на концерты я ходил без разбора. К тому же у меня было очень странное понимание музыки, да и воспринимал я ее на особый лад. Лучше всего я понимал Листа. Однажды в отеле Тэйкоку я слушал в исполнении в то время уже очень пожилой госпожи Петцольд «Святого Антония, шествующего по волнам» (кажется, так называлось это произведение Листа. Прошу прощения, если я ошибся). Ни на миг не замирая, лились звуки фортепиано, и перед моими глазами вставала удивительно яркая картина. Во все стороны этой картины бесконечно двигались волны. По верхушкам волн двигались ноги человека. Причем каждый их шаг вызывал мелкую рябь. Наконец, над волнами и ногами возникло ослепительное сияние, ко-
180
торое начало двигаться по небу, словно гонимое ветром солнце. Затаив дыхание, я смотрел на это яркое видение, и, когда окончилась музыка и раздались аплодисменты, я с грустью ощутил одиночество и пустоту окружающего меня мира, из которого исчезли волнующие звуки музыки.
Но такое со мной случалось лишь тогда, когда я слушал Листа. Что же касается Бетховена и других композиторов, то понимание их произведений ограничивалось для меня тем, что одни мне нравились, а другие нет. Поэтому концерты симфонической музыки я слушал отнюдь не как музыкант. Я только недоверчиво прислушивался к вихрю звуков, которые доносились до меня из леса инструментов.
В вечер, о котором идет речь, на концерте присутствовал его высочество принц Канъйн-но-мия, и поэтому ложи и первые ряды партера были заполнены нарядными мамашами и девицами. Рядом со мной чинно восседала старуха. Лицо — кожа да кости, на нем — толстый слой пудры, на пальцах — золотые кольца, на груди — золотая цепочка от часов, на широком поясе оби — золотая пряжка. И ко всему прочему ее рот был полон золотых зубов (я заметил это, когда она зевала). На этот раз (в отличие от последнего посещения театра Кабуки) меня в большей степени интересовали Шопен и Шуберт, чем пришедшие на концерт щеголи и щеголихи. Поэтому я перестал обращать внимание на эту старуху, погребенную под горами пудры и золота. Видно, она считала себя очень значительной персоной. На ее лице было написано такое безразличие к музыке, такое разочарование... Она беспрестанно крутила головой, не удостаивая взглядом лишь Ямада Косаку, взмахивавшего на сцене дирижерской палочкой.
Кажется, после соло супруги Ямада наступил перерыв, и мы втроем поднялись на второй этаж в курительную комнату. У входа в нее стоял низенький человек, у которого из-под черного сюртука выглядывал красный жилет. Вместе со своим спутником, одетым в хакама и хаори, он курил сигареты с золотым мундштуком. Увидав его, Кумэ наклонился к нам и шепнул: «Это Танидзаки Дзюнъ-итиро». Я и Нарусэ, проходя мимо, исподтишка внимательно разглядывали этого известного писателя-эстета. Характерная особенность его лица состояла в том, что глаза мыслителя и губы животного все время как бы соревновались между собой, пытаясь утвердить свою волю. Мы сели в удобные кресла, открыли коробку «Сикисима» — одну на всех — и, покуривая, стали обсуждать творчество Танидзаки. В то время Танидзаки на издавна возделываемой им, подернутой таинственной вуалью ниве эстетизма выращивал такие зловещие «цветы зла», как «Убийство Оцуя», «Вундеркинд», «Осай и Миноскэ» и другие. Эти великолепные, словно
181
сверкающая цветами радуги шпанская мушка, цветы зла, хотя и испускали тот же величественный аромат разложения, что и произведения По и Бодлера, к которым тяготел Танидзаки, но по своему направлению коренным образом отличались от них. За болезненным эстетизмом По и Бодлера стояла до ужаса холодная, безразличная душа. И эта окаменевшая душа, хотели они того или нет, вынуждала их отбросить мораль, покинуть бога, отказаться от любви. Однако, погружаясь в старое болото декаданса, они в то ж© время не хотели согласиться с таким концом. И это нежелание должно было в них враждовать с ощущением, выраженным в строфе «Une Vieille gabade sans mots sur tme mer monstrueuse et sans bord»1
Поэтому их эстетизм порождал вереницу ночных бабочек, которые неизбежно поднимались и взлетали со дна их истерзанных этим ощущением душ. Поэтому в произведениях По и Бодлера безысходная скорбь («Ahl Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cosur et mon corps sans degout»2) всегда перемешивалась с ядовитыми испарениями гнилого болота. Нас глубоко потряс их эстетизм именно благодаря тому, что мы увидели, например, в «Дон-Жуане в аду», страдания холодной души. Эстетизм же Танидзаки вместо атмосферы неподвижного удушья был слишком уж переполнен эпикурейством. Танидзаки вел свой корабль по морю, где там и сям вспыхивали и гасли светляки преступления и зла, с таким упорством и воодушевлением, словно искал Эльдорадо. Этим Танидзаки напоминал нам Готье, на которого он сам смотрел свысока. Болезненные тенденции в творчестве Готье несли на себе тот же самый отпечаток конца столетия, что и у Бодлера, но, в отличие от последнего, они были, так сказать, полны жизненных сил. Это были, выражаясь высокопарно, болезненные тенденции пресыщенного султана, страдающего от тяжести висящих на нем бриллиантов. Поэтому в произведениях Готье и Танидзаки не хватало той напряженности, которая была характерна для По и Бодлера. Однако, взамен этого, в описаниях чувственной красоты они проявляли поистине потрясающее красноречие, напоминавшее реку, несущую вдаль бесконечные волны. (Думаю, когда недавно Хироцу Кадзуо, критикуя Танидзаки, высказал свое сожаление по поводу чересчур здорового характера его творчества, он, очевидно, имел в виду эту самую полную жизненных сил болезненную тенденцию. Но сколь бы творчество Танидзаки ни было переполнено жизненными силами, для него остает-1 «И носился мой дух, обветшалое судно, среди неба и волн, без руля, без ветрил» (Бодлер, перевод В. Левина).
2 «О боже! Дай мне сил глядеть без омерзенья на сердца моего и плоти наготу» (Бодлер, перевод И. Лихачева).
182
ся несомненным присутствие болезненной тенденции, подобно тому как она сохраняется на всю жизнь у страдающего ожирением больного.) И мы, ненавидевшие такой эстетизм, не могли не признавать недюжинный талант Танидзаки именно благодаря его блестящему красноречию. Танидзаки умел выискивать и шлифовать различные японские и китайские слова, превращать их в блестки чувственной красоты (или уродства) и словно перламутром инкрустировать ими свои произведения (начиная с «Татуировки»), Его рассказы, словно «Эмали и Камеи», от начала до конца пронизаны ясным ритмом. И даже теперь, когда мне случается читать произведения Танидзаки, я часто не обращаю внимания на смысл каждого слова или отрывка, а ощущаю наполовину физиологическое наслаждение от плавного, неиссякаемого ритма его фраз. В этом отношении Танидзаки был и остается непревзойденным мастером. Пусть он не зажег «звезду страха» на мрачных литературных небесах. Но среди взращенных им радужных цветов в Японии нежданно начался шабаш ведьм...
Прозвенел звонок. Мы прервали разговор о Танидзаки, спустились в зал и заняли свои места. По дороге Кумэ спросил у меня:
— А ты вообще-то понимаешь музыку? На что я ему ответил:
— Уж побольше, чем сидящая рядом кожа да кости, золото и пудра.
Я снова занял свое место рядом с этой старухой. Пианист Шольц исполнял, если не ошибаюсь, ноктюрн Шопена. Симоне писал, что однажды в детстве он слушал похоронный марш Шопена и все понял. Глядя на быстрые пальцы Шольца, я думал, что в этом смысле мне далеко до Симонса, даже если не принимать во внимание разницы лет. Не помню сейчас, что исполнялось дальше на этом концерте. Когда он окончился и мы вышли на улицу, стоянка перед театром была настолько забита каретами и автомобилями, что трудно было даже пройти. И тут мы увидели, как к одному из автомобилей подошла, пряча в меха лицо, та самая в пудре и золоте старуха, которая сидела рядом с нами на концерте. Мы подняли воротники пальто и, пробравшись наконец между машинами, вышли на -улицу, где гулял пронизывающий ветер. И в этот момент перед нами внезапно выросло уродливое здание полицейского управления, которое высилось в небе черной громадой. Я почувствовал какое-то беспокойство из-за того, что там находилось полицейское управление.
— Странно, — невольно сказал я.
— Что странно? — стал допытываться Нарусэ.
183
Я сказал ему первое, что мне пришло в голову, не желая углубляться в обсуждение охватившего меня настроения. Тем временем мимо нас стали одна за другой проноситься автомашины и кареты.
5
На следующий день после лекции, которую читал профессор Оцука (эта лекция на тему о философии Риккерта была наиболее поучительной из всех, которые мне довелось слушать), мы с Нарусэ, подгоняемые пронизывающим ветром, отправились в харчевню Иппакуся, чтобы съесть свой обед за двадцать сэнов.
— Ты не знаком с женщиной, которая на концерте сидела позади нас? — неожиданно спросил меня Нарусэ.
— Нет. Единственная, с кем я знаком, это сидевшая рядом золото, кожа да кости и пудра.
— Золото, кожа... О чем это ты?
— Не имеет значения. Во всяком случае, ясно, что это не женщина, которая сидела сзади. А ты что, влюбился?
— Какое там влюбился! Я даже не знал...
— Что за чепуху ты говоришь! Если ты ее не знал, то какая разница, сидела она позади нас на концерте или нет?
— Дело в том, что, когда я вернулся домой, мама спросила, видел ли я женщину, которая сидела позади меня. Оказывается, ее прочат мне в жены.
— Значит, тебе устроили смотрины?
— До смотрин еще не дошло.
— Но раз ты захотел ее увидеть, это и есть смотрины. Не так ли? Твоя мамаша тоже хороша. Уж раз она хотела показать тебе эту девушку, надо было ее посадить впереди нас. Поверь, если бы мы имели глаза на затылке, мы бы не пробавлялись, как теперь, обедом за двадцать сэнов.
Услышав от меня такую тираду, воспитанный в почтении к родителям Нарусэ удивленно взглянул на меня, затем заговорил снова:
Если предположить, что эти смотрины устраивались в первую очередь для нее, то получается, что нас правильно посадили впереди.
— В самом деле, если в таком месте хотят устроить смотрины, кому-либо одному ничего не остается, как подняться на сцену... Ну, а что ты ответил матери?
— Сказал, что не видел. Я ведь на самом деле не видел ее.
— Ну и что же. Теперь ты собираешься излить мне свои горести. Не выйдет... Эх, жаль. Сглупили мы. Не надо было устраивать эти смотрины на концерте. Другое дело, если бы шла какая-
184
нибудь пьеса. Во время пьесы меня и просить не надо. Я глазею на всех, кто пришел в театр. Ни одного не пропускаю.
Тут мы с Нарусэ не выдержали и расхохотались.
В этот день после обеда были занятия немецким языком. Мы посещали их, так сказать, по ямбической системе: когда Нарусэ шел на лекцию, я отдыхал, когда я присутствовал на занятиях, отдыхал Нарусэ. Мы по очереди пользовались одним учебником, проставляя каной транскрипцию немецких слов, и по нему потом вместе готовились к экзаменам. На этот раз была очередь Нарусэ, и я, вручив ему после обеда учебник, вышел из харчевни на улицу.
Пронизывающий ветер поднимал в небо тучи пыли. Он подхватывал на аллее желтые листья гинко и загонял их даже в букинистическую лавку, что напротив университета. Внезапно мне пришла в голову мысль навестить Мацу ока. В отличие от меня (да и, должно быть, от большинства людей), Мацуока считал, что в ветреные дни на него находит душевное успокоение. Вот я и подумал, что в такую погоду, как сегодня, он обязательно находится в приятном расположении духа, и, придерживая то и дело норовившую слететь с головы шапку, отправился на Хонго, 5. У входа меня встретила старушка, которая сдавала Мацуока комнату.
— Господин Мацуока изволит еще отдыхать, — сказала она с выражением сожаления на лице.
— Неужели еще спит? Ну и соня!
— Нет, он изволил работать всю ночь и совсем недавно еще был на ногах. Он сказал мне, что ложится спать, и теперь, наверно, изволит отдыхать.
— А может быть, он еще не уснул. Пойду-ка я взгляну. Если спит, сразу же спущусь обратно.
Ступая на носки, я поднялся на второй этаж, где находилась комната Мацуока. Раздвинув фусума, я вошел в полутемную из-за закрытых ставен комнату, середину которой занимала постель Мацуока. У изголовья стоял своеобразный столик из папье-маше, на котором в беспорядке громоздились страницы рукописи. Под столом на разостланной старой газете лежала довольно большая горка шелухи от земляных орехов. Я сразу вспомнил, как Мацуока однажды сказал, что работает над трехактной пьесой. «Пишет», — подумал я. При обычных обстоятельствах я бы сел за стол и попросил Мацуока прочитать только что вышедшую из-под пера рукопись. К сожалению, Мацуока, который должен был откликнуться на мою просьбу, спал как убитый, прижавшись к подушке давно не бритой щекой. У меня, конечно, и в мыслях не было разбудить отдыхавшего после ночных трудов Мацуока. Но в то же время мне почему-то не хотелось просто так встать и уйти. Я присел у его
185
изголовья и стал наудачу читать отдельные страницы рукописи. В этот момент резкий порыв ветра потряс весь второй этаж. Но Мацуока по-прежнему спал, тихо посапывая. Я понял, что делать мне здесь больше нечего, нехотя поднялся и стал потихоньку отходить от изголовья. В это время я случайно взглянул на Мацуока и увидел у него между ресницами слезы. Мало того. На его щеках были тоже видны следы слез. Он спал и плакал во сне. В тот самый момент, когда я обратил внимание на столь необычное его лицо, бодрое настроение, которое охватило меня вначале (мол, человек пишет, работает), куда-то улетучилось. В душе внезапно поднялось чувство невыносимой безысходности, словно я тоже всю ночь напролет страдал, одну за другой исписывая страницы рукописи. «Глупый человек! Занимается таким тяжелым трудом, от которого плачет даже во сне. А если здоровье потеряешь? Что ж ты будешь делать тогда?» — такими словами хотел я обругать Мацуока. Но за этим желанием скрывалось и другое — похвалить: «Вот ведь как он страдает!» Когда я так подумал, у меня самого незаметно выступили на глазах слезы.
Я потихоньку спустился по лестнице вниз. Старуха с беспокойством спросила:
— Он изволит почивать?
— Спит, как сурок, — резко ответил я и, не желая, чтобы старуха заметила мое заплаканное лицо, быстро вышел на улицу.
На улице по-прежнему ветер поднимал тучи пыли. В небе что-то ужасно ревело. Я раздраженно взглянул вверх. Высоко в вебе плыл в зените маленький белый диск солнца. Я остановился посреди улицы и стал думать, куда бы теперь пойти.
Декабрь 1918 г.
Некоторое время тому назад в музее Уэно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. Однажды, когда пасмурный день уже клонился к вечеру, я пришел на выставку и стал обходить зал за залом, внимательно рассматривая выставленные экспонаты. Войдя в последний зал, я обратил внимание на человека, разглядывавшего несколько тронутых временем эстампов. Это был пожилой господин, стройный и даже несколько франтоватый, в безукоризненном черном костюме и дорогом котелке. С первого взгляда я узнал в нем виконта Хонда, с которым меня познакомили на одном рауте несколько дней тому назад. Мне и раньше было известно о нелюдимом характере виконта, поэтому я сразу же
186
отошел в сторону, раздумывая, приветствовать его или нет. Тем временем виконт Хонда, очевидно, услышал звук шагов и медленно повернулся в мою сторону. В следующий момент на его губах, наполовину прикрытых седеющими усами, мелькнула тень улыбки. Он слегка приподнял котелок и мягким голосом приветствовал меня. Я сразу почувствовал себя несколько свободнее, вежливо поклонился и не спеша направился к нему.
Виконт Хонда принадлежал к той породе людей, у которых старческая красота озаряет лицо, словно отблеск вечерней зари. В то же время глубокие душевные страдания оставили на нем необычный для представителя аристократии отпечаток задумчивости. Помню, что во время первого знакомства, так же как и сегодня, я обратил внимание на булавку с большой жемчужиной, которая меланхолически блестела на однотонном черном фоне его костюма. Я смотрел на нее, и мне казалось, что я заглядываю в самое сердце виконта...
— Как вы находите эти эстампы? Здесь, кажется, изображен сеттльмент Цукидзи. Гравюра выполнена мастерски, не правда ли? Интересно использовано сочетание света и тени.
Виконт говорил тихим голосом, одновременно указывая серебряным набалдашником, украшавшим его тонкую трость, на один из эстампов, висевших за стеклом стенда. Я утвердительно кивнул.
— Токийский залив со слюдяными волнами, пароходы, украшенные флагами разных стран, европейские мужчины и женщины, прогуливающиеся по улице, одинокая сосна в стиле Хиросигэ, простирающая ветви над европейским домом, — чувствуется смешение японского и европейского как в выборе темы, так и в методе исполнения — то самое смешение, которое создавало чудесную гармонию, присущую искусству раннего Мэйдзи. С тех пор эта гармония была навсегда утрачена нашим искусством. Она исчезла и в нашем родном Токио.
Выслушав виконта, я снова кивнул в знак согласия и сказал, что гравюра, изображающая сеттльмент Цукидзи, интересна не только сама по себе. Она напоминает о невозвратно ушедшей в прошлое эпохе просветительства с ее двухместными колясками рикш, украшенными стилизованными изображениями львов, с ее дагерротипами, с которых взирают на нас нарядные гейши... Виконт с улыбкой выслушал меня и не спеша направился к витрине напротив, где висели гравюры укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси.
— Взгляните на этого Ёситоси, — сказал он. — Одетый в европейский костюм Кикугоро и Хансиро в парике стиля итёгаэси разыгрывают под театральной луной трагедию. Смотришь на это,
187
и перед глазами встает та далекая эпоха, когда древняя столица Эдо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась в Токио, когда, если можно так выразиться, день и ночь еще не были отделены друг от друга.
Мне приходилось слышать, что Хонда лишь недавно стал таким нелюдимым, а в былые времена, когда виконт только возвратился из путешествия в Европу, он слыл человеком светским и пользовался известностью не только в официальных кругах, но и среди обыкновенной публики. И здесь, в безлюдном выставочном зале, среди старинных гравюр слова Хонда прозвучали как бесспорная истина. Однако именно эта бесспорность вызвала во мне какой-то внутренний протест, и я, выслушав его, попытался перевести разговор на тему о развитии жанра укиёэ вообще. Но виконт, указывая на гравюры Ёситоси, продолжал тихим, проникновенным голосом:
— Представьте, когда такие люди, как я, смотрят на эти гравюры, им начинает казаться, будто события тридцати-, сорокалетней давности произошли только вчера и стоит открыть свежий номер газеты, как сразу наткнешься на что-нибудь вроде заметки о бале-маскараде в клубе Рокумэйкан. Сказать по правде, с тех пор как я сюда вошел, я никак не могу отделаться от странного ощущения, будто люди тех времен ожили и, невидимые для наших глаз, бродят по этому залу. И будто иногда эти призраки останавливаются рядом и начинают нашептывать мне на ухо истории прошлых лет. Взгляните на тот портрет Кикугоро в европейском костюме. Он удивительно похож на одного моего друга. Когда я стоял перед ним, меня настолько захватило ощущение его присутствия, что мне захотелось с ним поздороваться и выразить сожаление, что мы так давно не встречались. Если вы не против, я мог бы рассказать вам о нем.
В голосе Хонда слышалось беспокойство, и он отвел глаза в сторону, словно не был уверен, что я соглашусь его выслушать. Я вспомнил, что несколько дней тому назад, когда я впервые познакомился с Хонда, мой друг, взявший на себя труд представить меня, сказал виконту: «Он писатель, и если вы вспомните что-нибудь интересное, обязательно расскажите ему». Но я и без того готов был хоть сейчас нанять карету и вместе с Хонда отправиться на окутанную туманом прошлого нарядную улицу «кирпичных домов». Настолько увлекли меня воспоминания виконта о давно минувших днях. Поэтому я с радостью согласился выслушать его рассказ.
— Пройдемте туда, — предложил Хонда.
Мы прошли к стоявшей в центре зала скамье. В зале никого не было. Нас окружали лишь стенды, за стеклом которых оди-
188
ноко висели освещенные холодным светом пасмурного дня тронутые временем эстампы и гравюры укиёэ. Опустив подбородок на серебряный набалдашник трости, виконт Хонда некоторое время внимательно оглядывал зал, словно сверялся с собственной памятью, затем обратил взгляд в мою сторону и тихим голосом начал:
— Моего друга звали Миура Наоки. Я случайно сблизился с ним на пароходе, возвращаясь на родину из Франции. Ему было двадцать пять лет. Столько же, сколько и мне тогда. Такое же, как на изображенном Еситоси портрете Кикугоро, узкое белое лицо, обрамленное длинными, расчесанными на прямой пробор волосами. На всем его облике лежал отпечаток цивилизации, характерный для раннего Мэйдзи. Во время долгого путешествия у нас незаметно возникла взаимная симпатия, которая переросла в столь близкую дружбу, что по возвращении в Японию мы стали встречаться чуть ли не каждую неделю. По словам Миура, его родители были крупными помещиками из Ситая и один за другим отошли в мир иной, когда он уехал во Францию. Миура был единственным сыном и после смерти родителей стал обладателем солидного состояния. В ту пору, когда я познакомился с Миура, он жил в полном достатке, что давало ему возможность беззаботно развлекаться и лишь для проформы ходить на службу в один из банков. Вскоре по возвращении на родину Миура заново обставил в западном стиле кабинет в бывшем особняке родителей близ Рёгоку и зажил жизнью вполне обеспеченного человека.
Я рассказываю вам об этом, а перед моими глазами возникает обстановка кабинета Миура столь же четко, как рисунок, изображенный на том эстампе. Выходящие на реку Сумида французские окна, белый потолок с золотым бордюром, кресла и диван, обтянутые красной марокканской кожей, портрет Наполеона Первого на стене, резной книжный шкаф черного дерева, мраморный камин с зеркалом, карликовая сосна на камине, которую так любил покойный отец Миура, — такова была характерная для той эпохи обстановка кабинета, вызывавшая странное ощущение какой-то старой новизны, угрюмой крикливости, обстановка, чем-то напоминавшая, если позволительно использовать еще одно сравнение, звучание расстроенного инструмента. Окруженный этими вещами, Миура обычно надевал дорогое шелковое кимоно, усаживался под портретом Наполеона Первого и читал что-нибудь вроде «Les Orientales»1 Гюго. Эта обстановка вполне могла послужить сюжетом для любого из выставленных здесь эстампов. Помнится, я со странным чувством наблюдал, как плыли по реке лодки, то и дело
1 «Восточные мотивы» (франц.).
189
закрывая от света большими белыми парусами французские окна его кабинета.
Хотя Миура жил в роскоши, он не посещал, подобно другим молодым людям его возраста, увеселительные заведения в Синбаси или Янагибаси, Каждый день он уединялся в своем заново обставленном кабинете и с увлечением читал. Короче говоря, он вел жизнь не столько банкира, сколько удалившегося от дел молодого отшельника. Виной тому, разумеется, было и хрупкое телосложение, не позволявшее Миура совершать поступки, которые могли повредить его здоровью. Но была и другая причина. По своей натуре Миура, в противоположность тогдашним материалистическим веяниям, был чистейшим идеалистом. И поэтому предпочитал одиночество. Он являл собой образец джентльмена эпохи проникновения в Японию западной цивилизации, хотя своей идеалистически настроенной натурой скорее напоминал политических мечтателей, живших в еще более раннюю эпоху.
Доказательством тому может служить разговор, который произошел однажды между нами, когда мы смотрели пьесу о мятеже Симпурэн. Помню, после сцены, в которой Оно Тэппэй кончает жизнь самоубийством, Миура внезапно обернулся ко мне и с серьезным видом спросил:
— Ты мог бы им посочувствовать?
Поскольку в то время я только что вернулся из поездки в Европу и просто не переваривал все, что пахло стариной, я очень холодно ответил: «Нет, я нисколько им не сочувствую. Думаю, что для тех, кто поднимает бунт из-за указа о запрещении носить мечи, подобная смерть является вполне заслуженной». Миура отрицательно покачал головой.
— Возможно, их требования были ошибочными. Но думаю, что их стремление пожертвовать собой ради исполнения своих требований, заслуживает более чем сочувствия.
— В таком случае ты, подобно этим бунтовщикам, без сомнения, готов расстаться с единственной и неповторимой жизнью ради детской мечты вернуть нашу современную жизнь в эпоху Мэйдзи, и даже в древнюю эру богов, — возразил я со смехом.
На что он все так же серьезно, словно на что-то решившись, ответил:
— Для меня достаточно, если человек готов отдать жизнь ради того, во что верит. Пусть это будут даже детские мечты.
Тогда мне показалось, что все это просто красивые слова, и я не придал им особого значения. Теперь же, сопоставив все известное мне, я понял, что на эти слова наложила смутный, едва уловимый отпечаток постигшая его в последующие годы печальная судьба. Вы убедитесь в этом, выслушав всю историю до конца,
190
Миура во всем придерживался своих принципов. Поэтому, когда вопрос заходил о женитьбе, он без сожаления отвергал многочисленные блестящие партии, заявляя:
— Я женюсь только по любви.
К тому же его понимание любви отличалось от обычного, и если даже девушка очень ему нравилась, Миура всячески старался не доводить дело до женитьбы, говоря:
— В моих чувствах еще много несовершенного. Смотреть со стороны на это становилось невыносимо, ж я иногда вмешивался, предлагая свои услуги.
— Если по любому поводу столь досконально анализировать свои чувства, как делаешь это ты, то жизнь превратится в кошмар. Поэтому надо смириться с тем, что мир развивается не в соответствии с твоими идеалами, и довольствоваться более или менее приемлемой кандидатурой.
Однако Миура никак не поддавался на уговоры и, с жалостью глядя на меня, отвечал:
— Если бы я мог удовлетвориться тем, что ты предлагаешь, я давным-давно покончил бы с холостяцкой жизнью.
И если я, друг Миура, молча выслушивал его сентенции, то родственники, помня о его слабом здоровье и опасаясь, как бы не прекратился род Миура, предлагали ему обзавестись, на худой конец, наложницей. Однако не такой был Миура человек, чтобы внимать подобным советам. Мало того, ему крайне претило само слово «наложница». Обычно он, горько улыбаясь, говорил мне:
— Мы как будто считаемся сейчас просвещенной страной, а наложницы у нас, в Японии, по-прежнему существуют совершенно открыто.
Вот почему, возвратившись в Японию, Миура в течение двух или трех лет упорно занимался чтением, сидя у себя в кабинете наедине с портретом Наполеона Первого, и мы — его друзья — вовсе потеряли надежду на то, что он когда-нибудь женится по любви.
Однажды по делам своего ведомства я предпринял поездку в Корею в город Кэйдзё. И представьте себе, не прошло и месяца, как вдруг я получаю от Миура письмо, в котором он извещает меня о помолвке. Вообразите, как я был удивлен. Вместе с тем это известие не могло не вызвать у меня улыбку: наконец-то и у него появилась подруга жизни. Письмо было исключительно кратким. Он лишь сообщал, что помолвлен с Фудзии Кацуми — дочерью правительственного поставщика. Из последующих писем я узнал некоторые подробности. Однажды Миура забрел в храм Хагидэра на острове Янагисима и случайно встретился там с владельцем антикварной лавки, частым гостем в его особняке. Вместе с госпо-
191
дином Фудзии и его дочерью он пришел в храм помолиться. И вот во время прогулки по окружавшему храм парку Миура и Кацуми влюбились друг в друга. Что и говорить, храм Хагидэра с его крытой соломой крышей и воротами со статуями бога Нио, с его обелиском среди кустов хаги, на котором выбита известная строфа Басе, отличался утонченной красотой и, несомненно, представлял собой идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой». Однако для такого стопроцентного джентльмена эпохи Просвещения, как Миура, который выходил на улицу не иначе как в костюме парижского покроя, любовь с первого взгляда возникла по чересчур стереотипной схеме, и если первое его сообщение о браке вызвало у меня улыбку, то теперь я просто не мог удержаться от смеха. Не требовалось также большой догадливости, чтобы понять ту роль, которую сыграл в сватовстве владелец антикварной лавки. Все устроилось как нельзя лучше. Без задержки были посланы официальные сваты, и той же осенью сыграли свадьбу. Все говорило о том, что между новобрачными сложились безупречные отношения. Должен, правда, заметить, что одно обстоятельство вызывало у меня удивление и в то же время зависть: даже по письмам, в которых Миура сообщал мне о подробностях своей супружеской жизни, можно было понять, что этот рассудительный и холодный, ученого склада, человек совершенно преобразился, стал веселым и общительным.
До сих пор у меня хранятся все его письма, и когда я перечитываю их теперь, перед глазами у меня неизменно появляется! его веселое, смеющееся лицо. С детской непосредственностью рассказывал Миура о подробностях своей повседневной жизни: о том, что в этом году никак не растет посаженный им вьюнок, что он пожертвовал деньги детскому дому в Уэно, что из-за большой влажности его книги отсырели и покрылись плесенью, что нанятый им рикша заболел столбняком, что он смотрел фокусы какого-то европейского факира в театре Миякодза, что в Курамаэ был пожар, — можно было бы без конца перечислять все новости, о которых он мне сообщал. Но с особой радостью Миура сообщил мне вот о чем: он заказал художнику Годзэта Хобаю портрет жены. Наполеон Первый со стены был снят, и его место занял портрет жены. Там я его потом и увидел. Госпожа Кацуми была изображена в профиль, стоящей перед трюмо. Волосы причесаны на западный манер, черное платье вышито шерстью и золотом, в руках букет роз. Портрет этот я имел счастье лицезреть, но вот Миура я с тех пор никогда больше не видал живым и веселым.
Виконт Хонда вздохнул и некоторое время молчал. Захваченный его рассказом, я слушал не шелохнувшись и, когда он остановился, с испугом взглянул на него, не будучи в силах сдержать
192
беспокойство. Я почему-то решил, что Миура уже не было в живых, когда виконт возвратился из Кэйдзё. Но виконт, видимо, догадался о причине моего беспокойства и, покачав головой, спокойно продолжал:
— Нет, Миура в мое отсутствие не скончался. Но когда спустя год я вернулся на родину, он снова был холодно-спокоен и, кажется, чем-то опечален. Я это почувствовал, когда мы, после долгого перерыва, снова пожали друг другу руки на станции Син-баси, куда Миура пришел меня встретить. Вернее, я не столько почувствовал это, сколько был встревожен его холодным равнодушием. Взглянув на его лицо, я ощутил такое беспокойство, что воскликнул:
— Что с тобой? Ты не болен?
Он подозрительно посмотрел на меня и ответил, что не только он, но и его супруга находится в полном здравии: «Да, — подумал я, — так и должно быть. Характер у него все тот же. Он и не мог резко измениться за год «супружества по любви». Я решил не говорить больше на эту тему и лишь со смехом заметил:
— Пожалуй, освещение виновато. Мне показалось, что у тебя нездоровый цвет лица.
Чтобы понять те муки, которые он скрывал за маской равнодушия, и почувствовать, сколь неуместен был мой смех, потребовалось еще несколько месяцев. Однако буду последователен в своем повествовании и скажу несколько слов о том, что из себя представляла его жена.
Впервые я встретился с ней вскоре по возвращении из Кэйдзё в особняке на Окавабата, куда Миура пригласил меня пообедать. Она была примерно одних лет с Миура, но, может быть, благодаря маленькому росту казалась на два-три года моложе. На круглом лице со свежей кожей выделялись густые брови. В тот вечер она была в перехваченном чудесным шелковым поясом кимоно из старинной материи с узором из мотыльков и птиц. Употребляя модное в те годы выражение, она, можно сказать, производила впечатление дамы «высокого класса». Ее внешность в чем-то противоречила тому облику спутницы жизни Миура, который я рисовал в своем воображении. Но только «в чем-то», а в чем — мне и самому было неясно. Некоторое подобие разочарования я не раз испытывал и потом. Но тогда эта мысль мелькнула у меня и исчезла. В общем, решил я, нет никаких оснований не радоваться женитьбе Миура.
Наоборот, пока мы сидели за столом, освещенным керосино-калильной лампой, я был просто покорен живой и одаренной натурой супруги Миура. Ее тонкость в обращении, уменье понимать с полуслова можно было, пожалуй, определить несколько вульгар-
7 Акутагава Рюноскэ
193
ным выражением: тронешь — и зазвучит. В конце концов я не выдержал и совершенно серьезно сказал:
— Госпожа, такой женщине, как вы, надо было родиться не в Японии, а хотя бы во Франции.
— Вот, вот! Я все время твержу то же самое, — перебил Миура, поддразнивая жену. Возможно, мне только показалось, что в этих его словах в какой-то момент прозвучали неприятные нотки. Одной ли только подозрительности можно было приписать то, что мне почудилось, будто выражение глав госпожи Кацуми, метнувшей полный ненависти взгляд в сторону Миура, слишком уж не вязался со всем ее откровенно кокетливым обликом. Во всяком случае, эта коротенькая сцена словно молнией осветила для меня всю их жизнь. Теперь, размышляя над этим, я прихожу к выводу, что присутствовал при начале трагедии всей жизни Миура. Тогда же беспокойство у меня скользнуло как тень, и только. Затем как ни в чем не бывало мы продолжали беседовать с Миура, время от времени наполняя чашечки сакэ. Мы весело провели остаток вечера, и когда я, покинув их особняк, ехал на рикше, подставляя захмелевшую голову ветру, дувшему с реки, я не раз мысленно поздравлял Миура с удачной «женитьбой по любви».
С тех пор прошел месяц, в течение которого я не раз посещал супругов Миура и принимал их у себя. Однажды мой друг доктор пригласил меня в театр Синтомидза на пьесу «Одэн-но Кавабуми». Разглядывая зрителей в ложах на противоположной стороне, я заметил среди них супругу Миура. В те годы я всегда брал с собой бинокль. И вот впервые в его окулярах я увидал госпожу Кацуми за барьером ложи, покрытым огненно-красной материей. В ее волосах красовалась, кажется, роза, белый подбородок покоился на накладном воротнике платья из материи спокойной расцветки. Словно почувствовав, что ее разглядывают, госпожа Кацуми одарила меня своим кокетливым взглядом и едва заметно мне подмигнула. Я опустил бинокль и, в свою очередь, приветствовал ее. Но тут вдруг заметил, что она опять взволнованно отвечает на приветствие. Причем куда почтительнее, чем в первый раз. Наконец-то я понял, что ее кокетливый взгляд и подмигивание предназначались не мне, а кому-то другому. Я стал обводить взглядом ложи, надеясь отыскать этого другого. И обратил внимание на молодого человека в модном полосатом костюме, который, кажется, тоже искал того, кому предназначалось одно из приветствий. Посасывая дорогую сигару, он пристально смотрел в мою сторону. На миг наши взгляды скрестились. В его смуглом лице было что-то отталкивающее, и я быстро отвел глаза, поднял бинокль и снова направил его в сторону ложи госпожи Кацуми. Рядом с ней я увидел известную сторонницу эмансипации женщин Нараяма, о которой
194
вы, возможно, слышали. Жена довольно популярного в те времена адвоката Нараяма, она активно выступала за равноправие женщин, однако пользовалась весьма сомнительной репутацией. Госпожа Нараяма сидела, расправив плечи, в черном кимоно с гербами, всем своим видом напоминая ассистента на сцене. И то, что она сидела рядом с супругой Миура, почему-то вызвало во мне недоброе предчувствие. Эта воительница за эмансипацию женщин все время поворачивала в нашу сторону — точнее, в сторону того самого полосатого пиджака — свое костлявое, слегка напудренное лицо и бросала ему многозначительные взгляды, с раздражением оттягивая воротник платья, словно он ей мешал. Без преувеличения скажу, что во время представления я смотрел не столько на сцену, где играли знаменитые Кикугоро и Садандзи, сколько следил за супругой Миура, полосатым пиджаком и госпожой Нараяма. Находясь в мире веселой музыки и свисающих со сцены веток цветущей вишни, я безгранично страдал от зловещих предположений, не имеющих ничего общего с тем, что происходило на сцене. И когда вскоре после интермедии обе женщины покинули ложу, я вздохнул с облегчением, но в то же время ощутил такую слабость, словно все силы окончательно меня покинули. Женщины ушли, но полосатый пиджак из соседней ложи оставался на месте, нещадно дымил своей сигарой и время от времени поглядывал в мою сторону. Когда два главных действующих лица из трех исчезли, я почему-то почувствовал к этому человеку со смуглым лицом еще большую неприязнь. Может быть, причиной тому была моя излишняя подозрительность. Но, так или иначе, с самого начала между нами возникла вражда. Поэтому я, как мне показалось, ощутил чувство, близкое к замешательству, словно столкнулся с неразрешимой загадкой, когда сам Миура в том самом своем кабинете, выходящем окнами на реку, познакомил меня с этим человеком. По словам Миура, он был кузеном его супруги. Несмотря на молодость, он занимал солидное положение в одной из текстильных компаний. Должен сказать, что даже за тот короткий промежуток, пока мы вели легкую светскую беседу за чаем, я сразу понял, что этот ни на минуту не выпускавший изо рта сигару человек наделен недюжинными способностями. Но его одаренность не уменьшила антипатии, которую я к нему испытывал. Все же я неоднократно взывал к чувству здравого смысла, стараясь убедить себя в том, что ничего странного в обмене приветствиями в театре между братом и сестрой нет и быть не может. Я даже попытался, насколько это было возможно, сблизиться с этим человеком. Но всякий раз, когда мне казалось, что мои старания вот-вот принесут плоды, он начинал со свистом прихлебывать чай, либо бесцеремонно стряхивал на стол пепел сигары, либо громко смеялся над сво-
7*
195
ими же шутками — короче, совершал очередную бестактность, и моя антипатия вспыхивала с новой силой. Поэтому, когда спустя полчаса он откланялся, объявив, что по делам службы ему надо присутствовать на банкете, я встал и, движимый безотчетным желанием очистить атмосферу от миазмов вульгарности и невоспитанности, широко распахнул французские окна, впустив в кабинет струю свежего речного воздуха.
— До чего же ты ненавидишь его! — с упреком сказал Миура, усевшись на обычное свое место под портретом госпожи Кацу-ми с букетом роз.
— Ничего не могу с собой поделать, — ответил я. — Уж очень он неприятен. Никак не свыкнусь с мыслью, что он кузен твоей супруги.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Слишком они не похожи друг на друга.
Миура некоторое время молча глядел на реку, осветившуюся на миг лучами заходящего солнца, и вдруг без всякой связи с предыдущим сказал:
— А не съездить ли нам как-нибудь половить рыбу?
Меня несказанно обрадовало, что тема разговора переменилась. Поэтому я сразу же с готовностью согласился.
— Прекрасно. В рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в дипломатии.
— Чем в дипломатии, говоришь? А я, н-да, пожалуй, в рыбной ловле я чувствую себя куда увереннее, чем в амурных делах.
— Считаешь, значит, что можешь выудить добычу более драгоценную, чем твоя супруга?
— А почему бы и нет. Вот только ты станешь мне еще больше завидовать.
В словах Миура мне послышалось нечто, больно кольнувшее мой слух. Но лицо его в вечернем сумраке по-прежнему хранило выражение равнодушия, и он продолжал упорно глядеть сквозь французские окна на освещенную лучами заходящего солнца реку.
— Итак, когда мы отправляемся на рыбную ловлю? — спросил я.
— В любое удобное для тебя время.
— В таком случае сообщу письмом, — заключил я, нехотя поднялся из обтянутого марокканской кожей кресла, молча пожал Миура руку и вышел из таинственного сумрака кабинета в еще более темный коридор. За дверью я едва не столкнулся с кем-то, явно подслушивавшим наш разговор. Фигура метнулась мне навстречу.
— Как, вы уже уходите? — услышал я кокетливый голос. Я опешил на мгновенье, но быстро оправился и, холодно глядя на
196
госпожу Кацуми, у которой и сегодня прическа была украшена розами, молча поклонился и поспешил к выходу, где меня ждал рикша. В голове у меня все смешалось, смешалось настолько, что я. перестал даже сознавать, что происходит. Помню только, что рикша уже проезжал мост Рёгоку, а я все продолжал шептать одно и то же имя: Далила.
Тогда-то мне и открылся секрет, который скрывал за своим сумрачным обликом Миура. Нужно ли объяснять, что этот секрет тотчас выжег в моей душе свое гнусное имя: прелюбодеяние. Но если совершенно явным было нарушение супружеской верности, почему такой идеалист, как Миура, решительно не потребовал развод. Или, может быть, не было доказательств, подтверждающих его подозрения в неверности жены? А если такие доказательства и были, Миура так любил госпожу Кацуми, что не решался расстаться с ней? Я настолько дал волю воображению, перебирая одну версию за другой, что начисто забыл о нашей договоренности поехать на рыбную ловлю. Так прошло примерно с полмесяца. Иногда я писал Миура, но заходить в особняк на Окавабата, столь часто посещаемый мною прежде, перестал. Вскоре произошло еще одно событие, свидетелем которого мне случайно довелось быть. Оно вынудило меня решиться на откровенный разговор с Миура. Тогда-то я и вспомнил о рыбной ловле и поспешил воспользоваться ею с тем, чтобы, оставшись с Миура один на один, откровенно поделиться своими опасениями.
Однажды, возвращаясь все с тем же своим другом доктором из театра Накамурадза, мы встретились с одним из старейших репортеров газеты «Акэбоно». Точно помню, он подписывал свои статьи псевдонимом «Коротышка». Начавшийся после захода солнца дождь лил не переставая, и мы решили зайти в харчевню Икуинэ близ Янагибаси, чтобы опрокинуть по стаканчику рисовой водки. Мы поднялись на второй этаж и, потягивая водку, прислушивались к доносившимся издалека звукам сямисэна, который воскрешал, казалось, былую жизнь древнего Эдо. Тем временем наш Коротышка вошел в раж и, словно фельетонист эпохи западного просветительства, стал забавлять нас веселыми шутками и занимательными историями. Не обошел он вниманием и скандальную историю госпожи Нараяма, которая прежде была наложницей иностранца, а затем перешла на содержание к Синъютэю Энгё. В то время она была в зените своего расцвета, о чем свидетельствовали целых шесть золотых колец, украшавших ее пальцы. Однажды Нараяма не смогла вовремя возвратить деньги, которые заняла для того, чтобы тут же пустить на ветер, и оказалась в безвыходном положении. Немало рассказал наш репортер и других пикантных подробностей из жизни госпожи Нараяма. Но мне осо-
197
бенно было неприятно узнать от него, что в последнее время госпожу Нараяма повсюду сопровождает некая молодая матрона. Причем, по его словам, ходили слухи, будто иногда они, в сопровождении мужчины, останавливались в гостинице близ Суйдзинского леса. Когда я услышал об этом, мое веселое настроение — а оно не могло быть иным, поскольку мы выпивали в хорошей компании, — мгновенно улетучилось. Надо было смеяться, а у меня словно комок застрял в горле, и перед глазами все время стояло задумчивое лицо Миура. К счастью, доктор, видно, почувствовал мое угнетенное состояние и умело перевел болтовню репортера на тему, не имеющую ничего общего с похождениями госпожи Нараяма. Это дало мне возможность прийти в себя и принять участие в беседе хотя бы в той мере, в какой это необходимо было, чтобы окончательно не испортить нашу приятную встречу. Но в этот вечер моим испытаниям, видно, еще не суждено было кончиться. Когда я с начисто испорченным настроением вышел из харчевни Икуинэ и подозвал рикшу, ко входу лихо подкатила двухместная тележка с блестевшим от дождя поднятым верхом. Пропитанный тунговым маслом верх откинулся, и на порог прыгнул один из седоков. Я узнал его в тот короткий миг, когда вскочил в тележку и рикша подхватил оглобли. Меня охватило необыкновенное возбуждение.
— Ведь это он, — прошептал я.
Да, это был тот самый смуглолицый мужчина в полосатом пиджаке, выдававший себя за кузена супруги Миура. Я ехал по сверкающей огнями Хирокодзи. Мое сердце, словно тисками, сжимало страшное беспокойство, когда я пытался представить себе, кто находился с этим человеком в коляске. Была это госпожа Нараяма или, может быть, госпожа Кацуми с алыми розами в волосах? Охваченный этими неразрешимыми сомнениями, я был в то же время очень зол на себя за свою трусость. Ах, зачем я тогда так поспешно нырнул под спасительный верх тележки! Должно быть, боялся, как бы мои сомнения не рассеялись. До сих пор для меня остается загадкой, была ли в тележке супруга Миура или воительница за эмансипацию женщин.
Виконт Хонда вытащил откуда-то большой шелковый носовой платок, вежливо высморкался, оглядел начавший погружаться в сумерки выставочный зал и продолжал тихим голосом:
— Оставляя в стороне это происшествие, я решил, что, как бы то ни было, рассказ репортера должен заинтересовать Миура. Поэтому на следующий же день отправил ему письмо, в котором предложил встретиться, порыбачить, а заодно и отдохнуть. Миу-» ра незамедлительно ответил согласием. Время встречи падало как-
198
раз на шестнадцатую ночь, поэтому он предлагал отправиться, как только завечереет, с тем чтобы не столько порыбачить, сколько полюбоваться полной луной. Я не был таким уж заядлым рыбаком и сразу же согласился. Мы встретились на лодочной станции близ Янагибаси, сели в длинную остроносую лодку и выгребли на середину реки. Уже стемнело, но луна еще не взошла.
В те времена вечерний пейзаж на реке Сумида еще сохранял следы красоты, присущей гравюрам укиёэ. Когда, проплыв под рестораном Манбати, мы вышли на середину реки, нашим глазам открылась удивительная картина: в осеннем небе над волнами реки, в которых отражались блики бледного вечернего света, отчетливо виднелись перила моста Рёгоку, казавшиеся черной, словно одним взмахом проведенной тушью, изогнутой линией. Тени карет, проносившихся по мосту, расплывались в поднимавшемся над рекой тумане, и чудилось, будто над водой мчатся взад и вперед лишь крохотные точки их фонарей, алые, словно вишенки.
Миура. Каков пейзаж, а?
Я. Да-а. В Европе, сколько ни ищи, такого, пожалуй, не увидишь.
Миура. Итак, когда дело касается пейзажа, ты не такой уж противник старины.
Я. Да, только когда дело касается пейзажа.
Миура. А вот я в последнее время просто возненавидел все, что связано с западным просветительством.
Я. Знаешь, однажды, обратив внимание на проходивших по бульвару японцев из Миссии доброй воли, некогда направленной феодальным правительством во Францию, известный острослов Мерные сказал стоявшему рядом с ним не то Дюма, не то кому-то еще: «Взгляни, кто это привязал японцев к таким непомерно длинным мечам?» Берегись, не то попадешь со своими взглядами на злой язык Мериме.
Миура. А я могу рассказать тебе о другом случае. Когда-то китайский посол по имени Хэ Шу-чжан, прибыв в Японию, остановился в гостинице в Иокогама. Увидав японский спальный халат, он умилился и сказал: «Это древнее спальное одеяние — свидетельство того, что в вашей стране свято соблюдают древние обычаи Ся и Чжоу». Вот тебе пример того, что нельзя без разбора охаивать все старое.
Увлекшись разговором, мы не заметили, как воды реки от начавшегося прилива внезапно потемнели. Мы огляделись и обнаружили, что мост Рёгоку остался далеко позади и наша лодка, подгоняемая частыми ударами весел, уже приблизилась к знаменитой «сосне свиданий», черным силуэтом выделявшейся на темном небе. Решив, что наступил подходящий момент для того, что-
199
бы перевести разговор на госпожу Кацуми, я подхватил последнюю фразу Миура и пустил пробный камень:
— Как в таком случае совместить твое преклонение перед стариной с твоим отношением к столь просвещенной супруге?
Словно не услышав моего вопроса, Миура некоторое время молча глядел на безлунное небо над Отакэгура, потом обратил свой взгляд на меня и тихим, но полным внутренней силы голосом сказал:
— Да никак. Неделю тому назад я развелся.
Я был так поражен столь неожиданным ответом, что растерялся и невольно ухватился за борт лодки.
— Значит, ты тоже знал? — тихо спросил я.
— А ты сам, все ли ты знал? — подчеркивая каждое слово, возразил Миура.
Я. Все или не все — не знаю. Слышал лишь о том, что твоя супруга подружилась с госпожой Нараяма.
Миура. А о связи между моей женой и ее кузеном?
Я. Догадывался.
Миура. В таком случае мне больше нечего тебе сообщить.
Я. А ты... когда ты узнал об этом?
Миура. О связи между женой и ее кузеном? Спустя три месяца после свадьбы. Как раз накануне того, как попросил Го-дзэта Хобая написать известный тебе портрет жены.
Можете себе представить, сколь неожиданным мне показался и этот ответ Миура.
Я. Как же ты мог до сих пор терпеть это?
Миура. Почему «терпеть»? Я это одобрял.
И снова я был настолько поражен ответом Миура, что некоторое время лишь ошеломленно глядел на него.
— Конечно, — спокойно продолжал Миура, — это не означает, что я одобряю их нынешнюю связь. Нет. Я относился с одобрением к тем сложившимся между ними отношениям, которые в то время рисовал у себя в воображении. Ты, должно быть, помнишь, что я был сторонником «женитьбы по любви». Но при этом, должен тебе сказать, я не преследовал какие-то эгоистические цели. Просто я ставил любовь превыше всего. И когда после женитьбы понял, что любовь между нами не настоящая, то пожалел о поспешности, с которой связал свою судьбу с этой женщиной. Вместе с тем меня не покидало чувство жалости к жене, которая была вынуждена делить со мной ложе и кров. Тебе ведь известно, что я с давних пор не мог похвалиться здоровьем. Кроме того, пусть я считал, что люблю ее, но она ведь могла и не любить меня. А может быть, моя любовь с самого начала была настолько слаба и несовершенна, что оказалась неспособной вызвать серьезное ответное чувство... И я
200
решил пожертвовать собой ради друживших с детских лет жены и ее кузена, раз возникшее между ними чувство чище и искреннее, чем то, которое существовало между нами. Ибо если бы я поступил иначе, мой принцип ставить любовь превыше всего оказался бы на деле, лишь красивой фразой. Поэтому-то я и решил на всякий случай заказать известный тебе портрет жены, с тем чтобы он заменил мне ее, как только станет ясно, что жена любит другого.
Миура умолк и снова вперил взгляд в небо, которое черным пологом висело над особняком Кимацуура. Пока не было и признака, что вот-вот засветятся облака и взойдет луна. Я закурил сигару и спросил:
— Что же было потом?
— Вскоре я убедился, что любовь между моей женой и ее кузеном не настоящая. Говоря откровенно, я узнал, что он находится в интимной связи не только с моей женой, но и с госпожой На-раяма. Как мне это удалось — думаю, что и тебе не будет особенно интересно услышать об этом, да и мне не хотелось бы сейчас распространяться на эту тему. Скажу только, что случайно мне лично довелось быть свидетелем их тайного свидания.
Сбрасывая пепел сигары за борт, я живо представил себе ту дождливую ночь и неожиданную встречу у входа в харчевню Икуинэ.
— Для меня это было первым ударом, — спокойно продолжал Миура. — Половина основания, на котором зиждилось мое одобрение их связи, рухнула. Больше я не мог, как прежде, благосклонно смотреть на интимные отношения моей жены и ее кузена. Ты в это время как раз возвратился из своей поездки в Корею. И вот я стал думать над средством, с помощью которого можно было бы их разлучить. Тогда я верил, что, несмотря на обман кузена, любовь к нему со стороны моей жены была истинной. Поэтому, а также и ради счастья жены, я счел необходимым вмешаться. Жена и ее кузен не могли предположить, что я давно знал об их связи. Поэтому они, — по крайней мере, жена, — по-видимому, решили, что мною движет ревность. С тех пор жена стала враждебно ко мне относиться и даже следить за мной. Да и на тебя она смотрела с опаской.
— Действительно, однажды она, стоя за дверью кабинета, подслушивала наш с тобой разговор.
— Вполне возможно. Такая женщина могла пойти и на это. Некоторое время мы молча глядели на черную гладь реки.
Наша лодка миновала мост Оумаябаси и, оставляя едва заметный след на воде, приблизилась к Комаката.
— Но я не переставал верить в честность жены, — продолжал
201
Миура свой рассказ, — и еще сильнее страдал из-за того, что она не хотела понять моего настроения. Не только не хотела, но даже возненавидела меня. И вот, с тех пор как я встретил тебя на вокзале в Синбаси, я всячески пытался подавить в себе мучившие меня мысли...
Неделю тому назад прислуга по ошибке принесла в мой кабинет письмо, предназначавшееся жене. Я сразу решил, что письмо от ее кузена, и... вскрыл его. К своему удивлению, я понял, что в моих руках оказалось любовное послание от неизвестного мужчины. Так я убедился, что те чувства, которые жена питала к кузену, тоже никак нельзя назвать чистой любовью. Я получил второй и значительно более жестокий удар, который начисто разбил мои идеалы. И в то же время на меня снизошло печальное успокоение, словно тяжесть ответственности, давившая мне все время на плечи, внезапно исчезла.
Миура умолк. В этот миг из-за складов Намигура выплыла кроваво-красная полная луна. Я и вспомнил эту историю с Миура, глядя на одетого в европейский костюм Кпкугоро с гравюры Ёси-тоси, именно потому, что театральная луна на гравюре была похожа на ту, которую мы увидали с лодки. В лунном свете четко выделялся продолговатый овал лица Миура, обрамленного расчесанными на пробор длинными волосами. Глядя на луну, Миура вдруг тяжело вздохнул и с горьким смехом произнес:
— Помнишь, однажды ты осудил жертвовавших жизнью ради своего идеала повстанцев Симпурэн, назвав это детской мечтой. Значит, в твоих глазах моя супружеская жизнь...
— Да. Тоже, возможно, напоминала детскую мечту. Но ведь и просвещение, к которому мы теперь так стремимся, спустя столетие превратится всего лишь в детскую мечту. Не так ли?
В этот момент подошедший к нам сторож напомнил, что час уже поздний и выставку пора закрывать. Мы с виконтом медленно поднялись со скамьи, в последний раз окинули взглядом висевшие вокруг гравюры и эстампы и молча покинули начавший погружаться в сумерки зал. Казалось, мы сами были призраками прошлого, сошедшими с картин, висевших за стеклом стендов.
Январь 1919 я.
Стояли угрюмые зимние сумерки. Я сидел в углу вагона второго класса поезда Ёкосука — Токио и рассеянно ждал свистка к отправлению. В вагоне давно уже зажгли электричество, но почему-то, кроме меня, не было ни одного пассажира. И снаружи,
202
на полутемном перроне, тоже почему-то сегодня не было никого, даже провожающих, и только время от времени жалобно тявкала запертая в клетку собачонка. Вое это удивительно гармонировало с моим тогдашним настроением. На моем сознании от невыразимой усталости и тоски лежала тусклая тень, совсем как от пасмурного снежного неба. Я сидел неподвижно, засунув руки в карманы пальто и не имея охоты даже достать из кармана и просмотреть вечернюю газету.
Наконец раздался свисток. С чувством слабого душевного облегчения я прислонился головой к оконной раме и стал ждать, когда станция перед моими глазами начнет медленно отодвигаться назад. Но тут со стороны турникета на перроне послышался громкий стук гэта, тотчас же за ним — негодующий возглас кондуктора; дверь моего вагона со стуком растворилась, и, запыхавшись, вошла девочка лет тринадцати — четырнадцати. В ту же секунду поезд, качнувшись, медленно тронулся. Столбы на перроне, один за другим отмечавшие отрезок поля зрения, тележка с баком для воды, как будто кем-то брошенная и забытая, носильщик, кланявшийся кому-то в поезде, — все это в клубах застилавшего окно пепельного дыма как-то неохотно покатилось назад. Наконец-то, вздохнув с облегчением, я закурил папиросу и только тогда поднял вялые веки и бросил взгляд на лицо девочки, усевшейся напротив меня.
Это была настоящая деревенская девочка: сухие волосы без признака масла были уложены в прическу итёгаэси, рябоватые, потрескавшиеся щеки были так багрово обожжены, что даже производили неприятное впечатление. На ее коленях, куда небрежно свисал замызганный зеленый шерстяной шарф, лежал большой узел. В придерживавшей его отмороженной руке она бережно сжимала красный билет третьего класса. Мне не понравилось мужицкое лицо этой девочки. Кроме того, мне было неприятно, что она грязно одета. Наконец, меня раздражала ее тупость, с которой она не могла понять даже разницу между вторым и третьим классами. Поэтому, закуривая папироску, я решил забыть о самом существовании этой девочки и от нечего делать развернул газету. Вдруг свет из окна, падавший на страницы, превратился в электрический свет, и неотчетливая печать газеты с неожиданной яркостью выступила перед моими глазами. Очевидно, поезд вошел в первый из многочисленных на линии Ёкосука туннелей.
Однако, хотя я пробегал взглядом освещенные электричеством страницы, все, что случилось на свете, было слишком банально, чтобы рассеять мою тоску. Вопросы заключения мира, молодожены, опять молодожены, случаи взяточничества чиновнн-
203
ков, объявления о смерти... Испытывая странную иллюзию, будто поезд, войдя в туннель, вдруг помчался в обратном направлении, я почти машинально переводил глаза с одной унылой заметки на другую. Но все это время я, разумеется, ни на минуту не мог отделаться от соанания, что передо мной сидит эта девочка, живое воплощение серой действительности в человеческом образе. Этот поезд в туннеле, эта деревенская девочка, да и эта газета, набитая банальными статьями, — что же это все, если не символ непонятной, низменной, скучной человеческой жизни? Все мне показалось бессмысленным, и, отшвырнув недочитанную газету, я опять прислонился головой к оконной раме, закрыл глаза, как мертвый, и начал дремать.
Прошло несколько минут. Внезапно, словно испуганный чем-то, я невольно оглянулся — оказалось, что девочка незаметно встала со своего места на противоположной скамейке и, остановившись рядом со мной, упорно старалась открыть окно. Но тяжелая рама никак не поддавалась. Потрескавшиеся щеки девочки еще больше покраснели, и я слышал, как, хлопоча у окна, она иногда шмыгала носом и прерывисто дышала. Конечно, ее усилия не могли не вызвать у меня известного сочувствия. Однако уже по одному тому, что склоны холмов, на которых светлела в сумерках засохшая трава, с обеих сторон надвигались на окна, легко можно было сообразить, что поезд опять подходит к туннелю. И все же девочка хотела спустить нарочно закрытое окно — зачем, мне было непонятно. Я мог считать это только капризом. Поэтому, с прежней суровостью в глубине души, я холодно смотрел, как обмороженные ручки бьются, пытаясь спустить стекло. Я желал, чтобы эти усилия так и не увенчались успехом. Но вдруг поезд с ужасным грохотом ворвался в туннель, и в тот же миг рама, которую девочка старалась спустить, наконец со стуком упала. И в прямоугольное отверстие разом густо хлынул внутрь и разлился по вагону черный, точно пропитанный сажей, воздух, превратившийся в удушливый дым. Я не успел даже закрыть платком лицо, как меня обдала целая волна дыма, и, давно уже страдая горлом, я закашлялся так, что чуть не задохнулся. А девочка, не обращая на меня ни малейшего внимания, высунулась в окно и, подставив волосы трепавшему их ветру, смотрела вперед по ходу поезда. Я глядел на нее, окутанную дымом и электрическим светом, и если бы только за окном вдруг не стало светлеть и оттуда освежающе не влился запах земли, сена, воды, то я, наконец-то перестав кашлять, несомненно, жестоко выругал бы эту незнакомую девочку и опять закрыл бы окно.
Но поезд уже плавно выскользнул из туннеля и проходил через переезд в бедном предместье, сдавленном с обеих сторон го-
204
рами, покрытыми на склонах сухой травой. Вокруг повсюду грязно и тесно жались убогие соломенные и черепичные крыши, и — должно быть, это махал стрелочник — уныло развевался еще белевший в сумерках флажок. Как только поезд вышел из туннеля, я увидел, что за шлагбаумом пустынного переезда стоят рядышком три краснощеких мальчугана. Все трое, как на подбор, были коротышки, словно придавленные этим пасмурным небом. И одежда на них была такого же цвета, как все это угрюмое предместье. Не спуская глаз с проносившегося мимо поезда, они разом подняли руки и вдруг, не щадя своих детских глоток, изо всех сил грянули какое-то неразборчивое приветствие. И в тот же миг произошло вот что: девочка, по пояс высунувшаяся из окна, вытянула свои обмороженные ручки, взмахнула ими направо и налево, и вдруг на детей, провожавших взглядом поезд, посыпалось сверху несколько золотых мандаринов, окрашенных так тепло и солнечно, что у меня затрепетало сердце. Я невольно затаил дыхание. И мгновенно все понял. Она, эта девочка, уезжавшая, вероятно, на заработки, бросила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить братьев, которые вышли на переезд проводить ее.
Утонувший в сумерках переезд, трое мальчуганов, заверещавших, как птицы, свежая яркость посыпавшихся на них мандаринов — все это промелькнуло за окном почти мгновенно. Но в моей душе эта картина запечатлелась почти с мучительной яркостью. И я почувствовал, как меня заливает какое-то еще непонятное светлое чувство. Взволнованно подняв голову, я совсем другими глазами посмотрел на девочку. Вернувшись на свое место напротив меня, она по-прежнему прятала потрескавшиеся щеки в зеленый шерстяной шарф и, придерживая большой узел, крепко сжимала в руке билет третьего класса...
И только тогда мне удалось хоть на время забыть о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни.
Апрель 1919 г.
Случилось это в дождливый день после полудня. В одном из залов картинной галереи я обнаружил картину, написанную маслом. «Обнаружил» — сказано, пожалуй, слишком сильно, впрочем, что мне мешает так именно и сказать: ведь только эта картина висела в полутемном углу, только она была в ужасающе бедной раме; картину повеспли и словно тут же о ней забыли.
205
Картина называлась «Трясина», автор не принадлежал к числу известных. И сама картина изображала всего-навсего ржавую воду, сырую землю да еще траву и деревья, густо растущие на этой земле; в ней не было ровным счетом ничего, на чем мог бы остановить взгляд обычный посетитель.
Странно, но художник писал столь густую растительность, совершенно не пользуясь зелеными красками. Тростник, тополя, фиги — все это было грязно-желтого цвета. Какого-то гнетущего желтого цвета, цвета сырой глины. Действительно ли художник так видел зелень? Или ему почему-либо нравился этот цвет и он нарочно усиливал его? Я стоял перед картиной потрясенный, и этот вопрос все время мучил меня.
И постепенно, чем больше я в нее вглядывался, тем яснее понимал, какую она страшную таит в себе силу. Особенно земля на переднем плане, — земля была написана до того убедительно, что вы явственно ощущали, как ступает по ней ваша нога, как с тоненьким всхлипом увязает по самую лодыжку в гладкой дрожащей жиже.
За небольшой картиной маслом я разглядел несчастного ее художника, который стремился возможно острее показать самую суть природы. Эта желтая болотная растительность внушала мне такое же трагическое, такое же глубокое, рождающее восторг чувство, какое внушает всякое выдающееся творение искусства. Среди множества больших и небольших картин, заполнивших галерею, не нашлось бы ни одной равной этой по силе.
— Вы, кажется, в восторге? — Чья-то рука хлопнула меня по плечу, и я с таким чувством, словно меня бесцеремонно разбудили, обернулся. — Ну, как вам эта штука?
Говоривший пренебрежительно мотнул свежевыбритым подбородком в направлении картины. Модный коричневатый пиджак, крепкое сложение, самоуверенный вид знатока — это был художественный критик одной из газет. Я припомнил, что уже не впервые именно этот критик вызывает во мне чувство неприязни, и очень неохотно ему ответил:
— Это шедевр.
— Шедевр?! Забавно! — Критик расхохотался, подрагивая животом.
Привлеченные его смехом, несколько посетителей, стоявших поблизости, словно сговорившись, разом посмотрели в нашу сторону. Мне сделалось еще неприятнее.
— Забавно! Кстати, вы знаете, художник отнюдь не был устроителем выставки, однако он так все время стремился ее показать, что семья покойного упросила жюри, и ее в конце концов сунули в этот угол.
206
— Семья покойного? Значит, автор картины умер?
— Да, он умер. Впрочем, он был мертв и при жизни.
— То есть как это?
— Уже довольно давно он был не в себе.
— И когда вот это писал?
— Разумеется! Какой же нормальный станет писать в таком цвете. А вы вот даже изволите восхищаться — ну не забавно ли!
И критик снова разразился самодовольным смехом. Он наверняка полагал, что я устыжусь своего невежества. Больше того, он, как видно, хотел, чтобы я почувствовал его превосходство.
Увы, я разочаровал его. Я слушал его, и чувство почти торжественное наполняло меня невыразимым волнением. Я с трепетом снова и снова погружался в созерцание картины. И снова видел за небольшим холстом несчастного художника, терзаемого страшным нетерпением и тревогой.
— Да, у него, как видно, никак не выходило то, что он хотел, и это свело его с ума. Вот в чем все дело!
И критик с проясненным лицом, почти радостно, улыбнулся. Вот она, единственная награда, полученная от людей, от общества безвестным художником, принесшим в жертву свою жизнь, одним из нас.
Сильный трепет прошел по всему моему телу; я опять, в третий уже раз, бросил взгляд на печальный холст. Там между угрюмым небом и угрюмой водою с чудовищной силой — природа это есть мы! — жили тростник, тополь, фиговое дерево цвета сырой глины.
— Шедевр!
Я повторил это слово гордо, глядя прямо в лицо художественному критику.
Апрель 1919 г,
Лет десять с лишним назад, как-то раз весной, мне было поручено прочесть лекции по практической этике, и я около недели прожил в городе Огаки, в префектуре Гифу. Искони опасаясь обременительной любезности в виде теплого приема местных деятелей, я заранее послал пригласившей меня учительской организации письмо с предупреждением о том, что намерен отказаться от встреч, банкетов, .а также от осмотра местных достопримечательностей и вообще от всяких прочих видов напрасной траты времени, связанной с чтением лекций по приглашению. К счастью, слухи о том, что я оригинал, видимо, давно уже дошли сюда, и
207
когда я приехал, то благодаря стараниям мэра города Огаки, являвшегося председателем этой организации, все оказалось устроено согласно моим желаниям, и даже больше того: меня избавили от обычной гостиницы и предоставили в мое распоряжение тихое помещение на даче местного богача господина Н. Я собираюсь рассказать обстоятельства одного трагического происшествия, о котором случайно услышал во время пребывания на этой даче.
Дача помещалась в районе, близком к замку Короку и весьма далеком от житейской суеты веселых кварталов. Небольшое, в восемь циновок, помещение в стиле павильона для занятий, где я поселился, было, к сожалению, почти лишено солнца, но со своими довольно выцветшими фусума и сёдзи представляло собой комнату, полную удивительного спокойствия. Прислуживавшие мне сторож дачи и его жена, когда их услуги не требовались, всегда уходили к себе на кухню, так что в этой полутемной комнате большей частью было тихо и совершенно безлюдно. Тишина стояла такая, что можно было отчетливо услышать, как с магнолии, простирающей свои ветви над гранитным рукомойником, иногда осыпается белый цветок. Я ходил на лекции ежедневно, но только по утрам, и мог проводить в этой комнате послеобеденные часы и вечер в полном покое. В то же время, не имея при себе ничего, кроме чемоданчика с учебниками и сменой одежды, я нередко чувствовал весенний холодок.
Впрочем, в послеобеденное время меня иногда развлекали посетители, так что я был не так уж одинок. Но когда зажигалась старинная лампа на подставке из ствола бамбука, то мир, согретый человеческим дыханием, сразу суживался до моего непосредственного окружения, озаряемого этим слабым светом. Однако во мне даже это окружение отнюдь не вызывало чувства надежности. В токонома за моей спиной угрюмо высились тяжелые медные вазы без цветов. Над ними, на таинственном какэмоно с изображением «Ивовой Каннон», на золотом фоне закопченного парчового обрамления тускло чернела тушь. Время от времени я отводил глаза от книги и оглядывался на эту старинную буддийскую картину, и мне всегда казалось, что я чувствую запах нигде не курившихся ароматических свечек. Настолько моя комната полна была атмосферой монастырской тишины. Поэтому я ложился довольно рано. Однако, и улегшись, я долго не засыпал. За ставнями раздавались пугавшие меня крики ночных птиц, носившихся не то рядом, не то где-то вдали, — не поймешь. Эти крики описывали круги, центром которых была высящаяся над моим жилищем башня. Даже днем взглянув на нее, я видел, как эта башня, вздымавшая среди мрачной велени сосен белые стены своих трех ярусов, непрестанно сыпала со своей выгнутой крыши
208
в небо бесчисленные стаи ворон... И, погружаясь в некрепкий сон, я продолжал чувствовать, как глубоко в моем теле разливается, словно вода, весенний холодок.
И вот как-то вечером... Это случилось, когда курс моих лекций уже подходил к концу. Я, как всегда, сидел перед лампой, скрестив ноги, погруженный в бесцельное чтение, как вдруг фу-сума, отделявшая мою комнату от соседней, до жути тихо приоткрылась. Заметив, что она открылась, и бессознательно предполагая, что явился сторож дачи, я равнодушно обернулся, намереваясь, кстати, попросить его опустить в ящик недавно написанную открытку. Но на татами возле фусума в полутьме сидел, выпрямившись, незнакомый мне мужчина лет сорока. По правде говоря, на миг меня охватило изумление, — вернее, своеобразное чувство, близкое к суеверному страху. Действительно, вид у этого человека при тусклом свете лампы был странно прозрачный, вполне оправдывающий такой шок. Однако он, оказавшись со мной лицом к лицу, почтительно наклонил голову, высоко, по-старинному, подняв при этом локти, и более молодым голосом, чем я ожидал, почти механически произнес такое приветствие:
— Не нахожу слов, чтобы просить извинения за то, что вторгся к вам вечером и помешал вашим занятиям, но, имея к сэнсэю почтительную просьбу, я решился на нарушение приличий и позволил себе прийти.
Оправившись от первоначального шока, я во время этой речи впервые рассмотрел своего посетителя. Это был полуседой, благородного вида человек, с широким лбом, впалыми щеками и не по возрасту живыми глазами. На нем было приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама, а у колен он, как полагается, держал в руке веер. Но что меня моментально ударило по нервам, это то, что на левой руке у него не хватало одного пальца. Едва заметив это, я невольно отвел глаза от его руки.
— Что вам угодно?
Закрывая книгу, которую я начал было читать, я нелюбезно задал ему этот вопрос. Нечего и говорить, что его внезапное появление оказалось для меня неожиданностью и вместе с тем рассердило меня. Странно было и то, что сторож дачи ни одним словом не предуведомил меня о приходе гостя. Однако, нисколько не смутившись моими холодными словами, этот человек еще раз коснулся лбом циновки и тем же тоном, точно читая вслух:
— Извините, что не сказал сразу, но позвольте представиться: меня зовут Накамура Гэндо. Я каждый день хожу слушать лекции сэнсэя, но, разумеется, я только один из многих, так что сэнсэй вряд ли меня помнит. Однако, как слушатель ваших лекций, я осмеливаюсь теперь просить у сэнсэя указаний.
209
Мне показалось, что я наконец понял цель его посещения. Но то, что мое тихое удовольствие от вечернего чтения оказалось испорченным, было мне по-прежнему решительно неприятно.
— В таком случае, не скажете ли, что именно в моих лекциях вызвало вопрос?
Спросив его так, я в глубине души уже приготовил приличные слова для отступления: «Раз это вопрос, то задайте его завтра в аудитории». Однако гость, не шевельнув ни одним мускулом лица и устремив глаза на свои прикрытые хакама колени:
— Не вопрос. Но я, собственно говоря, хотел бы услышать мнение, суждение сэнсэя относительно всего моего поведения. То есть дело в том, что еще двадцать лет тому назад довелось мне пережить неожиданное происшествие, и после него я сам себе стал непонятен. И вот, узнав о глубоких теориях такого авторитета в науке этики, как сэнсэй, я подумал, что теперь все разъяснится само собой, и потому сегодня вечером и позволил себе прийти. Как прикажете? Не соблаговолите ли, хоть это и скучно, выслушать историю моей жизни?
Я заколебался. Я хоть и в самом деле был специалистом по этике, но, к сожалению, не мог обольщаться, будто обладаю достаточно быстрой сообразительностью, чтобы, пользуясь своими специальными знаниями, тут же на месте дать жизненное разрешение стоящему передо мной практическому вопросу. Он, видимо, сразу заметил мои колебания и, подняв взор, до того устремленный на колени, и полупросительно и робко следя за выражением моего лица, более естественным голосом, чем раньше, почтительно продолжал так:
— Нет, это, разумеется, не значит, что я позволю себе во что бы то ни стало настаивать на том, чтобы сэнсэй высказал свое суждение. Но только этот вопрос до нынешних моих лет неотвязно удручает мою душу, и если бы такой человек, как сэнсэй, хотя бы послушал о моих мучениях, уже это одно послужило бы мне некоторым утешением.
После этих его слов я ради одного приличия не мог отказаться выслушать рассказ незнакомца. Но в то же время я ощутил на сердце тяжесть какого-то дурного предчувствия и своего рода смутное чувство ответственности. Желая рассеять эти тревожные чувства, я заставил себя принять беззаботный вид и, приглашая гостя сесть ближе, по другую сторону тускло светившей лампы:
— Ну, так прошу приступить к рассказу. Правда, как вы сами об этом сказали, не знаю, удастся ли мне высказать мнение, могущее послужить вам на пользу.
210
— Нет, если только вы соблаговолите меня выслушать, это будет больше того, на что я смел надеяться.
Человек, назвавший себя Накамура Гэндо, рукой, лишенной одного пальца, взял с циновки веер и, время от времени медленно поднимая глаза и украдкой взглядывая не столько на меня, сколько на «Ивовую Каннон» в токонома, довольно невыразительным мрачным тоном, то и дело прерывая, повел свой рассказ.
* * *
Дело было как раз в двадцать четвертом году Мэйдзи. Как вы энаете, двадцать четвертый год — это год великого землетрясения на равнине Ноби, и с тех пор наш Огаки принял совсем другой вид; а в то время в городке имелись две начальные школы, из которых одна была построена князем, другая — городом, Я служил в начальной школе К., учрежденной князем; за несколько лет до того я окончил первым учеником префектураль-ную учительскую семинарию и с тех пор, пользуясь известным доверием директора, получал высокое для своих лет жалованье в пятьдесят иен. В нынешнее время те, кто получают пятьдесят иен, еле сводят концы с концами, но дело было двадцать лет назад; сказать, что это много, — нельзя, но на жизнь вполне хватало, так что среди товарищей такие, как я, являлись предметом зависти.
Из близких у меня на всем свете была только жена, да и на ней я был женат всего два года. Жена была дальней родственницей школьного директора; она с детства лишилась родителей и до замужества жила на попечении директора и его жены, заботившихся о ней, как о родной дочери. Звали ее Саё; может быть, из моих уст это прозвучит странно, но была она женщиной от природы очень прямой, застенчивой и уж чересчур молчаливой и грустной, словно тень. Но, как говорится, муж и жена на одну стать, так что хоть особого счастья у нас и не было, но мы мирно жили день за днем.
И вот произошло великое землетрясение — никогда мне не забыть — двадцать восьмого октября в семь часов утра. Я чистил зубы у колодца, а жена в кухне засыпала в котел рис... На нее рухнул дом. Это случилось в какие-нибудь одну-две минуты: ураганом налетел страшный подземный гул, дом сразу же стал крениться набок все больше и больше, и потом только и видно было, как во все стороны летят кирпичи. Я и ахнуть не успел, как упал, сбитый с ног рухнувшим навесом крыши, и некоторое время лежал без памяти, встряхиваемый волнами подступавших толчков; а когда в конце концов в тучах взметенной земли я вы-
211
брался из-под навеса, то увидел перед собой крышу своего дома, между черепицами которой росла трава, разбитой вдребезги и поверженной на землю.
Что я тогда почувствовал — ужас ли, растерянность, не знаю. Я прямо обезумел и тут же повалился без сил, словно под ногами моими было бурное море; справа и слева я видел дома с обрушенными крышами, слышал подземный гул, стук балок, треск ломающихся деревьев, грохот обваливающихся стен, бурлящий шум и крики мечущихся тысяч людей. Но это длилось только мгновение; едва я увидел то, что шевелилось поодаль под навесом, как сразу же вскочил и с бессмысленным криком, точно очнувшись от кошмара, бросился туда. Под навесом, наполовину придавленная балкой, корчилась моя жена Саё.
Я тянул жену за руки. Я старался пошевелить ее, толкая за плечо. Но придавившая ее балка не сдвинулась ни на волос. Теряя голову, я стал отдирать с навеса доски одну за другой. Отдирая, я кричал жене: «Держись!» Кого я подбодрял? Жену? Или самого себя? Не знаю. Жена сказал: «Тяжко!» Еще она сказала: «Как-нибудь, пожалуйста!» Но меня нечего было просить, я и без того с искаженным лицом из последних сил старался приподнять балку, и в моей памяти до сих пор живо мучительное воспоминание о том, как руки жены, настолько окровавленные, что не видно было ногтей, дрожа, силились нащупать бревно.
Это продолжалось долго-долго... И вдруг я заметил, что откуда-то в лицо мне пахнул удушливый черный дым, густыми клубами стлавшийся над крышей. И в тот же миг где-то за пеленой дыма раздался грохот, как будто что-то взорвалось, и в небо взметнулись и золотой пылью рассыпались огненные искры.
Как безумный вцепился я в жену. И еще раз отчаянными усилиями попытался вытащить из-под балки ее тело. Но нижняя половина ее тела по-прежнему не сдвинулась ни на дюйм. Клубы дыма налетали снова и снова, и тогда я, упершись коленом в навес, не то сказал, не то прорычал жене. Может быть, вы спросите что? Да нет, непременно спрбсите. Но что именно я сказал, я совершенно забыл. Только помню, как жена, вцепившись своими окровавленными руками в мой рукав, произнесла одно слово «Вы...» Я взглянул в ее лицо. Это было страшное лицо, лишенное всякого выражения, и только одни глаза были широко раскрыты. В этот миг на меня, ослепляя, налетел уже не только дым, а язык пламени, рассеявший тучи искр. Я решил, что все пропало. Жена сгорит заживо. Заживо? Сжимая окровавленные руки жены, я опять что-то крикнул. И жена снова произнесла одно слово: «Вы...» Сколько разных значений, сколько разных чувств услыхал я в этом «вы»! Заживо? Заживо? Я в третий раз что-то крик-
212
нул. Помню, что я как будто сказал: «Умру». Помню, что сказал: «Я тоже умру». Но, не понимая, что я говорю, я как попало хватал рухнувшие кирпичи и один за другим швырял их на голову жене.
Что было дальше, сэнсэй сам может себе представить. Я один остался в живых. Преследуемый пламенем, опустошившим почти весь город, сквозь клубы дыма я пробрался между обрушившимися крышами, которые, как холмы, преграждали дорогу, и кое-как спасся. К счастью или к несчастью, не знаю. Только я до сих пор не могу забыть, как в тот вечер, когда я глядел на алевшее в темном небе зарево еще пылающего пожара и вместе с школьными товарищами — учителями получал рисовые колобки, сваренные в бараке во дворе разрушенной школы, у меня беспрестанно лились из глаз слезы.
* * *
Накамура Гэндо замолк и боязливо опустил глаза на цпновку. Неожиданно услышав такой рассказ, я почувствовал, будто весенний холодок просторной комнаты забирается мне за воротник, и не имел духу даже сказать: «Да...»
В комнате слышалось только потрескивание керосина в лампе. Да еще дробно отмеривали время мои карманные часы, лежавшие на столе. И в этой тишине послышался вздох, такой слабый, словно шевельнулась «Ивовая Каннон» в токонома.
Подняв встревоженные глаза, я пристально посмотрел на поникшую фигуру гостя. Он ли вздохнул, или я сам? Но раньше, чем я разрешил этот вопрос, Накамура Гэндо тем же тихим голосом, не спеша, возобновил свой рассказ.
* * *
Излишне говорить, что я горевал о кончине жены. Больше того, иногда, слыша в школе от всех кругом, начиная с директора, теплые слова сочувствия, я плакал, не стыдясь людей. Но что во время землетрясения я убил свою жену, в этом, как ни странно, я не мог признаться. «Я думал, что это лучше, чем заживо сгореть, и убил ее собственной рукой», — за такое признание меня, наверно, не отправили бы в тюрьму. Нет, скорее, за это все кругом, несомненно, стали бы мне сочувствовать еще больше. Но каждый раз, когда я собирался заговорить, признание застревало у меня в горле и язык не поворачивался произнести хоть одно слово.
В то время я полагал, что причина коренится всецело в моей робости. Однако на самом деле существовала другая причина,
213
которая крылась не в робости, а гораздо глубже. И все же до тех пор, пока со мной не заговорили о втором браке и не настала пора вступить в новую жизнь, об этой другой причине я и сам не знал, А когда я о ней узнал, то неизбежно превратился в жалкого, душевно разбитого человека, не способного больше жить, как все.
Разговор о втором браке завел со мной школьный директор, приемный отец Саё; что он делает все это всецело ради искренних забот обо мне, я и сам хорошо понимал. Да и в самом деле, со времени землетрясения прошло уже больше года, и еще до того, как директор затронул со мной эту тему, не раз случалось, что тот или другой, заводя со мной такой разговор, потихоньку выведывал мое отношение к этому делу. Однако когда со мной заговорил директор, то, к моему удивлению, оказалось, что за меня прочат вторую дочь господина Н., в доме которого сэнсэй сейчас живет; с ее старшим братом, учеником четвертого класса начальной школы, я в то время иногда занимался у них на дому. Разумеется, я сразу же отказался: во-первых, между мной, учителем, и семьей богача Н. существовала явная разница в общественном положении; кроме того, мне казалось малоприятным, если в силу моего положения домашнего учителя на меня до свадьбы по каким-нибудь поводам падут необоснованные подозрения. В то же время за моим нежеланием стояло другое: призрачная, как хвост кометы, меня обволакивала тень Саё, которую я сам убил и о которой, по поговорке «с глаз долой — из сердца вон», думал уже не с такой печалью, как раньше.
Однако директор, достаточно уяснив себе мое настроение, стал меня настойчиво уговаривать, приводя всевозможные доводы, — что человеку в моем возрасте трудно продолжать жить холостяком, что предполагаемый брак составляет предмет горячих желаний самой невесты, что, поскольку директор сам охотно возьмет на себя обязанности свата, никаких дурных толков не подымется, а кроме того, что давно лелеемое мною желание поехать учиться в Токио после заключения брака осуществить будет гораздо легче. Слыша такие разговоры, я уже не считал возможным отказываться наотрез. К тому же девушка слыла красавицей, да и, как ни стыдно признаться, меня прельщало богатство семьи Н.; и когда, поощряемый директором, я стал ходить туда чаще, то начал понемногу сдаваться и говорил то: «Я серьезно обдумываю», то: «После Нового года». И в начале лета следующего, двадцать шестого года Мэйдзи наконец положено было осенью сыграть свадьбу.
И вот с тех пор, как дело было решено, у меня почему-то стало тяжело на душе, настолько тяжело, что я, к моему, собствен-
214
ному удивлению, потерял всякий интерес к работе. Придя в школу, я садился в учительской за стол и нередко, рассеянно погрузившись в мысли, пропускал мимо ушей даже стук колотушек, возвещавших начало занятий. И все же, что именно лежало у меня на душе, я и сам не мог ясно определить. У меня только было неприятное ощущение, будто зубчатые колесики в моем мозгу перестали цепляться друг за друга, и вот за этими не цепляющимися друг за друга колесиками притаилась какая-то непостижимая для моего сознания тайна.
Так тянулось, должно быть, месяца два. И вот во время летних каникул, как-то раз под вечер прогуливаясь по городу, я остановился рассмотреть новинки на прилавке у входа в книжный магазин позади местного храма Хонгандзи; там лежали лакированные обложки нескольких номеров популярного в ту пору журнала «Иллюстрированное обозрение» рядышком с рассказами о привидениях и альбомами рисунков. Стоя у прилавка, я просто так взял в руки номер «Иллюстрированного обозрения» и увидел на обложке картину с изображением того, как рушатся дома и занимаются пожары, а под ней в две строки было крупно напечатано: «Издано тридцатого октября двадцать четвертого года Мэйдзи; описание землетрясения двадцать восьмого октября». Когда я это увидел, у меня вдруг сжалось сердце. Мне даже почудилось, будто у самого моего уха кто-то злорадно шепчет: «Вот оно! Вот оно!» Свет в магазине еще не зажигали, и я в полутьме торопливо раскрыл обложку. На первой странице была помещена картина трагической гибели целой семьи, раздавленной рухнувшими балками. На следующей — земля, расколовшись, поглощала женщину с детьми. На следующей... Незачем перечислять все подряд. В эту минуту журнал снова развернул перед моими глазами картины происшедшего два года назад землетрясения. Рисунки обвалившегося моста через Нагарагава, разрушенного здания текстильной компании Овари, раскопок трупов солдат третьей дивизии, спасения раненых в больнице Анти — такие трагические картины одна за другой снова втягивали меня в проклятые воспоминания о том времени. Глаза у меня увлажнились, я задрожал. Непонятное чувство не то боли, не то радости беспощадно скручивало мои нервы. И когда передо мной открылась картина на последней странице... до сих пор ужас этой минуты жив в моей душе. Это была картина того, как в муках корчится женщина, до пояса придавленная свалившейся балкой. Балка лежала поперек ее тела, а позади вздымались клубы черного дыма, и, казалось, отсвечивая красным, разлетались огненные искры! Кто же это мог быть, как не моя жена, что же это могло быть, как не кончина моей жены! Я чуть не выронил из рук журнал. Чуть не закричал во весь голос И в тот
215
миг я испугался еще больше: все кругом вдруг засветилось алым светом, и в нос мне ударил запах дыма, наводящий на мысль о пожаре. С трудом подавляя волнение, я положил журнал на место и тревожно осмотрелся кругом. У входа в магазин приказчик только что зажег висячую лампу и выбросил на улицу, где уже разливалась темнота, еще дымящуюся обгорелую спичку.
С тех пор я стал еще более мрачным, чем раньше. До этого меня преследовало только чувство непонятной тревоги, а теперь в уме у меня затаилось одно сомнение, мучившее меня днем и ночью. То, что я тогда во время землетрясения убил жену, — было ли это неотвратимо?.. Говоря более откровенно, не оттого ли я убил жену, что с самого начала имел намерение ее убить, а землетрясение предоставило мне удобный случай? Вот какое сомнение меня мучило. Разумеется, не помню, сколько раз я на это сомнение отвечал: «Нет!» Но тот, кто у прилавка книжного магазина шептал мне на ухо: «Вот оно! Вот оно!» —и теперь донимал меня насмешливым вопросом: «Так почему же ты не мог признаться, что убил жену?» Когда моя мысль натыкалась на этот факт, сердце у меня замирало. Ах, почему, раз я убил жену, я не мог сказать о том, что ее убил? Почему до сегодняшнего дня крепко-накрепко скрываю такую ужасную тайну? И вот тогда в моей памяти ярко ожил постыдный факт — что в то время я в глубине души ненавидел свою жену. Стыдно об этом говорить, и, может быть, вы меня не поймете, но Саё, к несчастью, была физически неполноценной женщиной. (Далее восемьдесят две строки опущено. — Прим. автора.) Так что до тех пор я, хотя и смутно, был уверен, что мое нравственное чувство одержало победу. Но вот случилось это великое бедствие и все путы, накладываемые обществом, смело с лица земли, — так разве могу я сказать, что вместе с этим не надломилось и мое нравственное чувство? Разве могу я сказать, что мое себялюбив не подняло свою огненную руку? И когда я убил жену, не сделал ли я это просто ради того, чтоб убить? Я не мог отмахнуться от этого сомнения. И то, что я мрачнел все больше и больше, можно назвать только естественным.
Но у меня еще оставалась лазейка: «Даже если бы я тогда не убил жену, она все равно погибла бы, сгорев во время пожара. А раз так, значит, то, что я ее убил, вовсе не следует называть злодейством». Но однажды, — лето тогда уже подходило к концу и начались занятия в школе, — когда мы, учителя, сидели за столом в учительской и пили чай, болтая о том о сем, по какому-то поводу разговор опять коснулся землетрясения, происшедшего два года назад. Я тогда замолчал и старался не прислушиваться к тому, что говорили товарищи. Рассказывали, как обвалилась крыша храма Хонгандзи, как обрушилась у Фунамати дамба, как на
216
улице Таварамати расселась земля, — разговор переходил с одного на другое, и один из учителей рассказал, что хозяйка винной лавки «Бйнгоя» на улице Накамати попала под рухнувшую балку и почти не могла пошевелиться; но тем временем начался пожар, балка загорелась и, к счастью, обломилась, и женщина спаслась. Когда я это услышал, в глазах у меня потемнело, и мне показалось, что даже дыхание у меня прервалось. Действительно, в ту минуту я как бы потерял сознание. Когда я наконец пришел в себя, оказалось, что товарищи, видя, как я изменился в лице, и опасаясь, что я упаду вместе со стулом, столпились вокруг меня и суетились, кто поднося мне воду, кто предлагая лекарство. Но голова у меня была так забита новым сомнением, что я не в силах был даже поблагодарить их. Не убил ли я жену ради того, чтобы убить? Не убил ли я ее, опасаясь, что, и придавленная балкой, вдруг она все же спасется? Если бы я оставил ее, не убивая, может быть, она, как та хозяйка «Бйнгоя», благодаря какой-нибудь случайности могла бы чудом спастись? И ее я безжалостно убил кирпичами... Как я страдал от этой мысли, прошу сэнсэя представить себе самому. И в этих страданиях я принял решение хоть немного очиститься, по крайней мере отказавшись от разговоров с семьей Н. о браке.
Однако, когда пришло время покончить с делом, решимость, доставшаяся мне с таким трудом, к сожалению, опять поколебалась. Ведь речь шла о том, чтобы в такую пору, когда приближается срок свадьбы, вдруг заявить об отказе, а для этого следовало прежде всего раскрыть обстоятельства совершенного мною во время землетрясения убийства жены, а также мое мучительное душевное состояние перед отказом. И когда наступила решительная минута, у меня, малодушного, как я себя ни подстегивал, не хватило мужества выполнить задуманное. Сколько раз корил я себя самого за трусость. Но корил тщетно и ни одного должного шага не делал, а тем временем последнее летнее тепло сменилось утренним холодком, и вот уже совсем немного оставалось до дня свадьбы.
В это время я даже редко с кем-нибудь разговаривал. Не один из моих товарищей говорил мне: «Не отложить ли день свадьбы?» И директор целых три раза советовал мне: «Не пойти ли показаться врачу?» Но у меня тогда, в ответ на такие сердечные речи, уже не хватало энергии, чтобы хоть внешне позаботиться о своем здоровье. И в то же время мне казалось, что воспользоваться беспокойством товарищей и под предлогом болезни отложить свадьбу теперь только трусливая полумера. Вдобавок, с другой стороны, глава семьи господин Н. ошибочно полагал, будто моя мрачность объясняется влиянием холостой жизни. Он все время настаивал:
217
как можно скорей женись, — и в конце концов яг дал согласие на бракосочетание, правда, в другой день, но в том же месяце — в октябре, в котором два года назад произошло землетрясение; местом был выбран особняк семьи Н. Когда, изнуренного непрестанными душевными терзаниями, облаченного в жениховскую одежду с гербами, меня привели в зал, где вдоль стен были расставлены импозантные золотые ширмы, как стыдился я самого себя! Мне казалось, будто я негодяй, который украдкой от людей готов совершить злодейство. Нет, не «будто». Я на самом деле был извергом, который, скрыв совершенное им преступление — убийство, теперь замышляет украсть у семьи Н. дочь я состояние. Лицо мое залила краска, сердце мучительно сжалось. И мне захотелось, если будет возможность, тут же честно признаться в том, как я убил жену. Этот порыв бурей забушевал у меня в душе. В это время на татами прямо перед тем местом, где я сидел, словно во сне появились белые атласные таби. За ними показалось кимоно, на подоле которого, на фоне волнистого неба, как в тумане, вырисовывались сосны и цапли. Потом глазам моим представился пояс из золотой парчи, серебряная цепочка, белый воротничок и далее высокая прическа, в которой тускло блестели черепаховые гребни и шпильки. Когда я все это увидел, горло мне сжал смертельный страх, и, с трудом переводя дыхание, я, не помня себя, низко склонился, положил руки на татами и отчаянным голосом крикнул: «Я убийца! Я ужасный преступник!..»
* * *
Закончив этими словами рассказ, Накамура Гэндо некоторое время пристально смотрел на меня и потом с вымученной улыбкой на губах:
— Что было дальше, незачем рассказывать. Единственное, что я хочу вам сказать, это что я до нынешнего дня принужден доживать свою жалкую жизнь, слывя сумасшедшим. Действительно ли я сумасшедший, это я всецело оставляю на суд сэнсэя. Но если я и сумасшедший, то не сделало ли меня им чудовище, которое у нас, людей, таится в самой глубине души? Пока живо это чудовище и среди тех, кто сегодня насмешливо зовет меня сумасшедшим, завтра может появиться такой же сумасшедший, как я... Так я думаю, но не знаю...
Между мной и моим жутким гостем по-прежнему в весеннем холодке колебалось тусклое пламя лампы. Не забывая о том, что позади «Ивовая Каннон», я даже не смел спросить, отчего у него нет одного пальца, и мог лишь сидеть и молчать.
Июнь 1919 г.
218
1
Дзюриано Китискэ был родом из деревни Ураками уезда Синоки провинции Хидзэн. Рано лишившись отца и матери, он с малых лет поступил в услужение к местному жителю Отона Сабу-рбдзи. Но, отроду придурковатый, он постоянно служил посмешищем для товарищей, которые помыкали им, как скотом, и принуждали выполнять самую тяжелую работу.
Этот Китискэ в возрасте восемнадцати — девятнадцати лет влюбился в единственную дочь Сабуродзи — Канэ. Канэ, разумеется, не обращала внимания на чувства слуги. Вдобавок злые товарищи, быстро все подметившие, стали еще больше над ним издеваться. При всей своей глупости, Китискэ, видимо, стало невмоготу терпеть эти мучения, и однажды ночью он потихоньку бежал из ставшего родным дома.
С тех пор в течение трех лет о Китискэ не было ни слуху ни Духу.
Однако потом он нищим оборванцем снова вернулся в деревню Ураками. И опять стал служить в доме у Сабуродзи. Теперь он не принимал к сердцу презрение товарищей и только старательно работал. Дочери хозяина Канэ он был предан как собака. Канэ уже была замужем и жила с мужем на редкость счастливо.
Так без всяких происшествий миновали год-два. Но тем временем товарищи почуяли в поведении Китискэ что-то подозрительное. Одержимые любопытством, они принялись внимательно следить за ним. И действительно, обнаружили, что по утрам и вечерам он крестит себе лоб и шепчет молитву. Они сейчас же донесли об этом хозяину. Видимо, опасаясь плохих для себя последствий, Сабуродзи тотчас препроводил Китискэ в управление деревни Ураками.
Когда стражники вели его в нагасакскую тюрьму, он не выказывал никаких признаков страха. Нет, как говорит легенда, глуповатое лицо Китискэ в это время исполнено было такого удивительного величия, что можно было подумать, будто его озаряет небесный свет.
2
Приведенный к судье, Китискэ открыто признался в том, что принадлежит к секте христиан. Тогда между ним и судьей состоялся такой диалог:
Судья. Как называются боги твоей секты?
219
Китискэ. Принц страны Бэрэн, Эсу Киристо-сама, а также принцесса соседнего царства Санта-Мария-сама.
Судья. Какого же они вида?
Китискэ. Эсу Киристо, являющийся нам во сне, красивый юноша, облаченный в лиловое офурисодэ. Принцесса Санта-Мария в каидори, расшитом золотом и серебром.
Судья. Какие же основания к тому, что они стали богами этой секты?
Китискэ. Эсу Киристо-сама влюбился в принцессу Санта-Мария, умер от любви и потому стал богом, помышляя спасти тех, кто страдает так же, как он.
Судья. Откуда и от кого ты принял такое учение?
Китискэ. В течение трех лет я скитался по равным местам. И тогда на берегу моря меня просветил незнакомый мне рыжеволосый человек.
Судья. Какой обряд был совершен при твоем посвящении?
Китискэ. Я принял святую воду и был наречен Дзюриано.
Судья. А куда направился потом тот рыжеволосый человек?
Китискэ. Это дивная вещь. Он ступил на бурные волны и куда-то скрылся.
Судья. Твой конец близок, а ты рассказываешь небылицы! Смотри, тебе плохо придется.
Китискэ. Я не лгу. Все чистая правда.
Судье речи Китискэ показались странными. Они совершенно расходились с речами христиан, которых он допрашивал раньше. Однако сколько он ни допрашивал Китискэ со всей строгостью, тот упорно не отступал от того, что сказал раньше.
3
Согласно законам страны, Дзюриано Китискэ в конце концов был приговорен к распятию.
В назначенный день его провели по всему городу, а затем на лобном месте безжалостно пригвоздили к кресту. Крест вырисовывался силуэтом на фоне неба высоко над окружающей бамбуковой оградой. Подняв взор к небу и громким голосом возглашая молитву, Китискэ бесстрашно перенес удары копий палачей. Когда он начал молиться, в небе над его головой сгустились клубы туч и на лобное место потоками хлынул ужасающий дождь. Когда небо опять прояснилось, распятый Дзюриано Китискэ уже испустил дух. Но тем, кто стоял за оградой, казалось, что в воздухе еще разносится его голос, творящий молитву.
220
Это была простая, бесхитростная молитва: «О принц страны Бэрэн, где ты теперь? Слава тебе!»
Когда его тело сняли с креста, палачи изумились: оно источало дивный аромат. А изо рта у него, сияя свежей белизной, расцвела лилия.
Такова жизнь Дзюриано Китискэ, как она рассказана в «На-гасаки-тёмонсю», «Кокё-идзи», «Кэйко-хайсёкудан» и так далее. И из всех японских мучеников веры это жизнь моего самого любимого святого глупца.
Август 1919 г.
Был дождливый осенний вечер. Рикша, который вез меня, бежал то вверх, то вниз по крутым холмам предместья Омори. Наконец он остановился и опустил оглобли перед маленьким домиком европейского типа, спрятавшимся посреди бамбуковой рощи.
В тесном подъезде, где серая краска давно облупилась и висела, как лохмотья, я прочел надпись, сделанную японскими знаками на новой фарфоровой дощечке: «Индиец Матирам Мисра».
Теперь, должно быть, многие из вас знают о Матираме Мисре. Мисра-кун, патриот, родом из Калькутты, был горячим поборником независимости Индии. В то же время он был великим мастером искусства магии, изучив ее тайны под руководством знаменитого брахмана Хассан-хана.
За месяц до этого один мой приятель познакомил меня с Мис-рой-куном. Мы с ним много спорили по разным политическим вопросам, но мне еще не довелось видеть, как он совершает свои удивительные магические опыты. И потому, послав ему заранее письмо с просьбой показать мне нынче вечером чудеса магии, я взял рикшу и поехал в унылое предместье Омори, где проживал тогда Мисра-кун.
Стоя под проливным дождем, я при тусклом свете фонаря отыскал под фамильной дощечкой звонок и нажал кнопку. Мне сразу отперли. Из дверей высунулась низкорослая старушка-японка, бывшая в услужении у Мисры-куна.
— Господин Мисра дома?
— Как же, как же, пожалуйте! Он давно вас поджидает.
С этими радушными словами старушка прямо из прихожей провела меня в комнату Мисры-куна.
— Добрый вечер! Очень любезно с вашей стороны, что вы приехали в такой дождь!
221
Смуглолицый и большеглазый, с мягкими усами, Мисра-кун оживленно приветствовал меня, припуская фитиль в стоявшей на столе керосиновой лампе.
— Нет, право, ради того чтобы посмотреть чудеса вашего искусства, я готов приехать в любую погоду. Стоит ли говорить о дожде!
Я опустился на стул и оглядел слабо освещенную керосиновой лампой мрачную комнату.
Бедная обстановка в европейском стиле. Посередине большой стол, возле стены удобный книжный шкаф, столик перед окном... Да еще два стула для нас, вот и все. И стулья и столы — старые, обшарпанные. Даже нарядная скатерть с вытканными по краю! красными цветами истрепалась до того, что кое-где плешинами обнаружилась основа.
Но вот обмен приветствиями закончился. Некоторое время я безотчетно слушал, как шумит дождь в бамбуковой роще. Вскоре опять появилась старая служанка и подала нам по чашке зеленого чая.
Мисра-кун открыл коробку с сигарами:
— Прошу вас, возьмите сигару!
— Благодарю!
Я без дальнейших церемоний выбрал сигару и, зажигая ее, сказал:
— Наверно, подвластный вам дух называется джинном. А скажите, это при его помощи будут совершены чудеса магии, которые я сейчас увижу?
Мисра-кун тоже закурил сигару и, лукаво посмеиваясь, выпустил струйку ароматного дыма.
— В джиннов верили много столетий назад. Ну, скажем, в эпоху «Тысячи и одной ночи». Магия, которой я обучался у Хас-сан-хана, — не волшебство. И вы могли бы делать то же, если б захотели. Это всего лишь гипноз, согласно последнему слову науки. Взгляните! Достаточно сделать рукою вот так...
Мисра-кун поднял руку и два-три раза начертил в воздухе перед моими глазами какое-то подобие треугольника, потом поднес руку к столу и сорвал красный цветок, вытканный на краю скатерти. Изумившись, я невольно придвинул свой стул поближе и начал внимательно разглядывать цветок. Сомнения не было; только сейчас он составлял часть узора. Но когда Мисра-кун поднес этот цветок к моему носу, на меня повеяло густым ароматом, напоминавшим запах мускуса.
Я так был поражен, что не мог сдержать возгласа удивления. Мисра-кун, продолжая улыбаться, будто случайно уронил цветок на стол, И не успел цветок коснуться скатерти, как снова слился
222
с узором. Сорвать этот цветок? Да разве можно было теперь хотя бы пошевелить один из его лепестков!
— Ну, что скажете? Невероятно, правда? А теперь взгляните-ка на эту лампу.
С этими словами Мисра-кун слегка передвинул стоявшую на столе лампу. И в тот же миг, неизвестно почему, лампа вдруг завертелась волчком, причем осью вращения служило ламповое стекло. Сперва я даже перепугался, сердце у меня так и замирало при мысли, что вот-вот вспыхнет пожар. А тем временем Мисра-кун с самым беззаботным видом попивал чай. Испуг мой понемногу прошел, и я стал, не отрывая глаз, смотреть, как лампа вертится все скорее и скорее.
Это в самом деле было красивое, поразительное зрелище! Абажур в своем стремительном круженье поднял ветер, а желтый огонек хотя бы раз мигнул!
Лампа, наконец, начала вертеться с такой быстротой, что мне показалось, будто она стоит на месте. Мгновение — и я понял: она, как прежде, неподвижно стоит посреди стола. Ламповое стекло даже не накренилось.
— Вы изумлены? А ведь это фокусы для детей! Но если хотите, я покажу вам еще кое-что.
Мисра-кун обернулся и поглядел на книжный шкаф. Потом протянул к нему руку и словно кого-то поманил пальцем. Вдруг книги, тесным строем стоявшие в шкафу, зашевелились и одна за другой стали перелетать на стол. На лету они широко распахивали створки переплета и легко реяли в воздухе, как летучие мыши летним вечером. Я как был с сигарой в зубах, так и оцепенел от неожиданности. Книги свободно кружились в кругу тусклого света над лампой, а затем друг за дружкой, в строгом порядке, стали ложиться на стол, пока перед нами не выросла целая пирамида. И в том же строгом порядке стали по очереди, от первой до последней, перелетать в шкаф.
И вот что было любопытней всего! Одна из книг в тонкой бумажной обложке вдруг раскрылась так, словно у нее распустились крылья, и взмыла к самому потолку. Некоторое время она описывала круги над столом — и вдруг, шурша страницами, стремительно упала мне на колени. «В чем тут дело?» — подумал я и бросил взгляд на обложку. Это был новый французский роман, который неделю назад я дал почитать Мисре-куну.
— Позвольте вернуть вам с благодарностью, — все еще улыбаясь, любезно сказал мне Мисра-кун.
Все книги уже успели перелететь обратно в шкаф. Я будто от сна очнулся и с минуту не мог вымолвить ни слова. Вдруг мне
223
припомнилось, что сказал Мисра-кун: «И вы могли бы делать то же, если б захотели».
— Да, я слышал о вас много удивительного. И все же, должен сознаться, ваше искусство превзошло мои ожидания. Но вы сказали, что и я могу научиться этому искусству. Вы, вероятно, пошутили?
— Уверяю вас, нет! Каждый может обучиться магии без особого труда. Но только...
Пристально глядя мне в лицо, Мисра-кун вдруг перешел на серьезный тон.
— Только не человек, одержимый корыстью! Если вы правда хотите научиться искусству Хассан-хана, вам нужно сначала победить в себе корыстолюбие. В вашей ли это власти?
— Надеюсь, что так, — ответил я. Но, почувствовав в душе некоторую неуверенность поспешил добавить: — Лишь бы вы согласились стать моим наставником!
Лицо Мисры-куна продолжало выражать сомнение. Но, видно, он подумал, что упорствовать дальше было бы неучтиво, и наконец великодушно согласился.
— Ну что ж, буду вас учить. Наука простая, но так сразу она не дается, нужно время. Оставайтесь сегодня ночевать у меня.
— О, я бесконечно вам признателен!
Вне себя от радости, что буду учиться искусству магии, я рассыпался в благодарности. Но Мисра-кун, словно ничего не слыша, спокойно поднялся со стула и позвал:
— Бабушка! Бабушка! Гость сегодня ночует у нас. Приготовьте ему постель.
Сердце у меня сильно забилось. Позабыв стряхнуть пепел с сигары, я невольно поднял глаза и поглядел в упор на Мисру-куна, на его приветливое лицо, озаренное светом лампы.
* * *
Прошел месяц с тех пор, как я начал учиться магии у Мисры-куна. В точно такой же дождливый вечер я вел легкий разговор с несколькими друзьями, сидя возле пылающего камина в комнате одного из клубов на улице Гиндза.
Как-никак это было в центре Токио, и потому шум дождя, лившегося потоком на крыши бесчисленных автомобилей и экипажей, не казался столь печальным, как тогда в бамбуковой чаще Омори.
Да и клубная комната выглядела такой веселой: яркий электрический свет, большие кресла, обтянутые кожей, гладкий сверкающий паркет — все это было так непохоже на мрачную комнату Мисры-куна, где, казалось, вот-вот появятся привидения...
224
Мы беседовали в облаках сигарного дыма о скачках и охоте. Один из приятелей небрежно бросил окурок сигары в камин и повернулся ко мне.
— Говорят, последнее время вы занимаетесь магическими опытами. Не покажете ли нам что-нибудь?
— Что ж, пожалуй, — ответил я, запрокинув голову на спин-ку кресла, таким самоуверенным тоном, словно был уже великим магом.
— Тогда покажите что угодно — по вашему выбору. Но пусть это будет чудо, недоступное обыкновенному фокуснику.
Все поддержали его и придвинули стулья поближе, словно приглашая меня приступить к делу. Я медленно поднялся с места.
— Смотрите внимательно. Искусство магии не требует никаких уловок и ухищрений!
Говоря это, я завернул манжеты рубашки и спокойно сгреб в ладони несколько раскаленных угольков из камина. Но даже и эта безделица насмерть перепугала зрителей. Они невольно подались назад из страха, что обожгутся.
Я же, сохраняя полное спокойствие, некоторое время показывал, как пылают на моих ладонях угли, а потом разбросал их по паркету. И вдруг, заглушая шум дождя за окнами, по всему полу словно забарабанили тяжелые капли... Огненные угольки, вылетая из моих рук, превращались в бесчисленные сверкающие червонцы и золотым дождем сыпались на пол. Приятелям моим казалось, будто они видят сон. Они забыли даже аплодировать.
— Ну вот вам — сущий пустячок!
И я, улыбаясь с видом победителя, спокойно сел в свое кресло.
— Послушайте, неужели это настоящие червонцы? — спросил минут через пять один из моих пораженных изумлением друзей.
— Самые настоящие червонцы. Если не верите, попробуйте возьмите их в руки.
— Ну уж нет! Кому охота обжечься?
И все же один из зрителей боязливо поднял с пола червонец и воскликнул:
— В самом деле — чистое золото, без обмана! Эй, официант, принеси метелку и совок и подбери все монеты с пола.
Официант, как ему было приказано, собрал в совок золотые и высыпал их горкой на стол. Мои приятели сгрудились тесной толпой.
— Ого, здесь, пожалуй, наберется тысяч на двести иен!
— Нет, нет, больше. Хорошо, что попался крепкий стол, а то не выдержал бы, подломился.
8 Акутагава Рюноскэ
225
— Нечего и говорить, вы научились замечательному волшебству. Подумать только, в один миг превращать угли в золотые монеты!
— Да этак и недели не пройдет, как вы станете архимиллионером, под стать самому Ивасаки или Минуй.
Зрители наперебой восхищались моим искусством, а я, откинувшись на спинку кресла, дымил сигарой.
— О нет, используй я хоть однажды искусство магии ради низкой корысти, во второй раз ничего бы не получилось. Вот и эти червонцы... если вы уж довольно нагляделись на них, я сейчас же брошу обратно, в камин.
Услышав эти слова, приятели дружно запротестовали, словно сговорились.
— Такое огромное богатство снова превратить в уголья, да ведь это неслыханная глупость! — повторяли они.
Но я упрямо стоял на своем: непременно брошу червонцы обратно в камин, как обещал Мисре-куну. Но вдруг один из приятелей, как говорили, самый хитрый из всех, сказал, ехидно посмеиваясь себе под нос:
— Вы хотите превратить эти червонцы снова в угли. А мы не хотим. Этак мы никогда не кончим спорить. Вот что я придумал: сыграйте-ка с нами в карты! Пусть эти червонцы будут вашей ставкой. Останетесь в выигрыше — что ж, распоряжайтесь ими, как вам будет угодно, превращайте их снова в угли. Ну, а если выиграем мы, отдайте нам все золотые в полной сохранности. И спор наш, в любом случае, закончится к обоюдному согласию!
Но я отрицательно потряс головой. Нелегко было меня уговорить. Тут приятель мой стал смеяться еще более ядовито, хитро поглядывая то на меня, то на груду червонцев.
— Вы отказываетесь сыграть в карты, чтобы не отдать нам эти червонцы. А еще говорите: победили корысть, чтобы совершать чудеса! Ваша благородная решимость что-то теперь кажется сомнительной, не так ли?
— Поверьте, я превращу эти золотые в угли совсем не потому, что пожалел отдать их вам...
Мы без конца повторяли свои аргументы, и наконец меня, что называется, к стенке приперли. Пришлось согласиться поставить червонцы на карту, как требовал приятель. Само собой, все страшно обрадовались. Где-то раздобыли колоду карт и, тесным кольцом обступив картежный столик, стоявший в углу, стали наседать на меня:
— Ну же! Ну, скорее!
Вначале я вел игру нехотя, без увлечения. Обычно мне не везет в карты. Но в этот вечер мне почему-то фантастически везло.
226
Играя, я постепенно увлекся. Не прошло и десяти минут, как, позабыв обо всем на свете, я по-настоящему вошел в азарт.
Партнеры мои, конечно, затеяли этот карточный поединок с целью завладеть моим золотом. Но по мере того, как рос их проигрыш, они словно обезумели и с побелевшими лицами повели против меня самую отчаянную игру. Все их усилия были напрасны! Я ни разу не проиграл. Напротив! Я выиграл почти столько же золотых, сколько у меня было сперва. Тогда тот же самый недобрый приятель, подбивший меня на игру, крикнул, безумным жестом разметав передо мной карты:
— Вот. Вытащите карту! Я ставлю все свое состояние — земли, дом, лошадей, автомобиль, все, все без остатка! А вы поставьте все ваши червонцы и весь ваш выигрыш. Тяните же!
В этот миг во мне загорелась жадность. Если я сейчас, на свою беду, проиграю, то, значит, должен буду отдать ему мою гору червонцев, да еще весь мой выигрыш в придачу? Но зато уж если выиграю, все богатство моего приятеля сразу перейдет ко мне в руки! Стоило, в самом деле, учиться магии, если не прибегнуть к ней в такую минуту!
При этой мысли я уже не в силах был владеть собой и, тайно пустив в ход магические чары, сделал вид, что наконец решился:
— Ну, хорошо! Тяните карту вы первый.
— Девятка.
— Король! — торжественно воскликнул я и показал свою карту смертельно побледневшему противнику.
Но в то же мгновение — о чудо! — карточный король словно ожил, поднял свою увенчанную короной голову и высунулся по пояс из карты. Церемонно держа меч в руках, он зловеще усмехнулся.
— Бабушка! Бабушка! Гость собирается вернуться домой. Не надо готовить ему постели, — прозвучал хорошо знакомый голос.
И тотчас же, неизвестно отчего, дождь за окном так уныло зашумел, словно он падал тяжелыми, дробными каплями там, в бамбуковых зарослях Омори.
Я вдруг опомнился. Поглядел вокруг. По-прежнему я сидел против Мисры-куна, а он, в неярком свете керосиновой лампы, улыбался, как тот карточный король.
Еще и пепел не упал с сигары, зажатой у меня между пальцами. Мне казалось, что прошел целый месяц, а на самом деле я видел сон и этот сон длился всего две-три минуты. Но за этот короткий срок мы оба ясно поняли, что я не тот человек, кому можно открыть тайны магии Хассан-хана.
Низко опустив голову от смущения, я не проронил ни слова.
8*
227
— Прежде чем учиться у меня искусству магии, надо победить в себе корыстолюбие. Но даже этот один-единственный искус оказался вам не под силу, — мягко, с видом сожаления, упрекнул меня Мисра-куи, положив локти на стол, покрытый скатертью с каймой из красных цветов.
10 ноября 1919 г.
Сегодня вечером я собираюсь в один присест написать рассказ: завтра истекает срок представления рукописи. Я не просто собираюсь, я должен написать его обязательно. Если же вам интересно, о чем я буду писать, придется прочитать то, что следует ниже.
* * *
В одном из кафе вблизи Дзимботе на Канда служит официантка по имени Окими. Говорят, что лет ей пятнадцать — шестнадцать, но выглядит она взрослее. Лицо белое, глаза ясные, и, хотя нос у нее чуть вздернут, она первостатейная красавица. Волосы у Окими расчесаны на прямой пробор, и к ним приколота незабудка. Так и стоит Окими в своем белом фартуке перед пианолой, словно только что сошла с картины Такэхпса Юмэдзи-куна. Завсегдатаи кафе прозвали ее «популярный роман», — видимо, они имели на то свои причины. Были у нее и другие прозвища. За цветок в волосах ее называли «незабудка», за сходство с американской киноактрисой — «мисс Мери Пикфорд», за то, что она неотъемлемая часть кафе, — «пиленым сахаром», и все в таком духе.
Кроме Окими, в кафе есть еще одна официантка, постарше. Зовут ее Оману. В красоте она не соперница Окими. Разница между ними, как между белым и черным хлебом. Соответственно и чаевые у них разные, хотя служат они в одном кафе. Это не давало покоя Омацу. Ее недовольство росло, а вместе с ним и подозрительность.
Как-то летом в послеобеденное время один из посетителей, с виду студент института иностранных языков, сидел за одним из столиков Омацу и, держа во рту папиросу, пытался закурить. Как назло, на соседнем столе стоял вентилятор, и не успевал молодой человек поднести спичку к папиросе, как ее гасило сильной струей воздуха. Проходившая мимо его столика Окими остановилась, чтобы загородить собой вентилятор. Студент прикурил, его загорелое лицо расплылось в улыбке, и он сказал: «Спасибо». Такая любезность Окими была, конечно, замечена ее соперницей. Тогда Омацу, стоявшая у кассы, подняла поднос с мороженым, который надо
228
было отнести в ту сторону, где сидел молодой человек, и, зло глядя в лицо Окими, с очаровательным женским ехидством произнесла:
— Эй, отнеси-ка ты!
Такие ссоры случались несколько раз в неделю, поэтому Окими почти не разговаривала с Омацу. Она обычно стояла перед пианолой и молча расточала улыбки студентам, которых тут собиралось немало, или посылала молчаливые проклятия раздражавшей ее Омацу.
Ревность Омацу, однако, не была единственной причиной взаимной неприязни девушек. Окими в. глубине души презирала Омацу еще и за то, что у нее не было вкуса. Да и не могло быть, ибо по окончании начальной школы Омацу ничем не интересовалась, кроме песенок нанивабуси, бобов мицумамэ и мужчин. В этом Окими была уверена.
Ну, а чтобы узнать, каковы интересы самой Окими, надо на время покинуть шумное кафе и подняться на второй этаж дома, который стоит неподалеку от кафе, в глубине аллеи. Владелица его — дамская парикмахерша. Дело в том, что Окими снимает у нее жилье и все свободное от работы время проводит там.
У нее комната в шесть татами, с низким потолком. Из выходящего на запад окна видна только черепичная крыша. У окна — придвинутый к стене стол, покрытый ситцевой материей. Его, собственно, лишь ради удобства, условно можно назвать столом, в сущности же это старомодный чайный столик. На этом старинном чайном столике-столе лежат книги в европейских переплетах, их тоже не назовешь новыми. Ну, к примеру, «Кукушка», «Сборник стихов Тбсона», «Жизнь Мацуи Сумако», «Новое Асагао-никки», «Кармен», «Если посмотреть с высоты гор на долину» и еще несколько женских журналов — вот и все. Хоть бы найти там один-единственный экземпляр моих рассказов. Увы! Рядом со столом — буфетик с облупившимся лаком. На нем стеклянная ваза с узким горлышком для цветов. В вазу с особым изяществом вставлена искусственная лилия с оторванным лепестком. Легко догадаться, что эта лилия, будь у нее целы лепестки, по сей день красовалась бы на столике в кафе. Над буфетом к стене было приколото кнопками несколько картинок, похожих на журнальные фронтисписы. В центре — рисунок художника Кабураги Киёката-куна «Женщина Гэнрбку», а чуть пониже — небольшая по размеру «Мадонна» Рафаэля или что-то в этом роде. Немного выше «Женщины Гэн-року» открытка со скульптурой женщины работы Китамура Си-кай-куна. Женщина бросает лукавые взгляды на Бетховена. Впрочем, только Окими думает, что это Бетховен. На самом деле это американский президент Вудро Вильсон, и остается лишь посочувствовать бедному Китамура Сикай.
229
Теперь, я думаю, вполне понятно, насколько насыщена духовная жизнь Окими литературой и искусством. И действительно, изо дня в день, возвратись поздно вечером из кафе, Окими садится под портретом Бетховена-Вильсона, непременно читает «Кукушку» и любуется искусственной лилией. Все это действует на ее сентиментальность гораздо сильнее, чем, например, сцены лунной ночи в трагедийных кинофильмах стиля «симпа».
Однажды вечером в пору цветения вишни Окими в одиночестве сидела за столом и почти до первых петухов усердно писала письмо на почтовой бумаге розового цвета. Закончив, она не заметила, что один листок упал под стол. Не хватилась она его и утром, уходя на работу в кафе. Весенний ветер, влетевший в окно, подхватил листок и бросил под лестницу, на которой стояли два зеркала в хлопчатобумажных чехлах шафранового цвета. Хозяйка, жившая на первом этаже, знала о любовных письмах, нередко попадавших в руки Окими. Потому приняла розовый листок за одно из таких писем и из любопытства пробежала его глазами. Неожиданно для себя она обнаружила, что это написано рукой Окими. Быть может, это ответ Окими на любовное послание? Она стала внимательно читать. А написано было вот что: «Когда я думаю о Вашем расставании с Таэко-саном, грудь моя разрывается от рыданий». Как и следовало ожидать, Окими почти всю ночь сочиняла письмо — соболезнование госпоже Намико.
Должен признаться, что, описывая этот эпизод, я не мог сдержать улыбки в адрес сентиментальной Окими. Но в моей улыбке не было и капли ехидства.
В комнате Окими, кроме искусственной лилии, «Сборника стихов Тосона» и рафаэлевской «Мадонны», была еще всякая утварь, необходимая для приготовления пищи. Кто знает, сколько ударов в прошлом нанесла Окими суровая действительность токийской жизни, символом которой и была сейчас эта утварь! Но даже при одинокой тяжелой жизни, когда смотришь на все сквозь пелену слез, изредка перед глазами открывается прекрасный мир. Окими пыталась уйти от действительности, проливая слезы восторга, который она испытывала перед литературой и искусством. Тогда она забывала, что надо платить шесть иен в месяц за комнату и семьдесят сэиов за одно сё риса... Кармен не тревожит плата за электричество, она беспечно танцует, щелкая кастаньетами. Госпожа Намико, конечно, страдает, но положение у нее не таково, чтобы нечем было заплатить даже за лекарства. Короче говоря, слезы Окими тихо и скромно зажигали свет человеческой любви, когда опускались сумерки страданий. Представишь себе фигуру Окими глубокой ночью, когда на улицах Токио замирают все звуки, а она в одиночестве, при тусклом свете деся-
230
тпсвечовои лампочки, подняв мокрые от слез глаза, грезит то о буре в Дзуси, то об олеандровых рощах Кордовы, и, черт возьми, не только пропадает предубеждение против нее, но даже сам становишься сентиментальным, чуть только позволишь себе распуститься. И это я, сугубо рассудочный человек, которого критики издавна считают существом, лишенным лиричности!
Как-то зимним вечером эта самая Окими, поздно вернувшись домой с работы, сначала, как всегда, села за стол и стала читать не то «Жизнь Мацуи Сумако», не то еще что-то, но, не прочитав и страницы, вдруг безжалостно бросила книгу на циновку, видимо, утратив к ней интерес по какой-то причине. Затем, повернувшись вполоборота, облокотилась.о стол и, подперев щеки руками, стала холодно и рассеянно глядеть на портрет Бетховена-Вильсона, что висел на стене. Ничего подобного с ней до сих пор не случалось. Может быть, Окими уволили с работы? Или издевательства Омацу стали еще отвратительнее? Нет, не то. Тогда, возможно, у нее разболелись зубы? Нет, нет и нет. То, что тревожило сердце Окими, было не таким заурядным событием. Подобно госпоже Намико или Мацуи Сумико, Окими страдала от любви. Кому же отдала она свое сердце? Пользуясь тем, что Окими какое-то время будет сидеть неподвижно, рассматривая Бетховена на стене, я бегло представлю вам предмет ее любви.
Другом Окими был Танака-кун — неизвестный... ну, скажем, художник. Дело в том, что у него была масса талантов, он мог сочинять стихи, играть на скрипке и на сацумскои бива, писал маслом, выступал на сцене и искусно играл в карты со стихами. А коль скоро он одарен был всеми этими талантами, никто не мог точно определить, что его главное занятие, а что баловство. К тому же человеком он был весьма своеобразным. Лицо у него было бесстрастное, как у артиста, волосы блестели, словно кисть, которую обмакнули в масляную краску, голос нежный, как скрипка, речь трогательна, словно стихи. Он очаровывал женщин так же ловко и проворно, как играл в карты со стихами, занимал деньги, не намереваясь их отдать, так же смело и свободно, как пел, перебирая струны сацумского бива. Если добавить, что он носил черную широкополую шляпу, дешевенький охотничий костюм, и зеленый галстук в стиле богемы, то этого, пожалуй, вполне достаточно, чтобы составить о нем представление. Кажется мне, что люди, подобные Танака, — это определенный тип, их непременно увидишь в баре или кафе в районах Канда и Хонго, на концерте в молодежном клубе или музыкальной школе, причем на самых дешевых местах; на выставке в картинных галереях Кабутоя и Санкайдо они надменно, свысока рассматривают публику. Поэтому, если вам захочется получить более четкое представление о Танака, отправляй-
231
тесь в указанные места, а меня увольте от дальнейшего описания. Прежде всего хотя бы потому, что, пока я знакомил вас с Танака, Окими уже успела встать и сейчас смотрит на холодную лунную ночь, раскинувшуюся за окном.
Луна, повисшая над черепичной крышей, освещает искусственную лилию в стеклянной вазе с узким горлышком, маленькую «Мадонну» Рафаэля, приклеенную к стене, вздернутый носик Окими. Но в ясных глазах Окими не отражается лунный свет. Для нее словно и не существует черепичная крыша, покрытая инеем. Сегодня вечером Танака проводил ее от кафе до дома. И даже пообещал, что завтра вечером они весело проведут время вдвоем. Завтра как раз выходной день.Окими, который бывает раз в месяц, и Танака сказал, что они встретятся вечером в шесть часов у остановки трамвая на Огавамати, а оттуда пойдут в Сйбау-ра смотреть итальянский цирк. Окими не помнит, чтобы когда-либо раньше она гуляла с мужчиной. Как подумает, что завтра вечером у всех на глазах они вместе с Танака, словно влюбленные, отправятся смотреть вечернее цирковое представление, сердце у нее начинает часто-часто биться. Танака для Окими все равно что Али-Баба, знающий магическое слово, с помощью которого можно проникнуть в пещеру с сокровищами. Какой неизведанный мир наслаждений откроется перед Окими, после того как прозвучит это заветное слово.
В своем сердце, волнующемся, как море, вздыбленное ветром, стучавшем, как мотор готового помчаться автомобиля, Окими, давно уже смотревшая на луну и не видевшая ее, рисовала этот непостижимый мир, который должен был раскрыться перед ней. Там, на дороге, усеянной розами, без числа разбросаны кольца из искусственного жемчуга, застежки для пояса из поддельного нефрита. Откуда-то сверху, с Мицукоси, словно струйка меда, льется сладостная трель словья. Вот-вот, кажется, наступит кульминационный момент танца мистера Дугласа Фербенкса и мадемуазель Мори Рицуко в большом мраморном дворце, благоухающем оливами...
Я кое-что, однако, добавлю, и это сделает честь Окими. Среди видении, которые она себе рисовала, изредка зловещей тенью проплывало черное облако, как бы угрожая ее счастью. Да, Окими, несомненно, любила Танака. Но того Танака, которого окружил сияющим ореолом ее восторг перед литературой и искусством. Это был сэр Ланселот, который мог сочинять стихи, играл на скрипке и на сацумском бива, писал маслом, выступал на сцене, искусно играл в карты со стихами. Нельзя поэтому сказать, что своей безыскусной девичьей интуицией она не угадывала в этом Ланселоте крайне подозрительную сущность. Тревожная тень черного облака
232
временами омрачала грезы Окими. Но, не успев появиться, она, к сожалению, тут же исчезала. Какой бы взрослой ни казалась Окими, ей было всего шестнадцать — семнадцать лет. Совсем еще девочка, притом поклонявшаяся литературе и искусству. Не удивительно также, что она почти не замечала черных облаков, если не считать открытку «Заход солнца над Рейном», которой Окими постоянно восхищалась. Если и замочит дождем, не велика важность. Тем более сейчас, когда на дороге, усеянной розами, рассыпаны кольца из искусственного жемчуга, застежки для пояса из поддельного нефрита и многое другое, о чем написано выше; прошу вас перечитать то место.
Подобно святой Женевьеве Шаванна, Окими долго стояла, глядя на белую от лунного света черепичную крышу. Затем вдруг чихнула, с шумом закрыла окно и снова бочком села к столу. Что делала Окими потом, до шести часов вечера следующего дня, я, к сожалению, точно не знаю. «Почему же ты, автор, не знаешь?» — спросите вы, можете даже потребовать: «Скажи об этом честно!» Но дело в том, что всю ночь я должен был писать этот рассказ. Потому и не знаю.
В шесть часов вечера на следующий день, накинув кремовую шаль поверх своего видавшего виды сомнительно коричневого цвета пальто, Окими суетливей, чем обычно, отправилась к трамвайной остановке на Огавамати, окутанной сумерками. Танака уже ждал ее, неподвижно стоя под красным светом фонаря, как всегда в черной широкополой шляпе, надвинутой на глаза, держа под мышкой тросточку с никелированной головкой и подняв воротник полупальто в крупную полоску. Его и без того гладкое лицо было тщательно выскоблено, в воздухе носился легкий аромат духов. Весь вид Танака говорил о том, что свой туалет он готовил сегодня с особым тщанием.
— Я опоздала? — спросила Окими, взглянув на Танака и учащенно дыша.
— Ну, что ты! — снисходительно ответил он, пристально глядя в лицо Окими глазами, в которых словно бы застыла улыбка. Затем вдруг поежился и добавил: — Пройдемся немного.
Не просто добавил. А сразу же зашагал в направлении к Су-датё по людной улице, освещенной дуговыми фонарями. Цирк же находился на Сибаура. Чтобы попасть туда, надо было идти в сторону Кандабаси. Окими так и не двинулась с места и, придерживая рукой кремовую шаль, развевавшуюся на пыльном ветру, с удивлением спросила:
— Туда?
Танака через плечо неопределенно ответил: «Да», — продолжая двигаться в сторону Судатё. Окими не оставалось ничего дру-
233
гого, как поспешить за Танака. Они быстро пошли под шуршащим листвой сводом ивовой аллеи. Танака снова загадочно улыбнулся одними глазами и, заглянув сбоку в лицо Окими, сказал:
— Тебе это будет огорчительно узнать, но что поделаешь. Говорят, цирк на Сибаура еще вчера закончил свои представления. Потому я и предлагаю пойти в один хорошо известный мне дом и там вместе поужинать.
— Ладно. Мне все равно, — произнесла тихо Окими, чувствуя, как рука Танака слегка коснулась ее руки, и дрожа от радостной надежды и страха. И тут в глазах Окими снова появились слезы восторга и умиления, как это бывало с ней, когда она читала «Кукушку». Не приходится говорить, сколь прекрасны казались ей улицы Огавамати, Авадзитё, Судатё сквозь пелену этих слез восторга и умиления. Звуки оркестра на предновогодней распродаже товаров, назойливая световая реклама пилюль «Дзинтан», рождественские украшения из веток криптомерии, паутинная сеть бумажных флажков всех стран, Санта-Клаус в витринах магазинов, открытки и календари на уличных лотках — все это, казалось Окими, пело о радости величественной любви и простиралось во всем великолепии до самого края земли. Даже звезды на небесах светили сегодня не холодным светом, а пыльный ветер, налетавший временами, как только загибал полы пальто, тотчас же превращался в теплое дуновение, будто вернулась весна. Счастье! Счастье! Счастье!..
В Вдруг Окими заметила, что они свернули в узкий переулок. На правой стороне была маленькая зеленная лавка. Там в ярком газовом освещении грудой лежали редька, морковь, шпинат, лук, белая редиска, картофель разных сортов, ямс, салат, спаржа, корень лотоса, таро, яблоки, мандарины. Когда они проходили мимо лавки, на какой-то миг взгляд Окими задержался на приколотом лучинкой к бамбуку ценнике в горе лука. На ценнике черной тушью неумелой рукой было написано «1 пучок 4 сэна». Теперь, когда так резко подскочили цены на все товары, лук по цене четыре сэна за пучок был просто редкостью. Смотрит Окими на этот сверхдешевый ценник, и в ее счастливой душе, которая до этого была пьяна любовью, литературой и искусством, совершается переворот, — реальная жизнь, доселе скрытая, внезапно осво-
. бождается от искусственного покрывала, от летаргического сна.
! Вот уж поистине резкий и неожиданный поворот! Розы и кольца, соловьи и флаги на Мицукоси — все молниеносно исчезло без следа, как дым. А на смену этому, вместе с тяжелым опытом прошлого, в маленькую грудь Окими со всех сторон стали слетаться, подобно мотылькам, летящим на огонь, заботы о плате за квартиру, за электричество, за рис, за уголь, за рыбу, за сою, за газетыу за
234
косметику, за трамвай и о других расходах на жизнь; Окими невольно остановилась, а затем, оставив в одиночестве ошеломленного Танака, вошла в лавку, где была эта зелень, залитая ярким газовым светом. Своим нежным пальчиком она показала на гору лука, где стоял ценник с надписью «1 пучок 4 сэна», и голосом, каким поют песню Сасураи, сказала:
— Дайте два пучка.
На улице, где дул пыльный ветер, удрученный, одиноко стоял Танака в черной широкополой шляпе, подняв воротник полупальто в крупную полоску, держа под мышкой тонкую трость с никелированной головкой. В воображении Танака давно был дом с решетчатой дверью, расположенный в конце улицы. Простенький двухэтажный домик со светящимися иероглифами «Мацуноя» на коньке крыши, с мокрыми каменными приступками для снятия обуви при входе. Но пока он вот так стоял здесь на улице, видение этого уютного двухэтажного дома удивительным образом бледнело и растворялось в сознании. Вместо него немедленно всплыла и поднялась гора лука с воткнутым в нее ценником: «1 пучок 4 сэна». И тут образ дома исчез окончательно. Вместе с порывом пыльного ветра в нос Танака ударил запах лука, острый, как сама жизнь, и резкий до боли в глазах.
— Извините, что заставила ждать.
Несчастный Танака печально уставился на Окими, будто видел ее впервые. Окими с красиво расчесанными на прямой пробор волосами, с пришпиленной к волосам незабудкой, с чуть вздернутым носом стояла, слегка придерживая подбородком кремовую шаль, в руке у нее было два пучка лука, купленного за восемь сэ-нов. В ясных глазах прыгала радостная улыбка.
* * *
Наконец-то кое-как дописал. Пожалуй, уже не далеко до рассвета. Со двора доносится простуженный крик петуха. Настроение у меня почему-то скверное, хотя написал я все это сознательно, с большим старанием. Окими в тот вечер как ни в чем не бывало вернулась к себе, в комнату на втором этаже того дома, где владелицей была парикмахерша. И пока она не бросит работу официантки в кафе, она вряд ли перестанет встречаться и гулять с Танака. Как подумаешь... Но это уже другое дело. Сколько бы я сейчас ни волновался, все напрасно. Итак, на том кончаю. До свидания, Окими. И сегодня, как в тот вечер, выйди отсюда радостной и смелой, спокойно иди на расправу к критикам.
11 декабря 1919 г.
235
Бисэй стоял внизу под мостом и ждал ее.
Наверху, над ним, за высокими каменными перилами, наполовину обвитыми плющом, по временам мелькали полы белых одежд проходивших по мосту прохожих, освещенные ярким заходящим солнцем и чуть-чуть колыхающиеся на ветру... А она все не шла.
Бисэй с легким нетерпением подошел к самой воде и стал смотреть на спокойную реку, по которой не двигалась ни одна лодка.
Вдоль реки сплошной стеной рос зеленый тростник, а над тростником кое-где круглились густые купы ив. И хотя река была широкая, поверхность воды, стиснутая тростниками, казалась узкой. Лента чистой воды, золотя отражение единственного перламутрового облачка, тихо вилась среди тростников... А она все не шла.
И Бисэй отошел от воды и, шагая взад и вперед по неширокой! отмели, стал прислушиваться к медленно наполнявшейся сумраком тишине.
На мосту движение уже затихло. Ни звука шагов, ни стука копыт, ни дребезжанья тележек — оттуда не слышалось ничего. Шелест ветра, шорох тростника, плеск воды... потом где-то пронзительно закричала цапля. Бисэй остановился: видимо, начался прилив, вода, набегающая на илистую отмель, сверкала ближе, чем раньше... А она все не шла.
Сердито нахмурившись, Бисэй стал быстрыми шагами ходить по полутемной отмели под мостом. Тем временем вода потихоньку, шаг за шагом затопляла отмель. И его кожи коснулась прохлада тины и свежесть воды. Он поднял глаза — на мосту яркий блеск заходящего солнца уже потух, и на бледно-зеленоватом закатном небе чернел четко вырезанный силуэт каменных перил... А она все не шла.
Бисэй наконец остановился.
Вода, уже лизнув его ноги, сверкая блеском холодней, чем блеск стали, медленно разливалась под мостом. Несомненно, не пройдет и часа, как безжалостный прилив зальет ему и колени, и живот, и грудь. Нет, вода уже выше и выше, и вот уже его колени скрылись под волнами реки... А она все не шла.
Бисэй с последней искрой надежды снова и снова устремлял взор к небу, на мост.
Над водой, заливавшей его по грудь, давно уже сгустилась вечерняя синева, и сквозь призрачный туман доносился печаль-
236
ный шелест листвы ив и густого тростника. И вдруг, задев Бисэя за нос, сверкнула белым брюшком выскочившая из воды рыбка и промелькнула над его головой. Высоко в небе зажглись пока еще редкие звезды. И даже силуэт обвитых плющом перил растаял в быстро надвигавшейся темноте... А она все не шла.
* * *
В полночь, когда лунный свет заливал тростник и ивы вдоль реки, вода и ветерок, тихонько перешептываясь, бережно понесли тело Бисэя из-под моста в море. Но дух Бисэя устремился к сердцу неба, к печальному лунному свету, может быть, потому что он был влюблен. Тайно покинув тело, он плавно поднялся в бледно светлеющее небо, совсем так же, как бесшумно поднимается от реки запах тины, свежесть воды...
А потом, через много тысяч лет, этому духу, претерпевшему бесчисленные превращения, вновь была доверена человеческая жизнь. Это и есть дух, который живет во мне, вот в таком, какой я есть. Поэтому, пусть я родился в наше время, все же я не способен ни к чему путному: и днем и ночью я живу в мечтах и только жду, что придет что-то удивительное. Совсем так, как Бисэй в сумерках под мостом ждал возлюбленную, которая никогда не придет.
Декабрь 1919 г.
1
За Нббуко со времени ее пребывания в женском колледже укрепилась слава талантливой. Почти никто не сомневался в том, что рано или поздно она выступит на литературном поприще. И некоторые даже распространяли слухи, будто она еще в университете написала автобиографический роман в триста с лишним страниц. Однако по окончании университета оказалось, что при матери, вдовствовавшей с двумя дочерьми на руках — Нобуко и ее младшей сестрой Тэруко, еще не окончившей школы, — не очень-то поставишь на своем, да и вообще не обошлось без разных осложнений. И поэтому, прежде чем приняться за писанье, она принуждена была, как это обычно водится на свете, начать с замужества.
У нее был двоюродный брат Сюнкити. В то время он еще числился студентом филологического факультета, но в будущем, ви-
237
димо, намеревался вступить в ряды писателей. Нобуко давно уже была со своим кузеном-студентом в хороших отношениях. А с тех пор, как у них появились общие литературные интересы, их отношения стали еще более дружескими. Только, в отличие от Нобуко, Сюнкити не проявлял никаких признаков преклонения перед модным в то время толстовством. Он все время сыпал ироническими замечаниями и афоризмами в духе Франса. Такая насмешливость Сюнкити иногда сердила во всем серьезную Нобуко. Но, даже сердясь, она невольно чувствовала в иронии и афоризмах Сюнкити нечто такое, чего она не могла презирать.
Поэтому во время пребывания в колледже она нередко ходила с ним на выставки и концерты. Впрочем, большей частью их сопровождала и ее младшая сестра Тэруко. И по дороге из дому, и на пути домой они непринужденно смеялись и болтали. Только сестренка Тэруко иногда оказывалась в стороне от разговора. Но она с детским интересом разглядывала в витринах зонтики и шелковые шали, видимо, не чувствуя особого недовольства оттого, что с ней не считались. Впрочем, едва заметив это, Нобуко непременно меняла тему и сейчас же старалась опять вовлечь сестру в разговор. И тем не менее первой забывала о Тэруко всегда сама Нобуко. А Сюнкити, как будто нисколько всем этим не интересуясь, по-прежнему весело пошучивая, шел медленно, крупными шагами в головокружительном людском потоке.
Само собой разумеется, отношения между Нобуко и Сюнкити, в глазах всех, кто их знал, были достаточным основанием для предположений, что со временем они поженятся. Однокурсницы завидовали ее будущему, ревновали ее. И особенно сильно (как это ни смешно) ревновали те, кто не знал Сюнкити. Сама Нобуко, с одной стороны, отрицая справедливость их догадок, с другой — намеренно давала почувствовать, что они не лишены основания. Таким образом, в колледже ее однокурсницы всегда представляли себе ее и Сюнкити вместе, совсем как на фотографии жениха и невесты.
Однако по окончании колледжа Нобуко вопреки всем ожиданиям вдруг вышла замуж за одного молодого человека, выпускника Высшего коммерческого училища, который должен был в ближайшее время поступить на службу в торговую фирму. И через два-три дня после свадьбы она вместе с мужем уехала в Осака, на место его службы. По рассказам тех, кто провожал ее на Центральном вокзале, Нобуко, такая же, как всегда, с ясной улыбкой утешала и ободряла сестру Тэруко, ежеминутно готовую расплакаться.
Подруги Нобуко недоумевали. К этому недоумению примешивалось и чувство странной радости, и чувство ревности, но совсем в другом смысле, чем раньше. Одни верили в Нобуко и припиоы-
238
вали все воле матери. Другие сомневались в ней и говорили что ее чувства переменились. Но они не могли сами не понимать, что все эти объяснения не более как догадки. Отчего она не вышла замуж за Сюнкити? Некоторое время после ее отъезда они при каждой встрече непременно серьезно обсуждали этот вопрос. А потом, по прошествии двух месяцев, Нобуко была совершенно забыта. Понятно, и толки о романе, который Нобуко должна была написать, — тоже.
Нобуко тем временем в одном из пригородов Осака строила домашний очаг, долженствовавший принести счастье. Их дом стоял в сосновой роще, в месте, исключительно тихом даже для этого района. Запах сосновой смолы и солнечный свет — все это в отсутствие мужа всегда заполняло живую тишину нового домика с мезонином. В такие тихие предвечерние часы Нобуко иногда отчего-то задумывалась и тогда, выдвинув ящик рабочего столика, разворачивала сложенную на дне его розовую почтовую бумагу. На этой бумаге мелко пером написано было следующее:
«...как подумаю о том, что сегодня я провожу последний день с моей сестрой, даже в эту минуту, когда пишу, у меня все время льются слезы. Сестрица! Пожалуйста, пожалуйста, простите меня. Тэруко не знает, чем ей ответить на благородную жертву сестры.
Сестрица решилась на этот брак ради меня. Пусть она говорит, что это не так, я все прекрасно понимаю. В тот вечер, когда мы вместе были в театре Тэйкоку, сестрица спросила меня, люблю ли я Сюн-сана. И еще сказала, что, если я люблю его, она сделает все, что может, и пусть я выйду за Сюн-сана. Сестрица тогда, наверно, прочитала письмо, которое я хотела отдать Сюн-сану. Когда это письмо пропало, я, право, очень досадовала на сестрицу. (Простите меня! Уже за это одно не знаю, как мне просить прощения.) Вот поэтому в тот вечер и сердечные слова сестрицы показались мне насмешкой. Я рассердилась и даже не ответила как следует — сестрица, наверно, это не забыла. Но когда через несколько дней вдруг сразу решилось замужество сестрицы, я готова была умереть, лишь бы только выпросить у нее прощение. Сестрица тоже любит Сюн-сана. (Не скрывайте, я хорошо знаю!) Если бы только не ее заботы обо мне, она непременно вышла бы за него сама. И все же сестрица столько раз меня уверяла, что не думает о Сюн-сане. И наконец решилась на замужество, к которому у ней совсем не лежала душа. Дорогая сестрица! Помните ли вы еще, как я сегодня пришла с курицей в руках и сказала ей: «Простись с сестрицей! Она уезжает в Осака»! Я хотела, чтобы и моя курица просила прощения у сестрицы! И даже мама, которая ни о чем не знает, тоже заплакала.
239
Сестрица! Завтра вы уедете в Осака. Но, пожалуйста, никогда не забывайте вашей Тэруко! Тэруко каждое утро, кормя курицу, вспоминает о сестрице и потихоньку плачет...»
Каждый раз, когда Нобуко читала это совсем детское письмо, у нее навертывались слезы на глаза. В особенности невыразимо щемило у нее сердце при воспоминании о Тэруко в ту минуту, когда они на вокзале садились в вагон и сестра потихоньку сунула ей в руку это письмо. Но действительно ли ее замужество было от начала до конца жертвой, как это казалось ее сестре? Такие сомнения после только что пролитых слез ложились на ее душу тяжестью. Чтобы избавиться от этой тяжести, Нобуко обычно тихо погружалась в приятную грусть. Тихо, глядя на то, как за окном солнечные лучи, озаряющие сосновый лес, понемногу окрашиваются закатной желтизной...
2
Три месяца после свадьбы они, как и всякие молодожены, провели счастливо.
Муж Нобуко был немного женственный, молчаливый человек. У него было обыкновение каждый день, придя со службы, проводить после ужина несколько часов с Нобуко. Шевеля крючком свое вязанье, Нобуко рассказывала ему о нашумевших в последнее время романах и драмах. Иногда в этих рассказах проскальзывало мировоззрение студентки женского колледжа, отдававшее христианством. Муж, раскрасневшись от выпитой за ужином водки, слушал ее с любопытством, опустив на колени недочитанную вечернюю газету. Но чего-нибудь похожего на собственное мнение он никогда не высказывал.
Почти каждое воскресенье они на целый день отправлялись отдыхать куда-нибудь в места для прогулок, в Осака или в окрестности. Если им приходилось пользоваться поездом или трамваем, Нобуко всегда бросалась в глаза грубость жителей Кансай, не стеснявшихся есть и пить где попало. И она с особым удовольствием думала о том, как благородно держится ее тихий муж. Действительно, казалось, среди этих людей изящная фигура ее мужа, начиная от шляпы и пиджака и кончая желтыми ботинками на шнурках, распространяет какую-то особую, похожую на запах туалетного мыла атмосферу опрятности. А когда как-то раз во время летнего отпуска они выбрались посмотреть на девочек-танцовщиц и она сравнила мужа с сослуживцами, случайно оказавшимися в том же чайном домике, то невольно почувствовала что-то похожее
240
на гордость. Но муж, к ее удивлению, относился к своим вульгарным сослуживцам, по-видимому, вполне дружелюбно.
Тем временем Нобуко вспомнила о давно уже заброшенной литературной работе. И вот в отсутствие мужа она стала на час-другой садиться за стол. Муж, услыхав об этом, сказал: «Что ж, в конце концов станешь писательницей», — и его нежный рот сложился в улыбку. Однако хотя Нобуко и садилась за стол, вопреки ее ожиданиям перо не двигалось. И она то и дело ловила себя на том, что сидит, опершись на руку, и рассеянно прислушивается к хору цикад в сосновой роще, дремлющей под палящим небом.
Но вот, когда последний период жары уже готов был смениться ранней осенью, однажды, отправляясь на службу, муж захотел сменить пропотевший воротничок. К сожалению, ни одного воротничка дома не оказалось, все были сданы в прачечную. Муж, всегда приветливый, недовольно нахмурился. Пристегивая подтяжки, он — чего раньше никогда не случалось — колко сказал:
— Плохо, если ты только и знаешь, что писать романы.
Нобуко молчала и, опустив глаза, счищала пыль с пиджака.
Через два-три дня вечером муж, начав с помещенной в вечерней газете статьи по продовольственному вопросу, заговорил о том, нельзя ли еще немного уменьшить месячные расходы.
— Не вечно же тебе оставаться студенткой! — вырвалось у него.
И Нобуко, равнодушно отвечая, вышивала мужу галстук. Муж с совершенно неожиданной настойчивостью продолжал свое.
— Вот хоть этот галстук — разве не дешевле купить готовый? — сказал он раздраженным тоном.
Она опять промолчала. В конце концов муж, надувшись, уткнулся в какой-то свой коммерческий журнал. Но когда свет в спальне был потушен, Нобуко, лежа спиной к мужу, почти шепотом произнесла:
— Я не буду больше писать романов.
Муж не ответил. Немного погодя она еще тише повторила то же самое. И сейчас же за тем заплакала. Муж слегка побранил ее. Все же и после этого слышались ее прерывистые всхлипывания. Но потом Нобуко вдруг тесно прижалась к мужу...
На другой день они опять стали дружными супругами, как было раньше.
Но вскоре случилось так, что и после полуночи муж еще не вернулся со службы. Когда же он наконец пришел, то от него несло водкой, и он не мог снять с себя макинтош.
Нобуко, насупив брови, быстро переодела мужа. А он, с трудом ворочая языком, еще и съязвил:
241
— Сегодня вечером меня не было дома, верно, роман здорово подвинулся!
Несколько раз с его женственных губ слетали подобные слова. Когда в этот вечер Нобуко ложилась спать, из глаз у нее невольно покатились слезы. Если бы это видела Тэруко, как бы она плакала вместе с ней! «Тэруко! Тэруко! Единственное мое прибежище— это ты...» — не раз мысленно взывала Нобуко к сестре, мучаясь тем, что от спящего мужа разит винным перегаром, и ворочалась в постели всю ночь, не смыкая глаз.
Но и это на другой день кончилось тем, что они само собой незаметно помирились.
Так это повторилось не раз и не два, а тем временем наступила поздняя осень. Нобуко все реже садилась за стол и все реже бралась за перо. В это время и муж уже не выслушивал ее разговоров о литературе с прежним любопытством. По вечерам, сидя друг против друга за хибати, они убивали время в мелочных разговорах о домашнем хозяйстве. Такие темы для мужа, по крайней мере, после вечерней водки, представляли наибольший интерес. Все же иногда Нобуко глядела на него с сожалением. Но он, ни о чем не подозревая, покусывая недавно отпущенную бородку, откровенней, чем обычно, говорил с задумчивым видом:
— Если бы хоть пошли дети...
Между тем вскоре в ежемесячных журналах стало появляться имя двоюродного брата. Выйдя замуж, Нобуко, точно забыв оСюн-кити, прекратила переписку с ним. Только из писем сестры она знала, что с ним, — что он окончил университет, что он организовал с товарищами журнал. Она и не обнаруживала желания знать о нем сколько-нибудь больше. Но когда видела в журналах его рассказы, на сердце у нее становилось тепло, как в прежние времена. Перелистывая страницы, Нобуко улыбалась про себя. Сюя-кити и в своих рассказах применял, как Мпямото Мусасп, два меча — иронию и юмор. Ей, однако, — может быть, беспричинно, — казалось, что за этой веселой иронией чувствуется какая-то разочарованность, раньше ему не свойственная. И думала она об этом не без самообвинения.
С этих пор Нобуко стала держаться по отношению к мужу еще нежней. За остывшим к ночи хибати муж видел ее всегда ясно улыбающееся лицо. Это лицо было напудрено и казалось моложе, чем раньше. Раскладывая свое рукоделье, она вслух перебирала воспоминания о времени их свадьбы в Токио. То, что она так подробно это помнила, было для мужа и неожиданно и приятно. «Ты даже это помнишь!» — подтрунивал он, и Нобуко отвечала ему только безмолвным ласковым взглядом. Но почему все это так врезалось в ее память — она и сама иногда удивлялась про себя.
242
Вскоре письмо матери известило Нобуко, что она приготовила свадебные подарки для младшей дочери. В письме говорилось также, что Сюнкити перед свадьбой с Тэруко перебрался в новый дом в пригороде, в районе Яманотэ. Нобуко сейчас же написала матери и сестре длинное поздравительное письмо. «Мы тут только вдвоем, без прислуги, и потому, как ни жаль, на свадьбу я не смогу приехать...» И когда она так писала, ее кисть (отчего —она сама не знала) не раз останавливалась на бумаге. Тогда она поднимала глаза и смотрела на сосновую рощу за окном. Сосны темнели густой зеленью под бледным зимним небом.
Вечером Нобуко говорила с мужем о замужестве Тэруко. Муж, по обыкновению слегка улыбаясь, с интересом слушал, как Нобуко подражает манере сестры разговаривать. А Нобуко почему-то казалось, словно она рассказывает о Тэруко самой себе.
— Ну, пора спать! — заметил через несколько часов муж, поглаживая свою мягкую бородку, и лениво поднялся от хибати. Нобуко, раздумывая, что подарить сестре, что-то чертила щипцами на золе и вдруг, подняв голову, сказала:
— А странно, мне кажется, будто и у меня появился брат.
— Ну, конечно, раз у тебя есть сестра! —сказал муж, но и на эти слова она, по-прежнему задумчиво глядя перед собой, ничего не ответила.
Свадьба Тэруко и Сюнкити состоялась в середине декабря. В тот день перед полуднем посыпались белые хлопья. Нобуко, позавтракав в одиночестве, долго не могла отделаться от запаха рыбы, которую она ела за завтраком. «Может быть, в Токио тоже идет снег», — думала она, прислонившись к хибати в полутемной столовой. Снег пошел сильней. А привкус рыбы во рту упорно не проходил.
3
Осенью следующего года Нобуко вместе с мужем, получившим служебную командировку, после двухлетнего отсутствия снова ступила на улицы Токио. Но у мужа в распоряжении было всего несколько дней; занятый делами, он почти не имел возможности пойти с ней куда-нибудь и только на несколько минут заглянул с ней к ее матери. Поэтому, отправившись навестить сестру и ее мужа в их новой квартире в пригороде, Нобуко, сойдя на конечной загородной остановке трамвая, покачивалась в коляске рикши в одиночестве.
Их дом стоял на самой окраине, где улицы уже подходили к полям. Но по сторонам теснились ряды новых домиков, видимо,
243
сдававшихся внаем. Ворота с навесом, живые изгороди, белье, развешанное на шестах для просушки, — все это повсюду было одинаково. Этот обыденный вид жилищ немного разочаровал Нобуко. Но когда она у входа окликнула хозяев, навстречу ей вдруг вышел сам кузен, Сюнкити. Увидев редкую гостью, он, как бывало прежде, весело закричал:
— Ты?
Нобуко заметила, что волосы у него не такие вихрастые и плохо остриженные, как раньше.
— Давно не видались.
— Входи! К сожалению, я один.
— А Тэруко? Нет дома?
— Пошла по делу. И прислуга тоже.
Нобуко, как-то странно смущаясь, тихо сняла в углу передней пальто с элегантной подкладкой.
Сюнкити провел ее в небольшую комнату — кабинет и одновременно гостиную. Повсюду грудами лежали книги. Вокруг столика из темно-красного сандалового дерева, на который сквозь слегка раздвинутые сёдзи светило закатное солнце, газет, журналов, рукописей было разбросано столько, что не приступиться. Единственное, что среди всего этого свидетельствовало о присутствии молодой жены, это прислоненное к стене токонома новое кото. Нобуко некоторое время не сводила удивленных глаз с этой обстановки.
— Что ты приезжаешь, я знал из письма, но что приедешь сегодня — не думал. — Зажигая папиросу, Сюнкити кинул на гостью теплый взгляд. — Ну, как живется в Осака?
— А Сюн-сан как? Счастлив? — Нобуко тоже после первых же слов почувствовала, как в ней оживает совсем прежнее теплое чувство. Тягостные воспоминания этих двух лет, когда они даже почти не переписывались, вопреки ожиданию не создавали неловкости.
Грея руки у хибати, они говорили о том о сем. Литературные произведения Сюнкити, новости про общих знакомых, сравнение Токио и Осака... Тем для разговора находилось столько, что всех было не затронуть. Но, точно сговорившись, они совершенно не касались повседневной жизни. И это еще сильней заставляло Нобуко чувствовать, что она разговаривает с двоюродным братом.
Иногда, однако, между ними водворялось молчание. Каждый раз в этих случаях Нобуко, все так же улыбаясь, опускала глаза на волу в хибати. Сама себе не сознаваясь, она смутно чего-то ждала. Тогда, намеренно или случайно, Сюнкити сейчас же находил новую тему для разговора и всегда разбивал это ее ожидание. Нобуко невольно взглядывала на Сюнкити. Но он спокойно курил
папиросу, и лицо его сохраняло выражение полной непринужденности.
В это время вернулась домой Тэруко. Увидев сестру, она так обрадовалась, что не в силах была протянуть к ней руки. У Нобуко губы улыбались, а на глаза уже навертывались «яезы. Обе они, позабыв о Сюнкити, стали расспрашивать друг друга и рассказывать друг другу о своей жизни за эти годы. Тэруко, оживленная, с проступившим на щеках румянцем, не упустила случая рассказать даже о курах, которых она и теперь разводила. Сюнкити с папиросой во рту, довольный, смотрел на них и по-прежнему только усмехался.
Тут пришла и служанка. Сюнкити взял пачку открыток, которую она принесла, и, усевшись за стол, забегал пером. Для Тэруко то, что и служанка тоже уходила, по-видимому, явилось неожиданностью.
— Значит, когда сестрица пришла, никого не было.
— Да, один Сюн-сан.
Нобуко казалось, что ответить так — значит заставить себя быть спокойной. Тогда Сюнкити, не оборачиваясь, сказал:
— Поблагодари мужа. И чай тоже я устроил.
Тэруко переглянулась с сестрой и шаловливо засмеялась. Но мужу она намеренно не ответила.
Потом Нобуко с сестрой и ее мужем сели за стол ужинать. Как пояснила Тэруко, яйца, поданные на стол, были от собственных кур. Сюнкити, угощая Нобуко вином, высказывал разные мысли в духе социалистов, вроде таких: «Человеческая жизнь основана на грабеже. Начиная хотя бы с этих яиц!» Несмотря на это, из них троих больше всех любил яйца, несомненно, сам Сюнкити. Тэруко нашла, что это забавно, и по-детски рассмеялась. За ужином и болтовней Нобуко невольно вспоминала печальные сумерки в столовой домика в далекой сосновой роще.
Разговор не умолкал и после того, как съели фрукты. Сюнкити, слегка навеселе, сидел, скрестив ноги, под электрической лампой и до поздней ночи с жаром сыпал своими обычными парадоксами. Его красноречие еще больше молодило Нобуко. С загоревшимися глазами она сказала:
— Пожалуй, и я начну писать!
Тогда кузен вместо ответа процитировал изречение Реми де Гурмона. Оно гласило: «Музы — женщины, значит, полонить их могут только мужчины». Нобуко и Тэруко, объединившись, не пожелали признать авторитета Гурмона.
— Значит, никому, кроме женщин, нельзя стать музыкантом! Аполлон ведь мужчина! — серьезно сказала Тэруко.
245
В таких разговорах прошло время, становилось поздно. Нобу-ко осталась ночевать.
Перед тем как лечь, Сюнкити отодвинул ставни на наружной галерее, в ночном халате спустился в тесный садик и, ни к кому в отдельности не обращаясь, произнес:
— Выйдите-ка! Чудная луна!
Нобуко одна последовала его примеру и, уже сняв чулки, сунула ноги в гэта. Босые ноги ощущали холодок росы.
Луна висела на ветвях тощего кипарпсовика в углу сада. Кузен стоял под деревом и смотрел на светлое ночное небо.
Трава уже разрослась.
Пугливо оглядывая запущенный сад, Нобуко осторожно подошла к нему. Но он, не сводя глаз с неба, только пробормотал:
— Вот она, тринадцатая ночь!
Несколько минут длилось молчание, потом он тихо перевел взгляд и сказал:
— Пойдем посмотрим курятник!
Нобуко молча кивнула. Курятник был как раз в противоположном углу сада. Они медленно, плечо к плечу, пошли туда. Но внутри покрытой рогожами будочки пахло курами и виднелись только смутные тени. Заглянув в будочку, Сюнкити едва слышно шепнул:
— Спят!
«Куры, у которых люди отбирают яйца...» — невольно подумала Нобуко, стоя на траве.
Когда они вернулись из сада, Тэруко, сидя за столом мужа, задумчиво смотрела на лампу. На лампу, по абажуру которой ползла зеленая муха...
4
На другое утро Сюнкити надел свой лучший пиджак и сейчас же после завтрака торопливо направился в переднюю. Ему надо было идти на заупокойную службу по случаю годовщины смерти одного товарища.
— Подожди меня, хорошо? Я еще до полудня непременно вернусь, — убеждал он Нобуко, надевая пальто. Но она, держа его шляпу в своих тонких руках, только молча улыбалась.
Проводив мужа, Тэруко усадила сестру у хибати и стала хлопотливо угощать ее чаем. О соседях, о посещениях репортеров, о заграничном театре, куда они ходили с Сюнкити, — им как будто было еще о чем поговорить, и поговорить с удовольствием. Но Нобуко ушла в себя. Спохватившись, она замечала, что сидит и от-
246
делывается ничего не значащими ответами. В конце концов это не укрылось и от Тэруко. Она тревожно всматривалась в лицо сестры и спрашивала:
— Что с вами?
Но что с ней, Нобуко и сама как следует не понимала. Когда стенные часы пробили десять, Нобуко, подняв грустные глаза, сказала:
— А Сюн-сана все нет.
Тэруко при словах сестры тоже взглянула на часы, но с неожиданной сухостью коротко ответила:
— Еще нет.
Нобуко показалось, что в этих словах сказывается настроение молодой женщины, пресыщенной любовью мужа. От этой мысли на сердце у нее стало еще тоскливей.
— Тэру-сан счастлива... — полушутя сказала Нобуко, пряча подбородок в воротник кимоно. Но она не могла скрыть проскользнувший в этих словах тон серьезной зависти. Однако Тэруко с невинным видом весело засмеялась и сделала сердитые глаза:
— Я вам покажу! — И сейчас же, ласкаясь, добавила: — Ведь и сестрица счастлива. — Эти слова больно резанули Нобуко.
Слегка подняв веки, она возразила:
— Ты думаешь? — Возразив, она сейчас же раскаялась. Изумленный взгляд Тэруко на мгновение встретился со взглядом сестры. На ее лице тоже виднелось с трудом скрываемое раскаяние. Нобуко с усилием улыбнулась: — Я счастлива уже тем, что ты так думаешь.
Наступило молчание. Сидя под отстукивающими секунды стенными часами, они бессознательно прислушивались к бульканью котелка на хибати.
— Разве братец к вам неласков? — немного погодя спросила Тэруко боязливым шепотом. В ее голосе явно слышалось сочувствие. Но в эту минуту душе Нобуко ненавистней всего была жалость. Положив на колени газету, она опустила глаза и ничего не ответила. В газете, как и в тех, что в Осака, писали о ценах на рис.
В это время в затихшей столовой раздался еле слышный плач. Нобуко оторвалась от газеты и увидела за хибати сестру, закрывшую лицо руками.
— Не надо плакать.
Но Тэруко, несмотря на увещевания сестры, все не переставала плакать. Чувствуя жестокую радость, Нобуко молча смотрела на вздрагивающие плечи сестры. Потом, как будто боясь,
247
чтобы не услышала прислуга, нагнулась к Тэруко и тихо проговорила:
— Если я виновата, прости. Если только Тэру-сан счастлива, это мне всего дороже. Право! Если только Сюн-сан любит Тэруко...
Пока она так говорила, голос ее под действием собственных слов постепенно смягчился. Тогда Тэруко вдруг опустила рукав и подняла залитое слезами лицо. В ее глазах сверх ожидания не было ни печали, ни гнева. Их высушила и зажгла непобедимая ревность.
— Почему же сестрица... почему сестрица вчера вечером... — Не договорив, Тэруко опять закрыла лицо руками и судорожно зарыдала...
Два-три часа спустя Нобуко, торопясь попасть к конечной остановке трамвая, снова покачивалась в коляске рикши. Весь видимый ее глазам мир помещался в четырехугольном целлулоидном оконце, прорезанном в поднятом верхе коляски. В оконце медленно, безостановочно уходили назад домики предместья и пожелтевшие ветви деревьев. И неподвижным среди всего этого было только одно покрытое легкими облачками холодное, осеннее небо.
На душе у Нобуко был покой. Но над этим покоем господствовала печальная покорность судьбе. Когда припадок Тэруко прошел, то примирение, вызвав новые слезы, без труда сделало их прежними дружными сестрами. Но случившееся, поскольку оно случилось, все еще тяжело лежало у Нобуко на сердце. И когда, не дожидаясь кузена, она садилась в коляску, ее сердце леденила мысль, что теперь они с сестрой навеки чужие.
Вдруг Нобуко подняла глаза. В целлулоидном оконце показалась фигура кузена, с тросточкой в руках шагавшего по грязной улице. У нее дрогнуло сердце. Остановить коляску? Или проехать мимо? Сдерживая биение сердца, она в своей коляске с поднятым! верхом некоторое время бесплодно колебалась. Но расстояние между ней и Сюнкити все сокращалось. Он медленно шел под тусклым солнечным светом по покрытой лужами улице.
«Сюн-сан!» — чуть не сорвалось с ее губ. В самом деле, в эту минуту фигура Сюнкити, такая знакомая ей, очутилась у самой коляски. Она все еще не решалась. И Сюнкити, ничего не подозревая, прошел мимо. Затуманенное небо, там и сям ряды крыш, пожелтевшие ветви деревьев — в оконце опять виднелись только пустынные улицы предместья.
И, ежась под поднятым верхом, всем существом своим ощущая печаль, Нобуко невольно с горечью подумала: «Осень...»
Март 1920 г.
248
«—Из глубины юдоли слез, из глубины юдоли скорби, с мольбой к тебе взываем... О милосердная и всеблагая, о несказанно кроткая владычица наша, святая Дева Мария!»
(Молитва «Аве Мария»)
— Ну-с, что вы об этом скажете? — с этими словами Тасиро-кун поставил на стол статуэтку Марии-Каннон.
«Мария-Каннон»... Так принято называть изображения (обычно — из белого фаянса) богини Каннон, которым нередко поклонялись христиане в те времена, когда католическая религия была под запретом. Но статуэтка, которую показывал сейчас Тасиро-кун, отличалась от тех, что хранятся в музеях или у многочисленных частных коллекционеров. Во-первых, фигурка эта, сантиметров тридцати вышиной, вся, за исключением лица, была вырезана из цельного куска дорогого черного дерева. Мало того, традиционное ожерелье на шее — орнамент из крестов, — сделанное тоже чрезвычайно искусно, было инкрустировано перламутром и золотом. И, наконец, лицо — великолепная резьба по слоновой кости, а на губах — алая точка, очевидно, коралл...
Скрестив руки на груди, я некоторое время молча вглядывался в прекрасный лик «Мадонны в черном». И пока смотрел, мне все явственнее чудилось какое-то странное выражение, будто смутно витавшее в чертах этого вырезанного из кости лица. Впрочем, нет, сказать «странное», пожалуй, слишком слабо. Мне показалось, будто все ее лицо дышит иронической, даже какой-то злобной усмешкой.
— Ну-с, что скажете? — повторил Тасиро-кун, горделиво улыбаясь, как все коллекционеры-любители, и поглядывая то на «Ма-рию-Каннон», то на меня.
— Редкостная вещица! Но не кажется ли вам, что лицо у нее какое-то злое?
— Да, уж кротким и нежным это лицо не назовешь. И в.самом деле, с этой Марией-Каннон связана удивительная легенда.
— Удивительная легенда?.. — Я невольно перевел взгляд с Марии-Каннон на Тасиро-куна. Неожиданно став серьезным, Тасиро-кун хотел было убрать статуэтку, но тут же поставил ее на прежнее место.
— Да, поговаривают, будто эта Мадонна приносит несчастье... Когда ее просят отвратить беду, она насылает еще худшую...
— Не может быть!
— Тем не менее с хозяйкой этой фигурки действительно слу-
249
чилось, как мне рассказывали, нечто подобное. — Таспро-кун сел и с серьезным, чуть ли не с удрученным видом, жестом пригласил меня занять место напротив.
— Неужели это правда? — опускаясь на стул, с невольным удивлением воскликнул я. Тасиро-кун — мой товарищ, окончивший университет двумя годами раньше меня, известный, талантливый адвокат. К тому же — человек образованный, современный, отнюдь не склонный к суевериям. И если уж такой человек, как он, решается затронуть подобную тему, значит, можно не опасаться, что «удивительная легенда» окажется на поверку пошловатым рассказом о «сверхъестественном».
— Судите сами... Но так или иначе — прошлое у этой Марии-Каннон зловещее. Если не соскучитесь, извольте, я расскажу...
До меня фигурка эта принадлежала богатой семье Инами, уроженцам одного из городов префектуры Ниигата. Фигурку берегли не как раритет, а как божество, охраняющее благополучие дома.
Сам Инами, глава семьи, — мы вместе учились на юридическом факультете, — занимается и коммерцией, и банковскими операциями, одним словом, человек он весьма деловой. А потому и мне пришлось несколько раз оказывать ему кое-какие услуги. Возможно, он хотел меня отблагодарить... Но как бы то ни было, в один из своих очередных приездов в Токио он преподнес мне эту Марию-Каннон, свою старинную фамильную драгоценность.
Тогда-то я и услышал от него удивительную легенду, о которой только что упомянул, хотя сам Инами, разумеется, не верил в какие-то чары или тому подобную мистику. Просто он рассказал мне вкратце предание, связанное с этой Мадонной, так, как слышал его от своей матери.
Случилось это осенью, матери Инами — ее звали о-Эй — исполнилось тогда не то десять, не то одиннадцать лет... По времени это, очевидно, последние годы Каэй, когда «черные корабли» наводили страх на гавань Урага. Той осенью брат о-Эй, восьмилетний Мосбку, захворал корью в очень тяжелой форме. После смерти родителей, погибших несколько лет назад, о-Эй вместе с братом осталась на попечении бабушки, которой было уже за семьдесят. Нетрудно понять, как встревожилась эта старая дама, прабабка нашего Инами. Несмотря на все старания врачей, состояние Мосаку ухудшалось и ухудшалось, и не прошло и недели, как над ребенком нависла угроза смерти.
И вот однажды ночью в комнату крепко спавшей о-Эй неожиданно вошла бабушка; силой разбудив и подняв с постели девочку, она поспешно, без помощи служанок, заставила ее тщательно одеться. О-Эй не успела еще хорошенько проснуться, как бабушка
250
схватила ее за руку и, освещая путь тусклым бумажным фонарем, потащила сонную девочку по безлюдной галерее к каменному амбару, куда и днем-то почти никогда не заглядывала.
В глубине амбара с давних пор стояла белая деревянная божница в честь богини Инари, охраняющей от пожаров. Бабушка вытащила из-за пояса ключ, открыла дверцы божницы — там, за парчовыми складками занавески, стояла тускло освещенная бумажным фонарем эта самая Мария-Каннон. Как только о-Эй увидела статуэтку, ей вдруг почему-то стало страшно; прильнув к бабушке и спрятав голову ей в колени, она горько расплакалась. Однако бабушка, обычно такая ласковая, на сей раз не обратила никакого внимания на слезы девочки, уселась перед божницей и, благоговейно перекрестившись, начала бормотать какие-то молитвы, непонятные о-Эй.
Так прошло минут десять; потом бабушка обняла о-Эй, тихонько заставила ее приподняться и, всячески успокаивая перепуганную девочку, усадила ее рядом с собой. И снова стала молиться, обращаясь к вырезанной из черного дерева фигурке со словами, на этот раз понятными о-Эй:
— Святая Дева Мария, на всем белом свете только и есть у меня, что мой внук Мосаку, которому нынче исполнилось восемь, и вот эта его сестричка о-Эй, — я ее тоже привела к тебе. Ты видишь, она еще слишком мала, чтобы взять ей в дом мужа. И если какая-либо беда стрясется теперь с Мосаку, дом Инами с той же минуты лишится продолжателя рода. Не допусти же свершиться такой напасти, охрани и защити жизнь Мосаку! Если же я прошу слишком многого, если я недостойна, чтобы ты вняла моей просьбе, то сохрани жизнь Мосаку хотя бы до тех пор, пока я еще живу на этом свете... Я уже стара и навряд ли протяну долго; скоро я вручу свою анима нашему дэусу... Но до тех пор и внучка моя о-Эй, даст бог, подрастет... Пролей же на нас милость, отврати от Мосаку меч, занесенный ангелом смерти, хотя бы до тех пор, пока я не закрою глаза навеки... — Так с жаром молилась бабушка, склонившись стриженой головой.
И вот, по словам о-Эй, когда молитва окончилась и девочка робко приподняла голову, она вдруг увидела — возможно, ей померещилось, — что Мария-Каннон улыбнулась. О-Эй опять тихонько вскрикнула от испуга и снова уткнулась в колени бабушки. Но та, напротив, с довольным видом поглаживая по сппне внучку, повторила несколько раз:
— Полно, полно, теперь мы уже можем уйти... Госпожа Мария снизошла к бабушкиной молитве!
Ну, а наутро и в самом деле, словно молитва бабушки и вправду была услышана, жар у Мосаку спал, и если еще вчера он был
251
в полном беспамятстве, то теперь к нему постепенно возвратилось сознание. Трудно описать радость бабушки. Мать Инами рассказывала, что до сих пор не может забыть, как от радости бабушка и плакала и смеялась одновременно... Убедившись, что больной внучек спокойно спит, бабушка между тем и сама решила немного передохнуть после нескольких ночей бдения у постели больного. Она велела приготовить себе постель в соседней комнате и легла, хотя обычно спала у себя в спальне.
О-Эй сидела у изголовья бабушкиной постели, играя в блошки. По ее словам, старая женщина, очевидно, измученная усталостью, тотчас же уснула, словно убитая. Так прошло примерно около часа, как вдруг пожилая служанка, ходившая за Мосаку, осторожно приоткрыла раздвижную дверь, отделявшую соседнее помещение, и испуганно позвала:
— Барышня, разбудите-ка поскорей старую госпожу! Малютка о-Эй тотчас же подошла к бабушке и дернула ее несколько раз за рукав спального кимоно:
— Бабушка, бабушка!
Но странное дело — бабушка, всегда спавшая очень чутко, на этот раз не отвечала, сколько ее ни звали. Тем временем служанка в недоумении приблизилась, но, едва бросив взгляд на спящую, точно безумная схватила ее за кимоно с плачем и отчаянным криком: «Госпожа! Госпожа!» Однако бабушка даже не шевельнулась, только под глазами у нее легли легкие лиловатые тени. Вскоре и другая служанка поспешно распахнула дверь и, вся красная от волнения, дрожащим голосом позвала:
— Госпожа!.. Молодой барин... Госпожа!..
Само собой, в словах этой служанки звучал такой испуг, что даже маленькая о-Эй догадалась, — Мосаку неожиданно стало хуже... Но бабушка по-прежнему лежала, крепко закрыв глаза, словно не слыша служанок, с плачем припавших к изголовью ее постели...
Мосаку тоже скончался — минут десять спустя. Мария-Каннон выполнила просьбу бабушки — при ее жизни не убивать Мосаку.
Рассказав эту историю, Тасиро-кун остановил на мне долгий задумчивый взгляд.
— Ну что? Разве вам не верится, что все это правда?
— Мм... Да, но... Трудно сказать...
Некоторое время Тасиро-кун молчал. Затем, поднеся спичку к погасшей трубке, проговорил:
— А мне думается, все так и было. Вот только неизвестно, повинна ли в том Мадонна, хранившаяся в доме Инами, или нечто совсем иное... Впрочем, вы, кажется, еще не прочли надпись
252
на подставке этой фигурки. Взгляните... Видите латинские буквы, вырезанные вот здесь? Desine fata deum flecti sperare precando...1
Я с невольным страхом взглянул на Марию-Каннон — само олицетворение судьбы. На прекрасном лице мадонны, облаченной в черное дерево, навечно запечатлелась таинственная усмешка, в которой сквозила нескрываемая враждебность.
Апрель 1920 г.
Среди вассалов князей Хосокава в Хигб был некий самурай по имени Табка Дзиндайю. Прежде он был ронином дома Ито в Хюга, но затем по рекомендации Найто Сандзаэмона, возвысившегося до положения старейшины вассалов у князей Хосокава, был принят на службу к этим князьям в их новых владениях с жалованьем в сто пятьдесят коку.
Весною седьмого года Камбун во время состязания в воинских искусствах он в бою на копьях одолел шестерых самураев. На состязании вместе со своими старшими вассалами присутствовал сам князь Цунатоси; ему очень понравилось, как Дзиндайю владеет копьем, и он пожелал, чтобы было устроено состязание и на мечах. Дзиндайю, взяв бамбуковый фехтовальный меч, опять уложил троих самураев. Четвертым его противником был Сэнума Хёэй, обучавший молодых самураев клана искусству владения мечом. Щадя репутацию его как учителя фехтования, Дзиндайю решил уступить ему победу. Правда, ему хотелось при этом проиграть так искусно, чтобы его намерение уступить победу другому было ясно тем, кто понимает дело. Хёэй, схватившись с Дзиндайю, подметил это намерение и сразу же воспылал злобой к своему противнику. И когда Дзиндайю стал в оборонительную позицию, Хёэй изо всей силы нанес ему прямой удар. Меч вонзился Дзиндайю в горло, и он тут же свалился навзничь. Вид у него был при этом самый жалкий. Цунатоси, только что похваливший его за искусное владение копьем, после этого состязания нахмурился и не произнес ни слова благодарности.
Поражение Дзиндайю скоро стало предметом разговоров за его спиной.
1 Не надейся, что молитвой изменишь предначертание богов... (лаг.)
253
Что стал бы делать Дзиндайю на поле боя, если бы у него обломали древко копья? Жалкое положение! Он даже фехтовальным мечом не умеет владеть, как порядочный воин.
Такие разговоры сразу же пошли среди самураев клана. Разумеется, сюда примешивались чувства ревности и зависти со стороны равных ему по положению. Что же касается рекомендовавшего его Найто Сандзаэмона, то ему нельзя было просто промолчать перед князем. Поэтому он позвал Дзиндайю и сурово сказал ему:
— Ты так позорно дал себя победить, что дело не может окончиться простым признанием того, что я в тебе ошибся. Либо ты пойдешь на новое — тройное — состязание, либо во искупление своей вины перед князем я сделаю себе харакири.
Воинскую честь Дзиндайю и так уже задевали доходившие до него разговоры. Поэтому он сразу же внял словам Сандзаэмона и подал прошение о своем желании еще раз сразиться с учителем фехтования в тройном поединке.
В скором времени оба они в присутствии князя начали свой поединок. В первой схватке Дзиндайю нанес своему противнику удар в руку; во второй схватке Хёэй нанес удар Дзиндайю в лицо. Но в третьей схватке Дзиндайю опять нанес противнику удар в руку. Цунатоси похвалил Дзиндайю и приказал увеличить его жалованье на пятьдесят коку. Поглаживая вспухшую руку, Хёэй с мрачным видом отошел от князя.
Прошло три-четыре дня, и вот однажды в дождливую ночь один из самураев клана — Коно Хэйтаро — оказался тайно убитым за оградой храма Сэйгандзи. Хэйтаро был одним из ближайших вассалов князя с жалованьем в двести коку; это был старик, сведущий в счете и письме; судя по его обычному поведению, никак нельзя было предположить, чтобы он мог стать предметом чьей-либо ненависти. Однако уже на другой день узнали, кто был его враг: в этот день внезапно скрылся Санума Хёэй. Дзиндайю и Хэйтаро были разного возраста, но фигуры их были очень схожи. Кроме того, и герб у обоих был один и тот же — цветок мёга в круге. Хёэй был введен в заблуждение этим гербом на фонаре, который нес слуга Хэйтаро, освещая дорогу господину; его ввела в заблуждение и фигура Хэйтаро, вдобавок закутанная в плащ и полускрытая зонтом; вот он скоропалительно и убил старика, приняв его за Дзиндайю.
У Хэйтаро был семнадцатилетний наследник Мотомэ. Мотомэ сейчас же решил испросить разрешения отправиться вместе со своим молодым слугой по имени Эгбси Кпсабуро, как это было принято у самураев в то время, в путешествие для отмщения. И Дзиндайю, — возможно потому, что он не мог не чувствовать себя ответственным за смерть Хэйтаро, — заявил, что и он хочет
254
пуститься в путь, чтобы оберегать Мотомэ. Подал просьбу о разрешении быть сукэдати и самурай по имени Цудзаки Сакон, у которого с Мотомэ имелся договор быть во всем вместе. Поскольку дело было необычным, Цунатоси на просьбу Дзиндайю согласие дал, но Сакона он не отпустил.
Мотомэ вместе с Дзиндайю и Кисабуро отслужили в седьмой день после кончины Хэйтаро поминальную службу и покинули городок при замке Кумамото, где уже — в здешних теплых краях — осыпались цветущие вишни.
1
Цудзаки Сакон, которому было отказано в просьбе отправиться в качестве сукэтати, два-три дня не выходил из дому. Ему было горько, что договор во всем быть вместе, который они с Мотомэ заключили, оказался всего лишь клочком бумаги. Его весьма удручала также мысль, как бы товарищи не стали за его спиной показывать на него пальцем. Но больше всего его тревожило то, что своего друга Мотомэ он доверил одному лишь Дзиндайю. И вот ночью того дня, когда трое ушедших на отмщение покинули Кумамото, он, не сказавшись даже родителям и только оставив письмо, ушел из дому, чтобы последовать за своим другом и его спутником Дзиндайю.
Он догнал их сейчас же за самой границей провинции. Путники в это время отдыхали от ходьбы в харчевне на почтовой станции в горах. Простирая руки к Дзиндайю, Сакон стал молить дозволить ему пойти с ними вместе. Дзиндайю сначала был очень суров:
— А я что же, по-твоему, ничего не смыслю в воинском искусстве? — И не похоже было, чтобы он легко согласился.
Однако в конце концов он сдался и, искоса поглядывая на Мотомэ, как будто уступил посредничество Кисабуро и разрешил Са-кону присоединиться к ним. Слабый, как женщина, Мотомэ, у которого еще волосы на темени не были сбриты, не мог скрыть, как ему хочется, чтобы Сакон пошел с ними. У Сакона же от радости на глаза навернулись слезы, и он даже к Кисабуро все время обращался со словами благодарности.
Путникам было известно, что у Хёэя в клане Асано есть младшая замужняя сестра; поэтому они начали с того, что переправились через пролив Модзигасэки и пустились в далекий путь по тракту Тюгоку к замку Хиросима. Однако по приходе туда, разузнавая местонахождение своего врага, они из разговоров швеи, работавшей в домах самураев, узнали, что Хёэй побывал в Хиросима, а потом потихоньку ушел в провинцию Иё — в Мацуяма, где у его
255
8ятя был знакомый. Поэтому путники нашли корабль из Иё и в самый разгар лета седьмого года Камбун без всяких злоключений добрались до городка при замке Мацуяма.
В Мацуяма все четверо, надвинув низко на глаза амигаса, каждый день бродили повсюду кругом, стараясь напасть на след врага. Но Хёэй, видимо, был осторожен, и открыть его местопребывание оказалось нелегко. Как-то раз Сакон обратил внимание на человека, по одежде — бродячего заклинателя, который показался ему похожим на Хёэя, и стал за ним следить, но в конце концов выяснилось, что это кто-то совсем другой, не имеющий с Хёэем ничего общего. А тем временем уже подул осенний ветер, и под окнами самурайских домов в призамковом городке из-под густой травы, заполнявшей ров, все шире и шире разливалась вода. От этого сердца четверых путников все сильнее обуревало нетерпение. Особенно горел желанием встретиться с врагом Сакон; он почти все время — и днями и ночами — бродил по Мацуяма, следя за всем. Ему хотелось, чтобы первый удар меча отмщения был нанесен им. Если бы его опередил Дзиндайю, его репутация воина, который присоединился к остальным, бросив своего господина и родителей, погибла бы. Так он твердо решил про себя.
Однажды, через два с лишним месяца по прибытии в Мацуяма, Сакон проходил по берегу моря у самого городка и заметил, что двое молодых самурайских слуг, сопровождавших какой-то со всех сторон закрытый паланкин, готовят лодку, торопя рыбаков. Когда приготовления были закончены, из паланкина вышел самурай. Он сразу же надвинул на глаза амигаса, но на миг мелькнувшее лицо было, несомненно, лицом Сэнума Хёэя. Сакон на мгновенье заколебался: очень жаль, что тот не повстречается здесь с Мотомэ. Но если не убить Хёэя сейчас же, он опять куда-нибудь скроется. А поскольку он поедет морем, то уже совсем невозможно будет его задержать. Придется вызвать его на бой одному.
Сакон решил все это в один миг и, даже не подумав, что следует подготовиться к бою, сорвал с себя амигаса и воскликнул:
— Сэнума Хёэй! Я — Цудзаки Сакон, названый брат Кано Мотомэ, его сукэдати. Узнаешь? — С этими словами он выхватил меч и подскочил к Хёэю.
Но тот, не приподымая амигаса, даже не шевельнулся. Глядя на Сакона, он крикнул:
— Погоди! Ты принял меня за другого!
Сакон невольно остановился, В тот же миг рука самурая схватилась за рукоятку меча, и на Сакона обрушился страшный удар. Цадая, Сакон наконец ясно различил под низко надвинутой амигаса черты Сэнума Хёэя.
256
2
Оставшиеся трое, невольные виновники убийства Сакона, еще целых два года скитались в поисках врага и прошли почти всю область Токайдо, от самых пристоличных провинций. Однако о Хёэе не было ни слуху ни духу.
Настала осень девятого года Камбун. Вслед за перелетными дикими гусями путники наконец ступили на землю Эдо. Они надеялись, что в Эдо, где всегда бывает много народу — и старых и молодых, и знатных и незнатных, — им удастся что-нибудь узнать об их враге.
Первым делом они устроились в гостинице на одной из внутренних улочек Канда; затем Дзиндайю превратился в бродячего самурая, зарабатывающего на пропитание расиеванием уличных песенок; Мотомэ принял облик торговца, который ходит по дворам с корзиной мелочных товаров за плечами; а Кисабуро нанялся на срок в дом хатамото Носэ Соэмона в качестве слуги, носящего за господином его дзори.
Мотомэ и Дзиндайю день за днем ходили по городу. Опытный Дзиндайю, принимая на свой рваный веер подаяния, старательно заглядывал во все харчевни и трактиры и был неутомим. Но в душу молодого Мотомэ даже в ясные осенние дни, когда он, скрывая исхудавшее лицо под амигаса, проходил по Нихонбаси, все чаще и чаще закрадывалось уныние: ему начинало казаться, что в конце концов все их усилия отомстить врагу кончатся ничем.
Тем временем со стороны горы Цукуба задул осенний ветер, становилось все холоднее и холоднее, и Мотомэ простудился; у него то и дело начинался жар. Однако, преодолевая озноб, он по-прежнему изо дня в день с корзиной за спиною выходил на торговлю. Дзиндайю при встрече с Кисабуро всегда говорил ему, как стойко держится Мотомэ, чем всегда вызывал слезы у этого преданного молодого слуги. Но ни тот, ни другой не приметили уныния, кото-.рое охватило Мотомэ и не давало ему как следует заняться своей болезнью.
Наступила весна десятого года Камбун. С этого времени Мотомэ потихоньку от своих стал посещать публичный дом в Ёсива-ра. Его подругой там была некая Каэдэ из заведения Идзумия, так называемая «девица второго ранга». Эта женщина всячески угождала Мотомэ независимо от своих обязанностей. Только с Каэдэ он забывал на время гнетущую его душу тоску.
Однажды, когда кругом шли разговоры о цветущих вишнях в Сибуя, он, тронутый сердечностью Каэдэ, признался ей, что задумал месть. И неожиданно для себя услышал от нее, что один самурай, похожий на Хёэя, вместе с другими самураями из клана
9 Акутагава Рюноскэ
257
Мацуя месяц тому назад приходил погулять в Идзумия. К счастью, в памяти Каэдэ, которой по жребию выпало быть подругой этого самурая, довольно хорошо сохранилось все— от наружности до того, что у него с собой имелось. Более того: из их разговоров она уловила, что в ближайшие два-три дня он собирался покинуть Эдо и направиться в Мацуя. Мотомэ, разумеется, очень обрадовался. Однако при мысли, что, если он снова отправится в путь, ему придется расстаться с Каэдэ на некоторое время, а может быть, и навсегда, мужество покинуло его душу. В этот день он с нею напился, как никогда раньше. А когда он вернулся в гостиницу, у него тут же хлынула горлом кровь.
Со следующего дня Мотомэ слег. Но почему-то он ни словом не обмолвился Дзиндайго о том, что он почти наверняка узнал, где находится его враг. Дзиндайю продолжал ходить за милостыней и в свободные от своих хождений часы всячески ухаживал за больным. Но вот однажды, когда он, обойдя все балаганы на улице Фу-кия, вернулся вечером в их гостиницу, оказалось, что Мотомэ умер горькой смертью, воткнув себе в живот меч. Он лежал у зажженного фонаря с зажатым в зубах письмом. Потрясенный Дзиндайю развернул письмо. В письме содержались сведения об их враге и излагалась причина самоубийства: «Я слаб и все время болею. Поэтому я и думаю, что не смогу выполнить свое намерение отомстить врагу...» В этом и состояла вся причина. Но в окрашенное кровью письмо было вложено еще другое. Пробежав глазами это второе письмо, Дзиндайю тихонько пододвинул фонарь и поднес огонь к письму. Пламя охватило бумагу, озарив мрачное лицо Дзиндайю.
Это был договор быть вместе и в этом и в будущем мире, который Мотомэ весной этого года заключил с Каэде.
3
Летом десятого года Камбун Дзиндайю и Кисабуро добрались до городка при замке Мацуя. Когда они ступили на мост Охасп и увидели облачные вершины, громоздившиеся высоко в небе над озером Сиедзико, в душе у них обоих вспыхнуло восхищение этим величием, и они подумали: с той поры, как они оставили свой родной город Кумамото, они встречают вот уже четвертое лето.
Первым делом они устроились на постоялом дворе неподалеку от моста Кёхаси и сразу же на другой день, как всюду, принялись за поиски врага. Уже наступала осень, когда они открыли, что в доме самурая Онти Кодваэмона, обучавшего воинскому искусству вассалов князей Мацудайра, скрывается самурай, похожий на Хёэя. Оба подумали: наконец-то их цель достигнута! Вернее, должна
258
быть достигнута. Особенно Дзиндайю: с того дня, как они узнали об этом, у него в душе неудержимо горели чувства и гнева и радости. Хёэй теперь был враг уже не одного только Хэйтаро; он был врагом и Сакона; он был врагом и Мотомэ. Но еще в большей степени он был ненавистным врагом самого Дзиндайю, врагом, вынудившим его целых три года претерпевать всевозможные тяготы. При этой мысли Дзиндайю, — что было совершенно непохоже на него, всегда спокойного и хладнокровного, — готов был тут же, сейчас же ворваться в дом Онти и вступить в бой.
Но Онти Кодзаэмон был известным по всей области Санъиндо мастером в искусстве владения мечом. К тому же у него было много преданных ему учеников. Поэтому, как ни горячился Дзиндайю, он должен был выжидать случая, когда Хёэй выйдет из дома один.
Но такой случай все не представлялся. Хёэй почти безвыходно дни и ночи сидел дома. А тем временем в саду постоялого двора уже отцвели мирты, и солнечные лучи, падающие на камни в саду, становились все бледней. В таком состоянии мучительного нетерпения они встретили годовщину смерти Сакона, убитого три года назад. Кисабуро в этот вечер пошел в находившийся поблизости храм Сёкоин и заказал там поминальную службу. К его большому удивлению, там оказались посмертные таблички с именами Сакона и Хэйтаро. Когда служба окончилась, Кисабуро с самым безразличным видом спросил у служившего монаха об этих табличках. И еще более удивил его ответ монаха: один из приближенных Онти Кодзаэмона, прихожанина их храма, два раза в месяц в дни кончины этих людей всегда приходит сюда для поминовения. «И сегодня он уже побывал здесь», — добавил ничего не подозревавший монах.
Выходя из храма, Кисабуро чувствовал такую душевную силу, как будто ее дали ему души покойных отца и сына Коно и Сакона.
Слушая рассказ Кисабуро, Дзиндайю радовался тому, что судьба наконец повернулась к нему лицом, но вместе с тем досадовал, как это они до сих пор не заметили, что Хёэй ходит в этот храм. «Через восемь дней будет годовщина смерти моего старого господина. Совершить отмщение именно в день кончины — это, несомненно, сама судьба!»— такими словами Кисабуро закончил свой радостный рассказ.
Подобная же мысль возникла и у Дзиндайю. Но оба они совсем не думали о том, что творилось в душе Хёэя, совершавшего поминовение по их покойникам.
День кончины Хэйтаро все приближался. Оба они, натачивая свои клинки, спокойно ждали этого дня. Теперь вопрос, удастся ли отомстить, уже отпал. Все их мысли были обращены только к это-
9*
259
му дню, только к этому часу. Дзиндайю даже обдумал то, как им скрыться после выполнения своего заветного желания.
Наконец наступило утро долгожданного дня. Еще до рассвета оба они снарядились при свете фонаря. Дзиндайю облачился в кожаные штаны с тисненым узором в виде ирисов и куртку из плотной черной чесучи; поверх куртки он накинул украшенное фамильными гербами хаори из такой же материи, под которым были тасуки из тонкого ремня. Из оружия у него были большой меч работы Хасэбэ Норинага и малый меч работы Рай Кумитоси. На Ки-сабуро хаори не было, он надел на себя простую легкую накидку. Обменявшись чарками холодного сакэ, они расплатились по сегодняшний день и в приподнятом духе вышли из постоялого двора.
Улицы еще были безлюдны. Все же они надвинули амигаса на глаза и направились к воротам храма Сёкоин, давно уже намеченными ими как место отмщения. Но не успели они отойти от своего жилища два-три квартала, как Дзиндайю вдруг остановился и сказал:
— Подожди! При расчете на постоялом дворе нам недодали четырех монов сдачи. Я пойду назад и возьму эти четыре мона.
Кисабуро недовольно заметил:
— Четыре мона! Ведь это же гроши. Стоит ли возвращаться? — Ему хотелось как можно скорее дойти до цели — до храма Сёкоин.
Однако Дзиндайю не слушал.
— Разумеется, не об этой мелочи я думаю. Но ведь до конца века на мне останется позор: самурай Дзиндайю так разволновался перед местью, что, расплачиваясь на постоялом дворе, ошибся в счете. Ступай вперед! А я вернусь на постоялый двор. — С этими словами он повернул назад. Преклоняясь перед таким самообладанием, Кисабуро, как ему было сказано, в одиночку поспешил к месту отмщения.
Вскоре и Дзиидайю присоединился к Кисабуро, ожидавшему его у ворот храма. В тот день в небе плыли легкие облачка, сквозь них пробивались неяркие лучи солнца, время от времени накрапывал дождь. Оба они, каждый по свою сторону ворот, медленно шагали вдоль ограды, над которой уже желтела листва ююбы, и ждали прихода Хёэя.
Но вот уже близился полдень, а Хёэй все не появлялся. Кисабуро не выдержал и спросил у привратника, придет ли сегодня Хёэй в храм. Однако привратник и сам недоумевал, почему он все не идет.
Так, сдерживая биение своих сердец, стояли они за оградой храма. А тем временем час за часом безжалостно проходил. Стали ложиться вечерние тени; в воздухе уныло раздавалось карканье,
260
ворон, клевавших плоды ююбы. Потеряв терпение, Кисабуро подошел к Дзиндайю.
— Не сбегать ли мне к дому Онти? — прошептал он. Но Дзиндайю покачал головой и не позволил.
Скоро в небе над воротами храма между облаками там и сям заблистали редкие звезды. И все же Дзиндайю, прислонившись к ограде, упорно ждал Хёэя. В самом деле: Хёэй, возможно, узнал, что его подстерегают враги, и хочет прийти в храм незаметно, когда стемнеет.
Наконец прозвучал колокол первой ночной стражи. Затем прозвучал колокол второй стражи. Они, мокрые от росы, все не отходили от храма.
Хёэй так и не показался.
Дзиндайю и Кисабуро, перейдя на другой постоялый двор, снова принялись выслеживать Хёэя. Но прошло всего несколько дней, и вдруг у Дзиндайю открылась жестокая рвота и понос. Сильно встревоженный Кисабуро хотел сразу же побежать за врачом, но больной, опасаясь, как бы все не открылось, решительно не позволил ему этого.
Весь день Дзиндайю пролежал в постели, возлагая надежды на купленное в аптеке лекарство. Однако рвота и понос не прекращались. Кисабуро не мог оставаться равнодушным и наконец уговорил больного дать осмотреть себя врачу. Тут же немедленно он обратился к хозяину постоялого двора с просьбой позвать местного врача. Хозяин сейчас же послал за врачом по имени Маруки Ран-тай, промышлявшим в этих местах своим искусством.
Рантай учился у самого Мукаи Рэйрана и славился как замечательный врач. Но он обладал при этом нравом мужа-самурая, дни и ночи проводил за чаркой и не думал о деньгах:
Взлетает на небо, Под облака. В долинах Поток глубокий Переплывает — вот цапля Что делает обычно.
И действительно: обращались к нему за лечением все — от знатнейших вассалов клана до жалких нищих и париев.
Даже не пощупав пульса Дзиндайю, Рантай сразу же определил дизентерию. Однако и лекарства такого знаменитого врача не помогли. Кисабуро, ухаживая за больным, молился о выздоровлении Дзиндайю всем богам. И сам больной долгими ночами, вдыхая дымок от снадобья, варившегося у его изголовья, молился про себя
261
о том, чтобы как-нибудь дожить до исполнения своего заветного желания.
А между тем наступила поздняя осень. Кисабуро по дороге к Раптаю за лекарством часто наблюдал, как в небе летят вереницы перелетных птиц. И вот однажды в прихожей Рантая он столкнулся с одним самурайским слугою, также пришедшим к Рантаю за лекарством. Из разговоров с ним Кисабуро стало ясно, что больной человек — из дома Онти Кодзаэмона. Когда слуга ушел, Кисабуро обратился к знакомому ученику и спросил:
— Видно, даже такой воин, как Онти-доно, и тот не справляется с болезнью?
— Нет, болен не Онти-доно, а гость, остановившийся у него, — ничего не подозревая, ответил добродушный ученик.
Теперь каждый раз, приходя за лекарством, Кисабуро старался что-нибудь разузнать о Хёэе. И тут, расспрашивая все подробнее, он выяснил, что Хёэй с того самого дня — с годовщины смерти Хэйтаро — страдает той же болезнью, что и Дзиндайю. Понятно, что он в тот день не пришел в храм Сёкоин только из-за болезни. Когда Дзиндайю об этом услышал, его болезнь стала для него еще тягостней. Ведь если Хёэй умрет, то как бы он ни хотел убить его в отмщение, это уже никак не удастся. С другой стороны, пусть Хёэй и останется в живых, но если он, Дзиндайю, сам распростится с жизнью, тяготы всех этих лет пойдут прахом. Грызя изголовье, Дзиндайю молился о своем выздоровлении и вместе с тем не мог не молиться ж о выздоровлении своего врата Сэнума Хёэя.
Однако судьба была жестока к Таока Дзиндайю до конца. Болезнь его все обострялась, и на прошло и десяти дней с тех пор, как он стал принимать лекарства Рантая, а его состояние стало таким, что не сегодня-завтра мог наступить конец. Но, даже тяжко страдая, он ни на мгновение не забывал о мести. Кисабуро слышал, как сквозь стоны больного прорываются слова: «Великий бодисатва Хатиман!» Однажды ночью, когда Кисабуро, как обычно, давал больному лекарство, Дзиндайю, пристально глядя на него, слабым голосом позвал:
— Кисабуро! — И, помолчав, произнес: — Жизнь моя кончена. Кисабуро в отчаянии, упершись руками в циновку на полу,
не в силах был даже поднять головы.На следующий день Дзиндайю вдруг, под влиянием какой-то мысли, послал Кисабуро за Рантаем. Рантай, от которого и в этот день несло запахом сакэ, тотчас же пришел к больному.
— Примите мою признательность за столь долгую заботу обо мне, — с трудом проговорил Дзиндайю при виде врача, приподнявшись на своем ложе. — Но мне бы хотелось, пока я еще жив, попросить вас об одном деле. Вы выслушаете меня?
262
Рантай с готовностью кивнул головой. И Дзиндайю, поминутно прерываясь, рассказал ему все о мести, ради которой они высматривали Санума Хёэя. Голос его был едва слышен, но каждое слово в его длинном рассказе звучало как должно. Рантай, сдвинув брови, внимательно слушал. Закончив рассказ, Дзиндайю, задыхаясь, спросил:
— Последнее в этой жизни: я хотел бы знать, каково состояние Хёэя? Он еще жив?
Кисабуро уже плакал. И Рантай, слыша эти слова, не мог удержать слез. Придвинувшись к больному, он нагнулся к самому его уху и проговорил:
— Будьте покойны. Хёэй-доно скончался. Сегодня утром в час Тигра я сам присутствовал при его смерти.
На лице Дзиндайю показалась улыбка. И вместе с ней на исхудавшей щеке холодно блеснула слеза,
— Хёэй! Хёэй! Счастлив твой бог, — с горечью пробормотал Дзиндайю и, словно желая поблагодарить Рантая, склонил на постель свою голову со спутанными волосами.
И — его не стало.
В конце десятого месяца по лунному календарю десятого года Камбун слуга Кисабуро, простившись с Рантаем, направился в обратный путь, на родину в Кумамото. В дорожной корзинке за плечами у него были пряди волос трех человек—Сакона, Мотомэ и Дзиндайю.
В первом месяце одиннадцатого года Камбун на кладбище храма Сёкоин в Мацуя были поставлены четыре плиты в память умерших. Тот, кто их поставил, видимо, тщательно скрывался, ни один человек не знал, юто он. Но когда эти плиты была установлены, ранним утром в ворота храма вошли двое, по облику монахи, с ветками цветущих слив в руках. Один из них был известный в городке при замке Маруки Рантай. Другой — изможденный болезнью человек очень жалкого вида, в осанке которого все же чувствовалось что-то самурайское. Пришедшие положили ветки сливы у плит. Затем окропили каждую из четырех плит жертвенной водой и ушли.
Прошли года. На праздник святого Эрина в храм Обаку явился странствующий монах, очень похожий на изможденного болезнью человека, тогда посетившего кладбище. Кроме того что в монашестве его нарекли Дзюнкаку, о нем не было известно ничего.
Апрель 1920 г.
263
1
Победив змея из Коси, Сусаноо-но-микото взял себе в жены Кусинада-химэ и стал главою поселения, которым правил Асинацути.
Асинацути построил для молодых громадный дворец в Суга в области Идзумо. Дворец был так высок, что верхние концы скрепленных крест-накрест балок его крыши скрывались за облаками.
Сусаноо спокойно зажил с молодой женой. Опять волновали его и голоса ветра, и всплески моря, и сияние звезд на ночном небе. И он не мог больше скитаться по бескрайним просторам древней земли. Под сенью этого дворца, в комнате, где красно-белые стены были расписаны сценами из охотничьей жизни, Сусаноо, готовившийся уже стать отцом, впервые в жизни познал счастье семейного очага, счастье, которого он не изведал в стране Такама-гахара.
Он ел вместе с женой, с ней обсуждал планы на будущее. Иногда они выходили в дубовый лес, окружавший дворец, и, ступая по опавшим цветам дуба, слушали чарующее пение птиц. Сусаноо был нежен со своей женой. Ни в голосе, ни в движениях, ни во взгляде его никак не проявлялась его прежняя воинственность.
Впрочем, иногда во сне образ кишащих во мраке чудовищ, блеск меча, зажатого в невидимой руке, вновь оживляли ощущения кровавой схватки. Но стоило проснуться, как мысль сразу же обращалась к жене, к делам поселения, и кошмар начисто забывался.
Вскоре у них родился сын. Сусаноо назвал его Ясимадзинуми. Мальчик, красивый и с мягким характером, был больше похож на мать, чем на отца.
А время текло, как течет вода в реке.
Сусаноо женился еще много раз, и у него родилось еще много сыновей. Став взрослыми, сыновья шли по его приказу во главе войска покорять поселения в разных странах.
Слава о Сусаноо распространялась все дальше и дальше, по мере того как росло число его сыновей и внуков. Поселения разных стран одно за другим слали ему дань. На судах, доставлявших дары, вместе с шелком, мехами, яшмой приезжали и люди, чтобы посмотреть на дворец в Суга.
Однажды среди приезжих Сусаноо обнаружил трех молодых людей из страны Такамагахара. Все трое были атлетически сло-
264
жены, как и он в свое время. Сусаноо пригласил их во дворец и сам угощал сакэ. Никому еще этот суровый повелитель не оказывал такого приема. Поначалу молодые люди испытывали некоторый страх, не понимая, зачем их пригласили во дворец. Но когда сакэ возымело свое действие, они, как и ожидал Сусаноо, затянули песни страны Такамагахара, аккомпанируя себе ударами по днищу перевернутых кувшинов из-под сакэ.
Когда они покидали дворец, Сусаноо достал меч и сказал им:
— Это меч, который я извлек из хвоста дракона в Коси, когда победил его. Вручаю этот меч вам. Передайте его вашей повелительнице.
Молодые люди приняли меч и, преклонив колена, поклялись, что скорее умрут, нежели нарушат приказ.
А потом Сусаноо, выйдя один на берег моря, смотрел, как постепенно исчезал за высокими волнами парус увозившего их судна. Выхваченный солнечным лучом из дымки тумана, парус, казалось, плыл по небу.
2
Но смерть не миновала дома Сусаноо.
Когда Ясимадзинуми вырос и превратился в благовоспитанного молодого человека, Кусинада-химэ внезапно заболела и спустя месяц ушла из жизни. У Сусаноо было несколько жен, но только Кусинада-химэ любил он, как самого себя. Поэтому, когда была готова усыпальница, он семь дней и семь ночей молча лил слезы, сидя у еще прекрасного тела своей жены.
Дворец огласили стенания. Особенно печалилась единственная сестра Ясимадзинуми — Сусэри-химэ, ее непрерывные причитания вызывали слезы даже на глазах посторонних, проходивших мимо дворца. Так же как брат был похож на мать, Сусэри-химэ характером своим походила на отца, безудержного в своих порывах.
Вскоре прах Кусинада-химэ вместе с драгоценностями, зеркалами и одеждой, которыми она пользовалась при жизни, захоронили под холмом недалеко от. дворца Суга. Не забыл ташке Сусаноо положить в могилу одиннадцать ее служанок, которые должны были утешать Кусинада-химэ на пути в страну духов. Служанки умирали безропотно и быстро. А наблюдавшие это старики хмурили брови и втайне осуждали Сусаноо:
— Всего одиннадцать! Наш повелитель пренебрегает древними обычаями. Скончалась первая жена, а с ней идут в страну духов одиннадцать служанок! Как можно! Всего одиннадцать!
Когда все похоронные, церемонии были кончены, Сусаноо неожиданно принял решение передать власть Ясимадзинуми. Сам
265
же вместе с Сусэри-химэ переселился за море, в далекую страну Нэногатасу.
Он поселился на безлюдном острове, привлеченный его красотой еще во время скитаний. На холме в южной части острова он построил крытый тростником дворец и решил тихо прожить в нем остаток своих дней.
Волосы у Сусаноо поседели и приобрели цвет конопли. Но в его глазах время от времени вспыхивали живые огоньки, свидетельствовавшие о том, что старость еще не коснулась его души. Можно даже сказать, что выглядел он более воинственным, чем тогда, когда жил в Суга. Он не замечал, что после переезда на остров дремавшие в нем до сих пор темные силы вновь пробудились.
Вместе с дочерью Сусэри-химэ Сусаноо разводил пчел и змей. Пчел — чтобы получать мед, а змей — чтобы добывать смертоносный яд, которым смазываются наконечники стрел. Во время охоты и рыбной ловли он обучал Сусэри-химэ приемам владения оружием и колдовству. Такая жизнь закалила Сусэри-химэ. Она ни в чем не уступала мужчине. И только ее внешность сохраняла благородную красоту, унаследованную от Кусинада-химэ.
Много раз зеленели и вновь опадали листья на деревьях муку в роще вокруг дворца. И всякий раз на заросшем бородой лице Сусаноо прибавлялись новые морщины, а постоянно улыбавшиеся глаза Сусэри-химэ становились все более ясными.
3
Однажды, когда, сидя под деревом муку перед дворцом, Сусаноо свежевал большую оленью тушу, ходившая за морской водой Сусэри-химэ вернулась в сопровождении незнакомого молодого человека.
— Батюшка, я только что повстречала этого господина и проводила его сюда.
С этими словами она подвела молодого человека к Сусаноо, который только тогда поднялся со своего места.
Молодой человек был красив и широк в плечах. Шею его украшали красные и зеленые ожерелья из яшмы, у пояса висел широкий меч. Так выглядел сам Сусаноо в свои молодые годы.
В ответ на почтительный поклон Сусаноо грубо спросил:
— Как твое имя?
— Меня зовут Асихарасикоо́.
— Зачем ты приплыл на этот остров?
— Я пристал, чтобы запастись продовольствием и водой.
266
Молодой человек отвечал на вопросы спокойно и ясно.
— Ну, что же. Можешь пройти туда и поесть. Сусэри-химэ, проводи его.
Они вошли во дворец, а Сусаноо в тени дерева опять принялся за оленью тушу, искусно орудуя ножом. Незаметно им овладело смутное беспокойство, как будто над морем в погожий день появилось облачко, предвещавшее бурю.
Когда, покончив с тушей, Сусаноо вернулся во дворец, уже смеркалось. Он поднялся по широкой лестнице, с которой сквозь белый занавес, закрывавший вход, видна была большая зала. Сусэри-химэ и Асихарасикоо поспешно поднялись с сутадатами, совсем как вспугнутые птички из гнезда. Сусаноо с недовольным выражением на лице медленно вошел в залу. Бросив на Асихарасикоо злой взгляд, он обратился к нему, и слова его прозвучали почти как приказ:
— Сегодня ты можешь заночевать у нас, чтобы немного отдохнуть.
Асихарасикоо ответил радостным поклоном, но его движения не могли скрыть чувства смутной тревоги.
— Тогда иди устраивайся на ночлег. Сусэри-химэ! — Сусаноо обернулся к дочери и с презрением в голосе сказал: — Проводи гостя в пчельник.
Сусэри-химэ побледнела.
— Может быть, ты поторопишься! — как разъяренный медведь, взревел отец, видя, что она медлит.
— Иду. Пожалуйте сюда.
Асихарасикоо еще раз отвесил почтительный поклон и весело вышел из залы вслед за Сусэри-химэ.
4
Когда они вышли из залы, Сусэри-химэ сняла с плеч платок и, давая его Асихарасикоо, прошептала:
— Когда войдете в пчельник, взмахните им три раза. Пчелы тогда не будут жалить.
Асихарасикоо не понял, что означали ее слова. Но спрашивать было некогда, так как Сусэри-химэ уже открыла маленькую дверь и ввела его в помещение.
Внутри было совсем темно. Асихарасикоо хотел было ощупью найти Сусэри-химэ. Он коснулся кончиками пальцев ее волос. В следующее мгновение хлопнула поспешно закрытая дверь.
Он так и остался стоять в растерянности с платком в руке. Немного погодя его глаза начали привыкать к темноте. Внутри было не так темно, как ему показалось сначала.
267
В тусклом свете он увидел множество свисавших с потолка пчелиных ульев, каждый величиной с большую бочку. А по этим ульям лениво ползали громадные пчелы, каждая больше, чем его меч, висевший у пояса.
Асихарасикоо непроизвольно отпрянул назад и бросился к двери. Но как он ни старался, дверь не поддавалась. Тем временем одна из пчел спустилась на пол и с глухим жужжанием стала приближаться к нему.
Асихарасикоо попытался раздавить ее, прежде чем она подползет. Но пчела с еще более громким жужжанием поднялась до уровня его головы. И другие пчелы, потревоженные присутствием человека, словно стрелы, летящие навстречу ветру, тучей устремились на него...
Сусэри-химэ вернулась в залу и зажгла прикрепленный к стене сосновый факел. Яркое красноватое пламя осветило Сусаноо, лежавшего на плетенной из осоки татами.
— Ты действительно отвела его в пчельник? — по-прежнему злобно спросил Сусаноо, пристально глядя в глаза дочери.
— Я еще не нарушала ваших приказаний, отец.
Сусэри-химэ, избегая отцовского взгляда, села в углу.
— Да? И, надеюсь, в будущем тоже не нарушишь? — спросил Сусаноо, и в его словах прозвучали иронические нотки. Но Сусэри-химэ, занятая своим ожерельем, ничего не ответила. — Ты молчишь? Значит, ты собираешься ослушаться меня?
— Нет. Но почему вы, отец, так...
— А если не собираешься, то я хочу кое-что сказать тебе. Имей в виду, что я не позволю тебе выйти замуж за этого молодца. Дочь Сусаноо может быть женой только такого человека, который пользуется доверием Сусаноо. Понятно? Запомни это хорошенько!
А поздно ночью, когда Сусаноо уже спал, громко храпя, Сусэри-химэ, одинокая и печальная, все еще сидела у окна, наблюдая, как бесшумно погружается в море красноватый месяц.
5
На следующее утро Сусаноо, как всегда, отправился на скалистый берег моря искупаться. Неожиданно для себя он увидел Асихарасикоо, бодрым шагом спускавшегося вслед за ним со стороны дворца.
Весело улыбаясь, Асихарасикоо приветствовал его:
— Доброе утро.
— Ну как, хорошо ли спалось?
268
Стоя на выступе скалы, Сусаноо испытующе посмотрел в лицо Асихарасикоо. В самом деле, почему этого жизнерадостного молодого человека не тронули пчелы? Это не входило в расчеты Сусаноо.
— Спасибо. Благодаря вам я хорошо выспался.
Отвечая так, Асихарасикоо поднял лежавший у его ног обломок скалы и что есть силы бросил его в сторону моря. Камень описал большую дугу и скрылся в розовых облаках. Он упал в море так далеко от берега, что сам Сусаноо вряд ли мог бы его туда добросить.
Закусив губу, Сусаноо проводил взглядом летящий камень.
Они вернулись с моря и сели завтракать. И тогда Сусаноо, мрачно глодавший оленью ногу, сказал сидевшему напротив Асихарасикоо:
— Если тебе нравится здесь, можешь остаться еще на несколько дней.
Сусэри-химэ, находившаяся тут же, незаметно подала Асихарасикоо знак, чтобы он отказался от этого коварного приглашения. Но Асихарасикоо, внимание которого было поглощено блюдом с рыбой, не заметил ее знака и радостно ответил:
— Спасибо. Я бы провел у вас еще дня два или три.
К счастью, после обеда Сусаноо задремал. Воспользовавшись этим, влюбленные выскользнули из дворца и, найдя уединенное место на берегу моря, среди скал, там, где была привязана пирога Асихарасикоо, торопливо вкусили счастья. Лежа на ароматных водорослях, Сусэри-химэ некоторое время, как зачарованная, смотрела на Асихарасикоо, а потом, высвободившись из его объятий, с беспокойством сказала:
— Оставаться еще на ночь опасно. Не думайте обо мне, бегите отсюда как можно скорее.
Но Асихарасикоо улыбнулся и, как ребенок, упрямо покачал головой:
— Пока ты здесь, я не уеду, пусть даже мне грозит смерть.
— Но если с вами случится несчастье...
— А ты согласна немедленно бежать со мной? Сусэри-химэ не могла решиться на это.
— Тогда я остаюсь.
Асихарасикоо попытался было еще раз привлечь ее к себе. Но Сусэри-химэ отстранила его и быстро встала.
— Отец зовет, — сказала она тревожно и с легкостью молодой косули побежала по направлению ко дворцу.
Асихарасикоо, все еще улыбаясь, проводил ее взглядом. И тут он заметил на месте, где лежала Сусэри-химэ, оброненный ею платок, такой же, как тот, что он получил вчера.
269
6
Вечером Сусаноо сам проводил Асихарасикоо в помещение, расположенное напротив пчельника.
Как и накануне в пчельнике, здесь было уже совсем темно. Только одним отличалось это помещение: в темноте сверкали многочисленные точки, будто драгоценные камни, скрытые в недрах земли.
Асихарасикоо, которому светящиеся точки показались подозрительными, подождал, пока глаза не привыкли к темноте. Когда же вокруг немного посветлело, эти похожие на звезды точки оказались глазами чудовищных змей, таких громадных, что они могли бы заглотать и лошадь. Помещение кишело змеями. Они висели на поперечных балках, обвивали стропила, лежали, свернувшись спиралями, на полу.
Асихарасикоо непроизвольно схватился за меч. Но если, обнажив меч, он и сразит одну змею, другая без труда его задушит. Одна змея уже стала снизу подбираться к его лицу, а другая, еще больших размеров, висевшая на балке, извиваясь потянулась к его плечу.
Дверь, конечно, заперта. За ней, наверное, стоит этот зло улыбающийся седовласый Сусаноо и, приложив ухо, слушает, что происходит внутри. Асихарасикоо застыл на месте, изо всех сил сжимая рукоятку меча и лишь поводя глазами. Тем временем змея, свернувшаяся громадным клубком у его ног, подняла голову еще выше, с явным намерением схватить его за горло.
Тут Асихарасикоо осенило. Вчера, когда на него тучей набросились пчелы, он взмахнул платком Сусэри-химэ и спас себе жизнь. Может быть, платок, забытый Сусэри-химэ на прибрежной скале, тоже обладает чудесным свойством? Он моментально выхватил платок и трижды взмахнул им...
На следующее утро у скалистого берега моря Сусаноо опять повстречал Асихарасикоо, еще более довольного, чем накануне.
— Ну как, хорошо ли спалось?
— Да, благодаря вам я хорошо выспался.
Раздражение переполняло Сусаноо. Он бросил злобный взгляд на своего собеседника, но овладел собой. Слова его прозвучали искренне:
— Это хорошо. Давай теперь поплаваем вместе.
Они разделись и бросились в бурное на рассвете море. Сусаноо еще в стране Такамагахара был непревзойденным пловцом. Асихарасикоо тоже чувствовал, себя в воде, как дельфин. Их головы, черная и белая, с одинаковыми прическами мидзура, как две утки, быстро удалялись от отвесных скал берега.
270
7
Вздыбленное волнами море сеяло похожую на снег пену. Сусаноо среди брызг и пены то и дело злобно посматривал в сторону Асихарасикоо. Но тот все плыл и плыл вперед, и самые высокие волны не страшили его.
Вскоре Асихарасикоо стал понемногу обгонять Сусаноо. Стиснув зубы, Сусаноо старался не отстать. Но набежало несколько больших пенистых волн, и его противник легко вырвался вперед. А потом он и вовсе исчез из виду за гребнями волн.
«А я-то надеялся утопить его в море!» — подумал Сусаноо и почувствовал, что не обретет покоя, пока не убьет Асихарасикоо. — Негодяй! Пусть этого проходимца сожрут крокодилы!
Но вскоре Асихарасикоо, легко держась на воде, будто он сам был крокодилом, вернулся назад.
— Поплаваем еще? — качаясь на волнах, крикнул он издали с неизменной улыбкой на лице. Однако Сусаноо, несмотря на все свое упрямство, не хотел больше плавать...
В тот же день после полудня Сусаноо отправился с Асихарасикоо в западную равнинную часть острова поохотиться на лисиц и зайцев.
Они поднялись на скалу на краю равнины. Насколько хватал глаз, равнина была покрыта сухими травами, колебавшимися, как волны от ветра. Сусаноо помолчал немного, любуясь открывшейся их взорам картиной, а потом приложил стрелу к луку и обернулся к Асихарасикоо:
— Ветер, правда, немного мешает... Но все-таки чья стрела улетит дальше? Давай состязаться в стрельбе из лука.
— Что же, давайте.
По-видимому, в искусстве стрельбы из лука Асихарасикоо тоже чувствовал себя уверенно.
— Готов? Стрелять будем одновременно!
Стоя рядом, они изо всех сил натянули тетиву и одновременно отпустили ее. Стрелы полетели пад волнующейся равниной по прямой линии. Не обгоняя друг друга, они сверкнули на солнце и, вдруг подхваченные ветром, одновременно скрылись вдали.
— Ну как, чья взяла?
— Трудно сказать. Давайте попробуем еще раз.
Сусаноо, нахмурив брови, с раздражением покачал головой.
— Сколько ни пробуй, результат будет тот же. Лучше, не сочти за труд, сбегай принеси мою стрелу. Я очень дорожу этой лакированной стрелой, она из страны Такамагахара.
Асихарасикоо послушно бросился в заросли шумевшей на вет-
271
ру высокой сухой травы. А Сусаноо, как только он скрылся из виду, быстро достал из висевшего на поясе мешочка кремень и огниво и зажег сухой терновник под скалой.
8
В мгновение ока над бесцветным пламенем поднялись густые клубы черного дыма. А под дымом громко трещал терновник и загоревшиеся побеги бамбука.
— На этот раз я покончу с ним!
Сусаноо стоял на высокой скале, опершись на лук, и губы его кривились в жестокой усмешке.
Огонь распространялся все дальше и дальше. Птицы с жалобными криками взлетали в красно-черное небо. Но тут же, охваченные пламенем, они падали обратно на землю. Издали казалось, будто это опадают с деревьев бесчисленные плоды, срываемые набежавшей бурей.
— На этот раз я покончу с ним! — еще раз удовлетворенно вздохнул Сусаноо, но при этом на него нахлынуло неизъяснимое смутное чувство грусти...
Вечером того же дня довольный своей победой Сусаноо стоял у ворот дворца со скрещенными на груди руками и смотрел на небо, по которому все еще плыли клубы дыма. Подошла Сусэри-химэ, чтобы сказать, что ужин готов. На ней было выделявшееся в сумерках белое траурное одеяние, как если бы она похоронила близкого родственника.
При виде опечаленной Сусэри-химэ Сусаноо вдруг захотелось поиздеваться над ее горем.
— Посмотри на небо. Асихарасикоо сейчас...
— Я знаю.
Сусэри-химэ стояла, потупив взор, и твердость, с которой она прервала отца, была неожиданной.
— Вот как? Тебе, наверное, грустно?
— Да, очень. Даже если бы вы, отец, скончались, мне не было бы так грустно.
Сусаноо изменился в лице и злобно взглянул на дочь. Но почему-то он не смог наказать ее за дерзость.
— Если тебе грустно, плачь. — Он резко повернулся и, широко шагая, направился во дворец. Поднимаясь по лестнице, он раздраженно щелкнул языком: — В другой раз я бы и говорить не стал, просто побил бы...
После его ухода Сусэри-химэ некоторое время смотрела полными слез глазами на охваченное заревом вечернее небо, а потом, понуря голову, побрела назад.
272
В эту ночь Сусаноо никак не мог уснуть. Гибель Асихарасикоо терзала его душу.
— Сколько раз замышлял я убить его! Однако не испытывал еще такого странного чувства, как сегодня...
Он без конца ворочался на зеленой благоухающей сугадатами. Но сон все не шел.
А тем временем над темным морем уже занималась печальная холодная заря.
9
Это случилось на следующий день, когда утреннее солнце полностью осветило море. Невыспавшийся Сусаноо, шурясь от яркого света, медленно вышел из дома и на ступеньках — вот чудо! — увидел Асихарасикоо, который, сидя рядом с Сусэри-химэ, о чем-то весело с ней болтал.
Увидев Сусаноо, молодые люди испугались. Но Асихарасикоо вскочил со своей обычной живостью и, протягивая лакированную стрелу, сказал:
— Вот. Я нашел вашу стрелу.
Сусаноо еще не оправился от изумления. Но он почему-то почувствовал радость, видя Асихарасикоо невредимым.
— К счастью, ты не пострадал?
— Да, я спасся совсем случайно. Пожар настиг меня, как раз когда я подобрал эту стрелу. Я бросился бежать сквозь дым в ту сторону, где еще не было огня. Но как ни спешил, так и не смог обогнать пламя, раздуваемое западным ветром... — Асихарасикоо на мгновение остановился и улыбнулся слушавшим его отцу и дочери. — Я уже решил, что пришел конец. Но в это время земля у меня под ногами неожиданно провалилась, и я очутился в большой пещере. Сначала вокруг было совсем темно, но когда сухая трава по краям загорелась, пещера осветилась до самого дна, и я увидел множество полевых мышей. Их было столько, что под ними скрылась земля...
— Хорошо, что мыши. А окажись это гадюки...
В глазах Сусэри-химэ сверкнули одновременно и слезы и улыбка.
— С мышами тоже шутки плохи. Видите, на стреле нет перьев. Это мыши отгрызли. Но, к счастью, пожар благополучно прошел над пещерой.
Слушая рассказ, Сусаноо снова почувствовал, как растет в нем ненависть к этому удачливому юноше. И еще почувствовал, что, пока он, однажды решивший убить этого юношу, не добьется своей цели, его гордость, гордость человека, ни разу в жизни не знавшего поражений, будет уязвлена.
273
— Что же, тебе повезло. Хотя, знаешь, удача как ветер: неизвестно, когда изменит направление... Впрочем, это не важно. Главное — ты спасся. А теперь пойдем во дворец, поищи мне, пожалуйста, в голове.
Асихарасикоо и Сусэри-химэ ничего не оставалось, как последовать за ним в залу, за освещенную солнцем белую занавеску.
Сусаноо, не в духе и злой, сел, скрестив ноги, посреди залы и распустил свою прическу мидзура. Волосы его, цветом напоминавшие сухой камыш, были длинными, как река.
— Насекомые у меня не простые.
Не обратив внимания на эти слова, Асихарасикоо принялся расчесывать волосы Сусаноо, намереваясь давить насекомых, как только найдет их. Но тут он увидел, что у корней волос копошатся большие, медного цвета ядовитые сколопендры.
10
Асихарасикоо растерялся. Тогда находившаяся рядом Сусэри-химэ незаметно положила ему в руку пригоршню плодов дерева муку и красной глины. Асихарасикоо принялся разгрызать плоды муку, смешивал их во рту с глиной и выплевывал на пол, будто и в самом деле уничтожал сколопендр.
Тем временем Сусаноо, плохо спавший ночью, незаметно задремал...
Ему снилось, что, изгнанный из страны Такамагахара, он поднимается в гору по крутой каменистой дороге и ногти на его ногах содраны о камни. Папоротник между скалами, крики ворон, холодное, стального цвета небо — все вокруг мрачно.
— В чем я виноват? Я сильнее их. А разве это преступление быть сильнее? Это они виноваты, ревнивые двуличные люди, не достойные быть мужчинами.
Возмущаясь так, Сусаноо продолжает свой трудный путь. Но вот на дороге, на большой скале, похожей на панцирь черепахи, он видит белое металлическое веркало с шестью колокольчиками. Он подходит и заглядывает в него. В зеркале отчетливо отражается молодое лицо. Но это не его лицо, это лицо Асихарасикоо, которого он столько раз пытался убить...
Здесь Сусаноо проснулся. Открыв глаза, он огляделся вокруг. Зала была залита ярким утренним солнцем, но ни Асихарасикоо, ни Сусэри-химэ не было. Он увидел, что волосы его, разделенные на три пряди, привязаны к потолочным балкам.
— Негодяй!
Сусаноо все сразу понял, издал воинственный крик и что есть
274
силы тряхнул головой. На крыше дворца раздался оглушительный грохот — это треснули балки, к которым были привязаны его волосы. Но Сусаноо и ухом не повел. Он протянул правую руку и взял свой тяжелый небесный лук для охоты на оленей. Протянул левую руку и взял колчан с небесными стрелами. Потом он напряг ноги, разом поднялся и, волоча за собой рухнувшие балки, с гордо поднятой головой вышел из дворца.
Роща деревьев муку вокруг дворца задрожала от его шагов. Даже белки попадали с деревьев на землю. Как ураган, пронесся он по роще.
Там, где кончалась роща, — обрыв, под обрывом — море. Сусаноо вышел на край обрыва и обвел взглядом морскую ширь, приложив ладонь к глазам. Синее море придавало легкий синеватый отсвет солнечному диску. А среди волн, удаляясь все дальше и дальше от берега, плыла знакомая пирога.
Сусаноо, стоявший опершись на лук, всмотрелся в нее. Лодка, как бы поддразнивая его, легко скользила по волнам под маленьким парусом из циновки. Он отчетливо видел, что на корме стоит Асихарасикоо, а на носу — Сусэри-химэ.
Сусаноо хладнокровно вложил небесную стрелу в свой небесный лук. Натянул лук и нацелил стрелу на лодку. Но стрела никак не срывалась с тетивы. В глазах Сусаноо появилось что-то похожее на улыбку. На улыбку? И в то же время в них стояли слезы... Пожав плечами, он отбросил лук и, не в силах более сдерживаться, разразился громким, как гул водопада, смехом.
— Я благословляю вас! — С высокого обрыва Сусаноо махнул им рукой. — Будьте сильнее меня! Будьте умнее меня! Будьте... — Сусаноо остановился на мгновение и продолжал напутствовать их низким, сильным голосом: — Будьте счастливее меня!
Его слова разносились ветром по морю. И в этот момент Сусаноо был более спокоен и величав, более походил на небесного бога, чем тогда, когда воевал с Охирумэмути, когда был изгнан из страны Такамагахара, когда победил змея из Коси.
Май 1920 г.
1
Была осенняя полночь. В Нанкине в доме на улице Циванцзе сидела бледная девушка-китаянка и, облокотившись на старенький стол, со скучающим видом грызла арбузные семечки, которые брала с лакированного подносика.
275
Лампа на столе светила слабо. Ее свет не столько рассеивал темноту, сколько усугублял унылый вид комнаты. В углу у стены с ободранными обоями свешивался пыльный полог над тростниковой кроватью, небрежно накрытой шерстяным одеялом. По другую сторону стола стоял, как будто позабытый, старенький стул. Кроме этих вещей, самый внимательный взгляд не обнаружил бы ничего, что могло бы служить украшением комнаты.
Но время от времени девушка переставала грызть семечки и, подняв ясные глаза, пристально смотрела на противоположную стену: в самом деле, там прямо перед ней на крючке скромно висело маленькое бронзовое распятие. А на нем смутной тенью вырисовывался полустертый незатейливый барельеф, изображавший распятого Христа с высоко раскинутыми руками. Каждый раз, когда девушка смотрела на этого Иисуса, выражение грусти за длинными ресницами на мгновенье исчезало, и вместо него в ее глазах загорался луч наивной надежды. Но девушка сейчас же отводила взгляд, каждый раз вздыхала, устало поводила плечами, покрытыми кофтой из черного шелка, и снова принималась грызть арбузные семечки.
Девушку звали Сун Цзинь-хуа, это была пятнадцатилетняя проститутка, которая, чтобы свести концы с концами, по ночам принимала в этой комнате гостей. Среди многочисленных проституток Циньвая девушек с такой наружностью, как у нее, безусловно, было много. Но чтобы нашлась другая с нравом столь же нежным, как у Цзинь-хуа, во всяком случае, сомнительно. Она, — в отличие от своих товарок, других продажных женщин, — не лживая, не взбалмошная, с веселой улыбкой развлекала гостей, каждую ночь посещавших ее угрюмую комнату. И если их плата изредка оказывалась больше условленной, она радовалась, что может угостить отца — единственного близкого ей человека — лишней чашечкой его любимого сакэ.
Такое поведение Цзинь-хуа, конечно, объяснялось ее характером. Но имелась еще и другая причина, а именно: она с детства придерживалась католической веры, в которой ее воспитала покойная мать, о чем свидетельствовало висевшее на стене распятие.
Кстати сказать, как-то раз у Цзинь-хуа из любопытства провел ночь молодой японский турист, приехавший весной этого года посмотреть шанхайские скачки и заодно полюбоваться видами Южного Китая. С сигарой в зубах, в европейском костюме, он беспечно обнимал маленькую фигурку Цзинь-хуа, сидевшую у него на коленях, и, случайно заметив крест на стене, недоверчиво спросил на ломаном китайском языке:
— Ты что, христианка?
— Да, меня крестили пяти лет.
276
— А занимаешься таким ремеслом?
В его голосе слышалась насмешка. Но Цзинь-хуа, положив к нему на руку головку с иссиня-черными волосами, улыбнулась, как всегда, светлой улыбкой, обнажавшей ее мелкие, ровные зубки.
— Ведь если б я не занималась этим ремеслом, и отец и я, мы оба умерли бы с голоду.
— А твой отец — старик?
— Да... он уже с трудом держится на ногах.
— Однако... Разве ты не думаешь о том, что если будешь заниматься таким ремеслом, то не попадешь на небо?
— Нет. — Мельком взглянув на распятие, Цзинь-хуа задумчиво произнесла: — Я думаю, что господин Христос на небе сам, наверное, понимает, что у меня на сердце. Иначе господин Христос был бы все равно что полицейский из участка в Яоцзякао.
Молодой японский турист улыбнулся. Он пошарил в карманах пиджака, вытащил пару нефритовых сережек и сам вдел их ей в уши.
— Эти сережки я купил, чтобы отвезти их в подарок в Японию, но дарю их тебе на память об этой ночи.
И действительно, с той ночи, как она впервые приняла гостя, Цзинь-хуа была спокойна в этой своей уверенности.
Однако месяц спустя эта набожная проститутка, к несчастью, заболела: у ней появились злокачественные сифилитические язвы. Услышав об этом, ее товарка Чэн Шань-ча посоветовала ей пить опийную водку, уверяя, что это унимает боль. Потом другая ее товарка — Мао Ин-чунь — с готовностью принесла ей остатки пилюль «гунланьвань» и «цзялуми», которые она сама употребляла. Но, несмотря на то что Цзинь-хуа сидела взаперти, не принимала гостей, здоровье ее почему-то нисколько не улучшалось.
И вот однажды Чэн Шань-ча, зайдя навестить Цзинь-хуа, с полной убежденностью сообщила ей такой (явно основанный на суеверии) способ лечения:
— Раз твоя болезнь перешла на тебя от гостя, то поскорей отдай ее кому-нибудь обратно. И тогда ты через два-три дня будешь здорова.
Цзинь-хуа сидела, подперев щеку рукой, и подавленное выражение ее лица не изменилось. Но, по-видимому, слова Шань-ча пробудили в ней некоторое любопытство, и она коротко переспросила:
— Правда?
— Ну да, правда! Моя сестра тоже никак не могла поправиться, вот как ты сейчас. А как передала болезнь гостю, сразу же выздоровела.
— А гость?
277
— Гостя-то жаль! Говорят, он от этого даже ослеп.
Когда Шань-ча ушла, Цзинь-хуа, оставшись одна, опустилась на колени перед распятием и, подняв глаза на распятого Христа, стала горячо молиться:
— Господин Христос на небесах! Для того чтоб кормить моего отца, я занимаюсь презренным ремеслом. Но мое ремесло позорит только меня, а больше я никому не причиняю зла. Поэтому я думаю, что, даже если я умру такой как есть, все равно я непременно попаду на небо. Но теперь я могу продолжать заниматься своим ремеслом, только если передам болезнь гостю. Значит, пусть даже мне придется умереть с голода, — а тогда болезнь тоже пройдет, — я должна решить не спать больше ни с кем в одной постели. Ведь иначе я ради своего счастья погублю человека, который не сделал мне никакого зла! Но я все-таки женщина. Я могу в какую-то минуту поддаться соблазну. Господин Христос на небесах! Пожалуйста, оберегайте меня! Кроме вас, мне не от кого ждать помощи.
Приняв такое решение, Цзинь-хуа, как ни уговаривали ее Шань-ча и Ин-чунь, больше не пускала к себе гостей. А если иногда к ней заходили ее постоянные гости, она позволяла себе только посидеть, покурить с ними и больше не исполняла никаких их желаний.
— У меня страшная болезнь. Если вы ляжете со мной, она пристанет к вам, — говорила Цзинь-хуа всегда, когда пьяный гость все же пытался насильно ею овладеть, и даже не стыдилась показывать доказательства своей болезни. Поэтому гости постепенно перестали к ней ходить. И жить ей становилось день ото дня труднее.
В этот вечер она долго сидела, облокотившись на стол, ничего не делая и задумчиво глядя перед собой. Гости по-прежнему не заходили к ней. А тем временем надвигалась ночь, все затихло, и до ушей Цзинь-хуа откуда-то доносилось только стрекотанье сверчка. К тому же в нетопленной комнате от каменного пола поднимался холод, который, как вода, пропитал сначала ее серые шелковые туфельки, а потом и изящные ножки в этих туфельках.
Цзинь-хуа некоторое время задумчиво смотрела на тусклый свет лампы, потом вздрогнула и подавила легкую зевоту. Почти в ту же минуту крашеная дверь вдруг открылась от толчка, и в комнату ввалился незнакомый иностранец. Вероятно, оттого, что дверь распахнулась настежь, лампа на столе вспыхнула, и темпая комната озарилась странным красным коптящим светом. Гость, с ног до головы озаренный этим светом, отступил назад и тяжело прислонился к крашеной двери, которая тут же захлопнулась.
278
Цзинь-хуа невольно поднялась и изумленно уставилась на этого незнакомого иностранца. Гостю было лет тридцать пять, это был загорелый бородатый мужчина с большими глазами, в коричневом полосатом пиджаке и в такой же кепке. Одно только было непонятно: хотя он, несомненно, был иностранцем, но, как ни странно, по его виду нельзя было определить, азиат он или европеец. Когда он, с выбившимися из-под кепки черными волосами, с потухшей трубкой в зубах, встал у входа, заслоняя собой дверь, его можно было принять за мертвецки пьяного прохожего, который забрел сюда по ошибке.
— Что вам угодно? — почти с укором в голосе спросила несколько испуганная Цзинь-хуа, не выходя из-за стола. Гость покачал головой, показывая, что не понимает по-китайски. Потом вынул изо рта трубку и произнес какое-то непонятное иностранное слово. На этот раз Цзинь-хуа пришлось покачать головой, от чего нефритовые серьги сверкнули в свете лампы.
Увидев, как она в замешательстве нахмурила свои красивые брови, гость вдруг громко захохотал, непринужденно сбросил кепку и, пошатываясь, направился к ней. Обессиленно опустился на стул, стоявший по другую сторону стола. В эту минуту он показался Цзинь-хуа каким-то близким, как будто она раньше его уже видела, хотя и не могла вспомнить, где и когда. Гость бесцеремонно сгреб с подносика горсть арбузных семечек, но грызть их не стал, а только пристально посмотрел на Цзинь-хуа и опять, странно жестикулируя, заговорил на иностранном языке. Цзинь-хуа не поняла смысла его речи, но, хоть и смутно, все же догадалась, что гость имеет представление о том, чем она занимается.
Проводить долгие ночи с иностранцами, не понимающими по-китайски, не представляло для Цзинь-хуа ничего необычного. Поэтому она опять села и, улыбаясь приветливой улыбкой, что почти вошло у нее в привычку, принялась болтать, усыпая свою речь совершенно непонятными гостю шутками. Однако гость через два слова в третье так весело хохотал, словно понимал ее, и при этом жестикулировал еще быстрей, чем раньше.
От гостя пахло водкой, но на его пьяном красном лице была разлита такая мужественная жизненная сила, что казалось, в этой унылой комнате стало светлей. Во всяком случае, в глазах Цзинь-хуа он был прекраснее всех иностранцев, которых она до сих пор видела, не говоря уже о ее соотечественниках из Нанкина. Тем не менее она никак не могла отделаться от ощущения, что где-то раньше встречалась с ним. Глядя на его свешивающиеся на лоб черные кудрявые волосы и все время весело улыбаясь, она изо всех сил старалась вспомнить, где же она видела это лицо раньше.
279
«Не тот ли это, который ехал с толстой женой на шаланде? Нет, нет, тот гораздо рыжее. А может быть, это тот, который фотографировал мавзолей Кун-цзы в Циньвае? Но тот был как будто старше этого гостя. Да, да, однажды я видела, как перед рестораном у моста в Лидацяо толпился народ и какой-то человек, точь-в-точь похожий на этого гостя, толстой палкой бил по спине рикшу. Пожалуй... однако у того глаза как будто были синее».
Пока Цзинь-хуа раздумывала об этом, иностранец все с тем же веселым видом набил трубку и, закурив, выпустил приятно пахнущий дым. Потом он вдруг опять что-то сказал, засмеялся, на этот раз тихонько, и, подняв два пальца, поднес их к глазам Цзинь-хуа, показывая жестом: «два». Что два пальца обозначают два доллара, это, разумеется, было известно всем. Однако Цзинь-хуа, больше не принимавшая гостей, по-прежнему ловко щелкала семечки и, тоже улыбаясь, в знак отказа два раза отрицательно покачала головой. Тогда гость, нахально облокотившись на стол, при слабом свете лампы придвинул свое осоловелое лицо к самому лицу Цзинь-хуа и пристально на нее уставился, а потом с выжидательным видом поднял три пальца.
Цзинь-хуа, все еще с семечками в зубах, немного отодвинулась, и лицо ее выразило смущение. Гость, по-видимому, подумал, что она не отдается за два доллара. А между тем было совершенно невозможно объяснить ему, в чем дело, раз он не понимает по-китайски. Горько раскаиваясь в своем легкомыслии, Цзинь-хуа холодно отвела глаза в сторону и волей-неволей еще раз решительно покачала головой.
Однако пностранец, слегка улыбнувшись и как будто немного поколебавшись, поднял четыре пальца и снова сказал что-то на иностранном языке. Вконец растерявшись, Цзинь-хуа подперла щеку рукой и не в состоянии была даже улыбнуться, но в эту минуту она решила, что, раз уж дело так обернулось, ей остается только качать головой до тех пор, пока гостю не надоест. Но тем временем на руке гостя, как будто хватая что-то невидимое, раскрылись все пять пальцев.
Потом в течение долгого времени они вели разговор с помощью мимики и жестов. Настойчиво прибавляя по одному пальцу, гость в конце концов показал, что ему не жалко даже десяти долларов. Но даже десять долларов, большая сумма для проститутки, не поколебали решения Цзинь-хуа. Еще раньше встав со стула, она стояла боком к столу, и когда гость показал ей пальцы обеих рук, она сердито топнула ногой и несколько раз подряд покачала головой. В тот же миг распятие, висевшее на стене, почему-то сорвалось с крючка и с легким звоном упало на каменный пол к ее ногам.
280
Цзинь-хуа поспешно протянула руку и бережно подняла распятие. В эту минуту она случайно взглянула на лицо распятого Христа, и, странная вещь, это лицо оказалось живым отображением лица иностранца, сидевшего за столом.
«То-то мне показалось, что я где-то раньше его видела, — ведь это лицо господина Христа!»
Прижимая бронзовое распятие к груди, покрытой черной шелковой кофтой, Цзинь-хуа ошеломленно уставилась на сидевшего против нее гостя. Гость, у которого красное от вина лицо по-прежнему было освещено лампой, время от времени попыхивал трубкой и многозначительно улыбался. И его глаза не отрываясь скользили по ее фигурке, по белой шее и ушам, с которых свешивались нефритовые серьги. Но Цзинь-хуа казалось, что даже в таком виде он полон какого-то мягкого величия.
Немного погодя гость вынул трубку изо рта и, многозначительно наклонив голову, смеющимся голосом что-то сказал. Эти слова подействовали на Цзинь-хуа, как шепот искусного гипнотизера. Не забыла ли она о своем великодушном решении? Опустив улыбающиеся глаза и перебирая руками бронзовое распятие, она стыдливо подошла к таинственному иностранцу.
Гость пошарил в кармане брюк и, побрякав серебром, некоторое время, любуясь, смотрел на Цзинь-хуа смеющимися, как и прежде, глазами. Но вдруг улыбка в его глазах сменилась горячим блеском, гость вскочил со стула и, крепко обняв Цзинь-хуа, прижал ее к своему пахнущему водкой пиджаку. Цзинь-хуа, словно теряя сознание, с запрокинутой головой, со свешивающимися нефритовыми сережками, но с румянцем на бледных щеках, зачарованно смотрела в его лицо, придвинувшееся прямо к ее глазам. Разумеется, ей уже было не до того, чтобы раздумывать, отдаться ли этому странному иностранцу или уклониться от его поцелуя из опасения заразить гостя. Подставляя губы его бородатому рту, Цзинь-хуа знала только одно — что ее грудь заливает радость жгучей, радость впервые познанной любви.
2
Через несколько часов в комнате с уже потухшей лампой еле слышное стрекотанье кузнечиков придавало осеннюю грусть сонному дыханию двух людей, доносящемуся с постели. Но сон, который в это время снился Цзинь-хуа, вознесся из-под пыльного полога кровати высоко-высоко над крышей в лунную звездную ночь.
281
* * *
...Цзинь-хуа сидела на стуле из красного сандалового дерева и кушала палочками разные блюда, расставленные на столике. Тут были ласточкины гнезда, акульи плавники, тушеные яйца, копченый карп, жареная свинина, уха из трепангов — всего не перечесть. А посуда вся состояла из красивых блюд и мисок, сплошь расписанных голубыми лотосами и золотыми фениксами.
За ее спиной было окно, завешенное кисейной занавеской, и оттуда — там, должно быть, протекала река — слышалось непрестанное журчанье воды и всплеск весел. Цзинь-хуа казалось, будто она в своем родном с детства Циньвае. Но она, несомненно, находилась сейчас в небесном граде, в доме у Христа.
Время от времени Цзинь-хуа опускала палочки и осматривалась кругом. Но в просторной комнате видны были только столбы с резвыми фигурами драконов и горшки с большими хризантемами, окутанные паром от кушаний; кроме нее, больше не было ни души.
И все же, как только блюдо пустело, перед глазами Цзинь-хуа, распространяя теплый аромат, откуда-то появлялось другое. И вдруг жареный фазан, к которому она еще не успела прикоснуться, захлопал крыльями и, опрокинув сосуд с вином, взвился к потолку.
В это время Цзинь-хуа заметила, что кто-то неслышно подошел сзади к ее стулу. Поэтому, не кладя палочек, она быстро оглянулась. Там, где, как она почему-то думала, должно было находиться окно, вместо окна на стуле из сандалового дерева, застланном атласным покрывалом, с длинной бронзовой трубкой для кальяна в зубах величественно сидел незнакомый иностранец.
Цзинь-хуа с первого же взгляда увидела, что это тот самый мужчина, который пришел к ней сегодня ночью. Только над головой этого иностранца, на расстоянии одного сяку, висел в воздухе тонкий светящийся ободок, похожий на трехдневный месяц.
Тут вдруг перед Цзинь-хуа, как будто выскочив прямо из стола, появилось на большом блюде вкусное ароматное кушанье. Она сейчас же протянула палочки и хотела было взять лакомый кусочек, но вдруг вспомнила о сидящем сзади иностранце, оглянулась через плечо и застенчиво сказала:
— Не сядете ли и вы сюда?
— Нет, ешь одна. Если ты съешь это, то твоя болезнь за ночь пройдет.
Иностранец с нимбом, не вынимая изо рта длинной трубки для кальяна, улыбнулся улыбкой, исполненной беспредельной любви.
— Значит, вы не хотите покушать?
282
— Я? Я не люблю китайской кухни. Ты меня еще не узнала? Иисус Христос никогда не ел китайских блюд.
Сказав это, нанкинский Христос медленно поднялся с сандалового стула и, подойдя сзади, нежно поцеловал в щеку ошеломленную Цзинь-хуа.
* * *
Цзинь-хуа очнулась от райского сна, когда по тесной комнате уже разливался холодный осенний рассвет. Но под пыльным пологом в постели, похожей на лодочку, еще царил теплый полумрак. В этой полутьме смутно вырисовывалось запрокинутое, с еще закрытыми глазами, лицо Цзинь-хуа, закутанной по самый подбородок в выцветшее старое шерстяное одеяло. На бледных щеках, вероятно от ночного пота, слиплись спутанные напомаженные волосы, а между полураскрытыми губами, как крупинки риса, чуть белели мелкие зубки.
Хотя Цзинь-хуа проснулась, душа ее еще бродила среди видений ее сна — пышные хризантемы, плеск воды, жареные фазаны, Иисус Христос... Но под пологом становилось все светлей, и в ее блаженные грезы стало вторгаться отчетливое сознание грубой действительности, сознание того, что вчера она легла на эту тростниковую постель вместе с таинственным иностранцем.
«А вдруг болезнь пристанет к нему...»
От этой мысли Цзинь-хуа сразу стало тяжело, и ей показалось, что она не в силах будет сегодня утром еще раз взглянуть, ему в лицо. Но, уже проснувшись, все еще не видеть его милого загорелого лица было для нее еще тяжелей. Поэтому, немного поколебавшись, она робко открыла глаза и окинула взглядом постель под пологом, где уже стало совсем светло. Однако, к ее удивлению, в комнате кроме нее самой, закутанной в одеяло, не было не только иностранца с лицом, похожим на распятого Христа, но и вообще никого.
«Выходит, и это мне приснилось»...
Цзинь-хуа сбросила грязное одеяло и привстала. Затем, протерев обеими руками глаза, она приподняла тяжело свисавший полог и все еще заспанными глазами оглядела комнату. Ц
В комнате в холодном утреннем воздухе все предметы вырисовывались с беспощадной отчетливостью. Старенький стол, потухшая лампа, стулья — один валялся на полу, другой был повернут к стене, — все было так же, как накануне вечером. Мало того, в самом деле, на столе, среди разбросанных арбузных семечек, тускло блестело маленькое бронзовое распятие. Мигая ослепленными глазами и оглядывая комнату, Цзинь-хуа некоторое время сидела на смятой постели и, зябко поеживаясь, не двигалась с места.
283
— Нет, это был не сон... — прошептала Цзинь-хуа, думая о непонятном исчезновении иностранца. Конечно, можно было подумать, что он потихоньку ушел из комнаты, пока она спала. Но ей не верилось, что он, так горячо ее ласкавший, ушел, не сказав ни слова на прощанье, — вернее, ей было слишком тяжело этому поверить. К тому же она забыла получить у таинственного иностранца обещанные десять долларов.
«Неужели он и вправду ушел?»
С тяжелым сердцем она хотела было надеть сброшенную на одеяло черную шелковую кофту. Но вдруг ее протянутая рука остановилась, и лицо залила живая краска. Услышала ли она за крашеной дверью звук шагов таинственного иностранца или запах водки, пропитавший подушки и одеяла, пробудил смутившие ее воспоминания ночи? Нет, в этот миг Цзинь-хуа почувствовала, что благодаря чуду, свершившемуся в ее теле, злокачественные сифилитические язвы за одну ночь бесследно исчезли.
«Значит, это был Христос!»
Не помня себя, она в одной рубашке чуть не скатилась с постели и, преклонив колена на холодном каменном полу, как прекрасная Мария из Магдалы, беседовавшая с воскресшим господом, вознесла горячую молитву.
3
Однажды вечером весной следующего года молодой японский турист, который когда-то уже посещал Цзинь-хуа, опять сидел против нее за столом при тусклом свете лампы.
— А распятие-то все еще висит? — заметил он в разговоре слегка насмешливым тоном, и тогда Цзинь-хуа, сразу же сделавшись серьезной, рассказала ему удивительную историю о том, как Христос, сойдя однажды ночью в Нанкин, исцелил ее от болезни.
Слушая этот рассказ, молодой японский турист думал про себя вот что:
«Я знаю этого иностранца. Это японо-американский метис. Зовут его, кажется, Джордж Мерри. Он хвастался моему знакомому корреспонденту из агентства Рейтер, что однажды в Нанкине провел ночь с проституткой, с христианкой, а когда она сладко заснула, потихоньку сбежал. Когда я прошлый раз был в Нанкине, он как раз остановился в том же отеле, что и я, так что в лицо я его до сих пор помню. Он выдавал себя за корреспондента английской газеты, но был совершенно недостойный, дурной человек. Потом он на почве сифилиса сошел с ума... Выходит, что он, пожалуй, заразился от этой женщины. А она до сих пор принимает этого беспутного метиса за Христа! Открыть ли ей глаза? Или промолчать
284
и оставить ее навеки в этом сне, похожем на старинные западные легенды?..»
Когда Цзинь-хуа кончила, он, как будто опомнившись, зажег спичку и закурил душистую сигару. И, нарочно приняв заинтересованный вид, выжал из себя вопрос:
— Вот как... Странно. И ты ни разу с тех пор не болела?
— Нет, ни разу, — не колеблясь ответила Цзинь-хуа с ясным лицом, продолжая грызть арбузные семечки.
22 июня 1920 г.
1
Это случилось весенним вечером.
Возле Западных ворот в столице Танского государства Лояне стоял юноша и безучастным взглядом смотрел на небо.
Звали этого юношу Ду Цзы-чунь. Он был сыном богача, но промотал отцовское достояние и дошел до такой нищеты, что хоть с голоду помирай.
В те времена Лоян был цветущим городом, он не знал себе равных во всей Поднебесной. По улицам его пестрой чередой двигались люди и повозки. В лучах закатного солнца, жидким маслом заливавшего городские ворота, проносились мимо шапочки из тончайшего шелкового газа на головах стариков, золотые турецкие серьги в ушах женщин, многоцветные поводья на белых конях..., Словно смотришь на прекрасную картину.
Но Ду Цзы-чунь, прислонившись спиной к воротам, по-прежнему смотрел безучастным взглядом на небо. Весенняя дымка расстилалась ровной пеленой, но сквозь нее уже был виден узкий полумесяц, похожий на белый шрам от звериного когтя.
«Смеркается, а у меня в животе пусто, и негде мне приклонить голову... Проклятая жизнь! Лучше броситься в реку и умереть», — вот какие мысли нестройным роем проносились в голове Ду Цзы-чуня.
И вдруг перед ним появился, словно из-под земли вырос, какой-то старик, на один глаз кривой, на другой глаз косой! Облитый лучами заходящего солнца, он отбрасывал огромную тень на ворота. Пристально поглядев в лицо Ду Цзы-чуню, старик властным голосом спросил:
— О чем ты сейчас думаешь?
— Я-то? Я думаю о том, как мне быть. Ведь у меня даже нет угла, где бы переночевать.
285
Старик спросил его так неожиданно, что Ду Цен-чунь, потупив глаза в землю, неожиданно для себя дал правдивый ответ.
— Вот как! Жаль мне тебя.
Старик немного задумался и указал пальцем на лучи вечернего солнца, озарявшие улицу.
— Послушай, я дам тебе добрый совет. Стань сейчас так, чтобы солнце было позади тебя, а тень твоя упала на землю. Заприметь место, где у этой тени голова, и копай там ночью. Выкопаешь целую телегу чистого золота.
— Неужели правда?
Ду Цзы-чунь в изумлении поднял глаза. Что за чудо! Старик куда-то бесследно исчез, словно сквозь землю провалился.
А месяц в небе еще больше побелел, и над бесконечным людским потоком уже реяли в вышине две-три нетерпеливые летучие мыши.
2
Ду Цзы-чунь сразу в один день разбогател так, что даже в столичном городе Лояне не находилось ему равных.
Следуя совету старика, он начал копать в том самом месте, где пришлась голова его тени, и вырыл гору золота — на самой большой повозке не увезешь.
Ду Цзы-чунь стал неслыханным богачом. Он купил великолепный дом и мог бы соперничать в роскоши с самим императором Сюань-цзуном. Он пил ланьлинское вино, приказывал доставить к своему столу мякоть плодов «драконий глаз» из Гуйчжоу, посадил в саду пионы, которые четыре раза в день меняют цвет, завел у себя белых павлинов, собирал драгоценные камни, наряжался в парчовые одежды, разъезжал в экипажах из ароматного дерева, заказывал мастерам кресла из слоновой кости... Словом, если перечислять все его прихоти, то рассказу и конца не будет.
Бывало, старые приятели Ду Цзы-чуня, встретив его по дороге, и здороваться-то с ним не хотели. Но когда толки о его новом богатстве пошли по городу, все прежние дружки наведались к нему и стали с утра до вечера веселиться в его доме. Число их с каждым днем прибывало. Прошло всего полгода, а уж в столичном городе Лояне не осталось ни одного прославленного своими талантами человека, ни одной известной красавицы, которые не побывали бы в доме Ду Цзы-чуня.
Юноша, что ни день, задавал роскошные пиры. Словами не описать все великолепие этих праздников! Скажу лишь, что на них подавались привезенные с Запада виноградные вина, а индийские факиры забавляли гостей, глотая ножи. Хозяина окружало двадцать красавиц. У десяти девушек волосы были украшены лотоса-
286
ми из светлой яшмы, а у других десяти — пионами из драгоценного агата, и все они чудесно играли на флейтах и цитрах. О, это было прекрасное зрелище!
Но и у самого большого богача деньгам приходит конец, если сорить ими направо и налево.
Чему же удивляться, что при такой любви к роскоши Ду Цзы-чунь через год-два начал беднеть. Воистину у людей бесчувственные сердца! Давно ли от приятелей отбою не было, а теперь самые закадычные друзья проходили мимо его ворот, как чужие. Хоть бы из вежливости кто заглянул!
Наступила третья весна — и Ду Цзы-чунь опять распростился с последним своим грошом, и во всем огромном городе Лояне не нашлось ни одного дома, где бы дали ему приют. Да что там! Ни один человек не подал ему и чашки воды.
И вот однажды вечером Ду Цзы-чунь снова пошел к Западным воротам Лояна. Безучастно глядя на небо, стоял он возле дороги, погруженный в печальные думы.
Вдруг откуда ни возьмись опять появился перед ним старик, кривой на один глаз и косой на другой глаз, и вновь задал ему тот же самый вопрос:
— О чем ты думаешь?
Увидев старика, Ду Цзы-чунь от стыда потупил глаза в землю и не сразу ответил. Но старик заговорил с ним так же ласково, как и прежде, и потому юноша смиренно сказал:
— Мне сегодня опять негде приклонить голову. Я думаю, что мне делать.
— Вот как! Жаль мне тебя. Я дам тебе добрый совет. Стань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай там, где обозначится грудь, — выроешь целую телегу чистого золота.
Не успел старик это сказать, как уже скрылся в толпе, словно бесследно растаял.
На другой день Ду Цзы-чунь вдруг снова сделался первым в Поднебесной богачом. И опять он дал волю своим прихотям. Многоцветные пионы в саду, лениво дремлющие среди них белые павлины, индийские факиры, глотающие ножи, — словом, все как прежде!
Не мудрено, что огромная гора золота, которая и в телеге-то еле поместилась, вся бесследно растаяла за каких-то три года.
3
— О чем ты думаешь?
В третий раз появился перед Ду Цзы-чунем старик, кривой на один глаз и косой на другой глаз, и задал ему все тот же знакомый вопрос. Юноша, как можно догадаться, опять стоял под За-
287
падными воротами Лояна, печально глядя на трехдневный месяц, тускло светивший сквозь весеннюю дымку.
— Я-то? Негде мне сегодня голову приклонить. Я думаю, что
мне делать.— Вот как! Жаль мне тебя. Но я подам тебе добрый совет. Стань так, чтобы вечернее солнце отбросило твою тень на землю, и копай ночью там, где обозначится у нее поясница. Выкопаешь целую телегу...
Не успел старик договорить, как Ду Цзы-чунь вдруг поднял руку и прервал его:
— Нет, не нужно мне золота.
— Тебе не нужно золота? Ха-ха-ха, выходит, надоело тебе купаться в роскоши.
Старик с видом сомнения пристально поглядел на Ду Цзы-чуня.
— Нет, не роскошь мне опротивела. Хуже того! Я потерял любовь к людям, — резко сказал Ду Цзы-чунь с помрачневшим лицом.
— Вот это любопытно! Отчего ж ты потерял любовь к людям?
— Все люди на свете, сколько их есть, не знают сострадания. Когда я был богачом, мне льстили, заискивали передо мной, а когда я обеднел, взгляните-ка! Даже доброго взгляда не кинут в мою сторону. Как подумаю об этом, не хочу больше быть богачом.
Услышав эти слова Ду Цзы-чуня, старик вдруг лукаво улыбнулся:
— Вот оно как! Ты не похож на других молодых людей, все прекрасно понимаешь. Так, значит, ты теперь хочешь жить бедняком, да зато спокойно?
Ду Цзы-чунь немного поколебался. Но потом, видно, решившись, с мольбой взглянул на старика и сказал:
— Нет, такая доля не по мне! Я хотел бы стать вашим учеником и постигнуть тайну бессмертия! Не таитесь от меня! Ведь вы маг-отшельник, наделенный высшей мудростью. Разве иначе могли бы вы за одну только ночь сделать меня первым богачом в Поднебесной? Прошу вас, будьте моим наставником и научите меня искусству магии.
Старик немного помолчал, сдвинул брови, словно размышлял о чем-то, а потом с улыбкой охотно согласился.
— Да, верно, я даос-отшельник по имени Те Гуан-цзы, живу в горах Эмэй-шань. Когда я тебя впервые увидел, то мне показалось, что ты способен понять истинную суть вещей. Вот почему я дважды сделал тебя богачом, а теперь, если уж ты так сильно хочешь стать магом-отшельником, я приму тебя в ученики.
288

«Муки ада»
Нечего и говорить о том, как обрадовался Ду Цзы-чунь. Не успел старик Те Гуан-цзы докончить своих слов, как он уже начал отбивать перед ним земные поклоны.
— Нет, не благодари меня так усердно. Станешь ли ты великим магом-отшельником или нет, зависит только от тебя самого. Если ты не создан для этого, вся моя наука не поможет. Ну, будь что будет, а мы сейчас вдвоем с тобой отправимся в самую глубь гор Эмэй-шань. В единый миг перелетим туда по небу.
Те Гуан-цзы поднял с земли свежесрезанную бамбуковую палочку и, тихо бормоча какое-то заклинание, сел вместе с Ду Цзы-чунем верхом на нее, как на коня. И вдруг — разве это не чудо? — бамбуковая палочка со страшной быстротой взмыла в самое небо, подобно дракону, и понеслась по ясному вечернему небу.
Ду Цзы-чунь, замирая от страха, робко поглядел вниз. Но там, в самой глубине закатного зарева, виднелись только зеленые горы.
Напрасно искал он взглядом Западные ворота столицы (верно, они утонули в тумане). Седые пряди волос старика Те Гуан-цзы разметались по ветру. Он громко запел песню:
| Утром тешусь в Северном море,
А вечером — на юге в Цаньу. В глубине рукава — дракон зеленый. Как отважен я и велик! Трижды, никем из людей не замечен,
|
4
Бамбуковая палочка с двумя сидевшими на ней всадниками плавно опустилась на гору Эмэй-шань, там, где широкая скала нависла над глубокой расщелиной. Видно, было это на большой высоте, потому что светила Семизвездия, сиявшие посреди неба, стали величиной с чайную чашку. Само собой, людей там от века не бывало, и тишина, нарушенная лишь на миг, сейчас же воцарилась снова.
Только и слышно было, как на горной вершине, где-то над самой головой, глухо шумит от ночного ветра одинокая, согнутая непогодой сосна.
Когда оба они опустились на скалу, старик посадил Ду Цзы-чуня спиной к отвесной стене.
— Сейчас я подымусь на небо, навещу там Сиванму, — молвил Те Гуан-цзы, — а ты тем временем сиди здесь и дожидайся меня.
10 Акутагава Рюноскэ
289
Быть может, в мое отсутствие появятся перед тобой злые духи и начнут морочить тебя, но ты смотри не подавай голоса. Что бы ни случилось о тобой, не подавай голоса. Если ты скажешь хоть слово, не быть тебе никогда магом-отшельником. Будь готов ко всему! Слышал? Храни молчание, хотя бы небо и земля раскололись на мелкие части.
— Верьте мне, я не издам ни звука. Буду молчать, хотя бы мне это жизни стоило.
— Право? Ну, тогда я за тебя спокоен. Отлучусь ненадолго.
Старик простился с Ду Цзы-чунем, снова сел верхом на палочку, взлетел прямо в небо между горными вершинами и исчез в ночной мгле, словно растаял.
Ду Цзы-чунь, сидя в одиночестве на скале, спокойно любовался звездами. Так прошло, верно, около часа. Ночной ветер из глубины гор стал ледяной струйкой пробиваться сквозь его тонкую одежду.
Вдруг в небе прозвучал грозный голос:
— Эй, кто здесь, отвечай!
Но Ду Цзы-чунь, соблюдая приказ старика, ничего не ответил. Прошло немного времени, и тот же громовой голос пригрозил ему:
— Если ты сейчас же не дашь ответ, то готовься к смерти! Ду Цзы-чунь продолжал упорно молчать.
И тут откуда ни возьмись на скалу одним прыжком вскочил тигр и, вперив в Ду Цзы-чуня свои страшно сверкающие глаза, оглушительно заревел. Мало того, в тот же самый миг ветки сосны над головой юноши громко зашумели, и с крутой вершины пополз к нему, высунув огненный язык, белый змей толщиной в большую бочку. Все ближе и ближе...
Но Ду Цзы-чунь и бровью не пошевелил. Он продолжал сидеть все так же спокойно.
Тигр и змей злобно уставились друг на друга, словно караулили, кому из них достанется добыча, а потом оба сразу бросились на Ду Цзы-чуня. Вот-вот вонзятся в него клыки тигра, вот-вот вопьется жало змея... Ду Цзы-чунь уже думал, что тут ему и конец, но тигр и змей, подобно туману, улетели с ночным ветром. Только ветки сосны на вершине все еще протяжно шумели. Ду Цзы-чунь о облегчением перевел дыхание и стал поджидать, что же случится дальше.
И вот набежал сильный порыв ветра, туча цвета густой черной туши закрыла все кругом, бледно-лиловая молния расколола мглу, загрохотал гром. И сразу же водопадом обрушился бушующий ливень. Ду Цзы-чунь бестрепетно сидел, не двигаясь с места, под натиском этой ужасной бури. Рев вихря, струи ливня, непрерывные
290
вспышки молний, — казалось, еще немного, и рухнет гора Эмэй-шанъ. Послышался такой удар грома, от которого впору оглохнуть и из черной тучи, клубившейся в небе, прямо на голову Ду Цзы-чуня упал красный огненный столб.
Ду Цзы-чунь невольно зажал уши и упал ничком на скалу. Но вот он открыл глаза и видит: небо над ним по-прежнему безмятежно ясно. Над вершинами гор опять, как и раньше, ярко сверкают светпла Семизвездия величиной с чайную чашку. Так, значит, и страшная буря, и тигр, и белый змей — все это лишь морок, напущенный бесами в отсутствие Те Гуан-цзы. Ду Цзы-чунь понемногу успокоился, отер холодный пот со лба и снова спокойно уселся на скале.
Но не успел он еще отдышаться, как прямо перед ним появился одетый в золотые доспехи величественный небесный полководец, ростом, верно, в целых три дзё. Небесный полководец держал в руке трезубец. Гневно сверкая глазами, он направил трезубец прямо в грудь Ду Цзы-чуню и начал грозить ему:
— Эй, ты кто такой, говори! Гора Эмэй-шань — мое обиталище с самых тех пор, как возникли небо и земля. Но ты, не убоясь этого, один посмел вторгнуться сюда! Уж наверно, ты — не простой человек. Отвечай, если жизнь тебе дорога!
Но Ду Цзы-чунь, как повелел ему старик, упорно не раскрывал рта.
— Не отвечаешь? Молчишь! Хорошо же! Молчи сколько хочешь. За это мои родичи искрошат тебя на куски.
Небесный полководец высоко поднял трезубец и поманил кого-то с небосклона над соседними горами. И в тот же миг мгла разорвалась, и бесчисленные воины тучами понеслись по небу. В руках у них сверкали мечи и копья, вот-вот всей громадой пойдут на приступ.
При этом зрелище Ду Цзы-чунь едва не вскрикнул, но вовремя припомнил слова старика Те Гуан-цзы и, подавив в себе крик, промолчал. Небесный полководец увидел, что юношу испугать не удалось, и разгневался страшным гневом.
— Ах ты, упрямец! Ну, раз не хочешь отвечать, я исполню свою угрозу. Прощайся с жизнью! — завопил небесный полководец и, взмахнув сверкающим трезубцем, вонзил все его острия в грудь Ду Цзы-чуня. А потом, потрясая гору Эмэй-шань громовыми раскатами смеха, бесследно исчез во мраке. Но еще раньше, чем это случилось, исчезли, как сновидение, вместе с шумным порывом ночного ветра все бесчисленные воины.
Светила Семизвездия снова проливали на скалу свое холодное сияние. Ветки сосны по-прежнему глухо шумели на вершине горы. Но Ду Цзы-чунь лежал на спине бездыханный.
10*
291
5
Мертвое тело Ду Цзы-чуня осталось лежать на скале, но душа его, тихо вылетев из смертной оболочки, устремилась в недра преисподней.
Из нашего мира в преисподнюю ведет дорога, которую именуют «Путь мрака». Там круглый год в черном небе уныло свищет ледяной ветер. Ду Цзы-чунь, подхваченный вихрем, кружился в небе, подобно опавшему листку. Вдруг он очутился перед великолепным дворцом, на котором висела надпись: «Дворец бесчисленных душ».
Едва лишь черти, толпой стоявшие перед дворцом, завидели Ду Цзы-чуня, как они со всех сторон окружили его и потащили к лестнице. На вершине лестницы стоял их повелитель в черной одежде и золотой короне и метал вокруг гневные взгляды. Уж наверно, это был сам владыка преисподней царь Яньло. Ду Цзы-чунь много слышал о нем и теперь в страхе преклонил колена, ожидая решения своей участи.
— Эй ты, почему сидел на вершине Эмэй-шань? — донесся громовым раскатом с вершины лестницы голос царя Яньло. Ду Цзы-чунь хотел было сразу же ответить, но вдруг вспомнил строгий наказ старика Те Гуан-цзы: «Молчи, не говори ни слова!» И он молчал, как немой, низко опустив голову. Тогда царь Яньло взмахнул железной булавой, которую он держал в руке, и яростно завопил в таком гневе, что усы и борода у него встали дыбом:
— Да знаешь ли ты, где находишься, несчастный? Сейчас же отвечай, не то я, ни минуты не медля, заставлю испытать тебя все муки ада.
Но Ду Цзы-чунь и губ не разжал. Увидев это, царь Яньло повернулся к чертям и что-то сурово им приказал. Черти немедленно повиновались и, ухватив Ду Цзы-чуня, подняли его высоко в черное небо над дворцом.
А в преисподней, как всякий знает, помимо Игольной горы и Озера крови, таятся во мгле неподалеку друг от друга Огненная долина, которую зовут пылающим адом, и море льда, именуемое Преисподней лютого холода. Черти начали бросать Ду Цзы-чуня в каждую область ада поочередно. В его грудь безжалостно вонзались ножи, огонь опалял ему лицо, у него вырывали язык, сдирали с него кожу, толкли его железным пестом в ступе, поджаривали на сковороде в шипящем масле, ядовитые змеи высасывали у него мозг, орел-стервятник выклевывал ему глаза, — словом, его подвергли всем пыткам ада. Если начнешь их перечислять, конца не
292
будет. Но Ду Цзы-чунь все выдержал. Крепко сжав зубы, он не проронил ни единого слова, ни единого звука.
Наконец, и чертям надоело терзать его. Они вновь понесли Ду Цзы-чуня по черному небу назад, к «Дворцу бесчисленных душ», и, бросив его у подножия лестницы, хором доложили царю Яньло:
— У этого грешника ничем слова не вырвешь.
Царь Яньло, нахмурив брови, погрузился в размышление и, как видно, надумав что-то, приказал одному из чертей:
— Отец и мать этого человека были ввергнуты в преисподнюю скотов. Живо, тащи их сюда!
Черт помчался верхом на ветре и в один миг исчез в небе преисподней. Но вдруг, подобно падучей звезде, опустился вновь перед «Дворцом бесчисленных душ», гоня перед собой двух скотов. Поглядел на них Ду Цзы-чунь — и кто может описать его испуг и изумление?
У этих двух жалких изможденных кляч были навеки незабвенные лица его покойных отца и матери.
— Ну, так зачем ты сидел на вершине горы Эмэй-шань? Сознавайся сейчас же, не то плохо придется твоим родителям.
И все же, несмотря на эту страшную угрозу, Ду Цзы-чунь снова не дал ответа.
— Ах ты неблагодарный сын! Так, по-твоему, пускай мучают твоих родителей, лишь бы тебе самому было хорошо!
Царь Яньло завопил таким ужасным зыком, что «Дворец бесчисленных душ» поколебался до основания.
— Бейте их! Эй вы, черти! Бейте их, сдерите с этих кляч все мясо, перешибите им все кости.
Черти дружно ответили: «Мы повинуемся!» — схватили железные бичи и начали хлестать двух старых лошадей без всякой пощады и милосердия. Удары сыпались дождем со всех сторон. Бичи со свистом разрезали ветер, сдирая шкуры, ломая кости. А эти старые клячи, — его отец и мать, превращенные в скотов, — дергаясь всем телом от боли, с глазами, полными кровавых слез, испускали ржание, похожее на стоны. Не было сил глядеть на это...
— Ну что! Все еще не сознаешься?
Царь Яньло велел чертям на минуту опустить железные бичи и вновь потребовал ответа от Ду Цзы-чуня. А в это время обе старые лошади, с перешибленными костями, с ободранными боками, свалились перед лестницей и лежали там при последнем издыхании.
Ду Цзы-чунь был вне себя от горя, но, вспомнив наказ стари-
293
ка, крепко зажмурил глаза. И вдруг до его ушей почти беззвучно донесся тихий голос:
— Не тревожься о нас. Что бы с нами ни случилось, лишь бы ты был счастлив. Это для нас высшая радость. Пусть грозится владыка преисподней, не отвечай ему, если так надо...
О, это был хорошо знакомый нежный голос его матери! Ду Цзы-чунь невольно открыл глаза. Одна из лошадей, бессильно лежавших на земле, грустно и пристально глядела ему в лицо. Его мать посреди нестерпимых мук была полна сочувствия к сыну и совсем не сердилась за то, что из-за него черти хлещут ее железными бичами. Низкие люди, бывало, льстили ему, когда он был богачом, и отворачивались от него, когда он становился нищим. А здесь — какая прекрасная доброта! Какая чудесная стойкость! Ду Цзы-чунь забыл все предостережения старика. Бегом, чуть не падая с ног, бросился он к полумертвой лошади, обеими руками обнял ее за шею и, ручьем проливая слезы, громко закричал: «Матушка!»
6
При звуке собственного голоса Ду Цзы-чунь вдруг очнулся. Он по-прежнему стоял у Западных ворот Лояна, залитых сиянием вечернего солнца. Подернутое весенней дымкой небо, тонкий трехдневный месяц, непрерывный поток людей и повозок — все было таким же, как тогда, когда он не полетел еще на гору Эмэй-шань.
— Ну что? Разве ты годишься мне в ученики? Разве можешь быть даосом-отшельником, — сказал с усмешкой старик, на один глаз кривой, на другой глаз косой.
— Не могу. Не могу. И очень рад, что не могу.
Ду Цзы-чунь, с лицом, еще мокрым от слез, крепко сжал руку старику.
— Да пусть бы даже я стал магом-отшельником! Разве можно молчать, когда перед «Дворцом бесчисленных душ» хлещут бичами твоих отца и мать?
— Если б ты промолчал, знай, я бы убил тебя на месте! Даосом-отшельником тебе не бывать, это ты понял. Богачом быть тебе опротивело. Кем же теперь ты хочешь стать?
— Кем угодно, лишь бы жить честно, по-человечески. Голос Ду Цзы-чуня звучал, как никогда раньше, светло и радостно.
— Не забывай же своих слов. Прощай, мы с тобой больше не встретимся.
Те Гуан-цзы пошел было прочь с этими словами, но вдруг остановился и повернулся к Ду Цзы-чуню.
294
— О-о, к счастью, вспомнил! Есть у меня маленький домик на южном склоне горы Тайшань. Дарю тебе этот домик вместе с полем. Ступай туда и поселись там. Как раз теперь персики в полном цвету, — весело добавил он.
Июнь 1920 г.
На улице Нагасуми-тё в Асакуса есть храм Сингёдзи. Нет, нет, это не большой храм. Впрочем, там имеется деревянная статуя святого Нитиро, так что у него есть своя история. Осенью двадцать второго года Мэйдзи у ворот этого храма был подкинут мальчик. Разумеется, ему не было и года, и бумажки с именем при нем не оказалось. Завернутый в кусок старого желтого шелка, он лежал головой на женских дзори с оборванными шнурками.
Настоятелем храма Сингёдзи в ту пору был старик по имени Тамура Ниссо; как раз когда он совершал утреннюю службу, к нему подошел пожилой привратник и сообщил, что подкинули младенца. Настоятель стоял лицом к статуе будды; почти не оглядываясь на привратника, как будто ни в чем не бывало, он ответил:
— Вот как! Принеси его сюда.
Больше того, когда привратник робко принес младенца, настоятель сейчас же взял его на руки и стал беззаботно ласкать, говоря:
— А славный мальчуган! Не плачь! Не плачь! С нынешнего дня я возьму тебя на воспитание.
Обо всем этом привратник, питавший слабость к настоятелю, нередко рассказывал прихожанам, продавая им ветки иллиния и курительные свечи. Вы, может быть, не знаете, что настоятель Ниссо раньше был штукатуром в Фукугава, но девятнадцати лет от роду упал с подмостков, потерял сознание и вдруг возымел желание уйти в монахи. Очень странный был человек и нрава неуемного.
Настоятель назвал этого подкидыша Юноскэ и стал воспитывать его, как родного сына. Я сказал «стал воспитывать», однако так как дело было в храме, куда со времени революции не ступала нога женщины, то это оказалось задачей нелегкой. И нянчился, и заботился о молоке — все делал в свободное от чтения сутр время сам настоятель. Да что, однажды, когда Юноскэ заболел, кажется, простудился, — а как раз, к несчастью, служили панихиду по знатному прихожанину Каси-но Ниситацу, — настоятель, одной рукой
295
прижимая к. груди пылающего жаром ребенка, а в другой держа хрустальные четки, как обычно, спокойно читал сутры.
Однако настоятель, чувствительный при всем своем молодечестве, втайне лелеял мысль о том, чтобы, если возможно, найти ребенку его настоящих родителей. Когда настоятель поднимался на амвон — и теперь еще можете увидеть на столбе у ворот старенькую дощечку с надписью: «Проповедь ежемесячно шестнадцатого числа» — он, приводя в пример случаи из древности в Японии и в Китае, с жаром говорил, что не забывать своей родительской любви—значит воздавать благодарность будде. Но дни проповедей проходили один за другим, а не находилось никого, кто бы явился сам и назвался отцом или матерью подкидыша. Впрочем, нет, один раз, когда Юноскэ было три года, случилось, что пришла сильно набеленная женщина, заявившая, что она его мать. Но она, по-видимому, замышляла использовать подкидыша для недоброго дела. И так как тщательные расспросы обнаружили, что женщина эта внушает подозрения, вспыльчивый настоятель жестоко ее выругал и, чуть не пустив в ход кулаки, тут же выгнал вон.
И вот настала зима двадцать седьмого года Мэйдзи, когда пошли усиленные слухи о японо-китайской войне; шестнадцатого числа в обычный день проповеди, когда настоятель вернулся в свою келью, вслед за ним вошла изящная женщина лет тридцати четырех — тридцати пяти. В келье возле очага, на котором стоял котел, Юноскэ чистил мандарин. Увидев его, женщина без всяких приготовлений протянула к настоятелю просительно сложенные руки и, подавляя дрожь в голосе, решительно сказала: «Я мать этого ребенка». Настоятель, естественно, изумленный, некоторое время не в силах был даже с ней поздороваться. Но женщина, не обращая на него внимания, уставившись глазами в циновку на полу, словно ватвердив наизусть, — хотя ее душевное волнение отражалось во всем ее облике, — вежливо и обстоятельно выражала благодарность за воспитание ребенка до того дня.
Так это продолжалось некоторое время, пока настоятель, подняв свой веер с красными спицами, не заставил ее сначала рассказать, почему она подкинула ребенка. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз от циновки, женщина рассказала следующее.
Пять лет тому назад ее муж открыл рисовую лавку на улице Тавара-мати в Асакуса. Но не успел он получить первую прибыль, как растратил все свое состояние, и тогда они решили потихоньку уехать в Иокогаму. Но их связывал по рукам и ногам только что родившийся у них мальчик. Вдобавок у матери, к несчастью, совсем не было молока, и поэтому в тот вечер, перед самым отъездом из Токио, супруги, обливаясь слезами, подкинула младенца к воротам храма Сингёдзи.
296
Потом с помощью одного едва знакомого человека они, даже не пользуясь поездом, добрались до Иокогамы, муж поступил на службу в извозное заведение, а женщина пошла служить в лавку, и два года они работали не покладая рук. Судьба ли тем временем повернулась к ним лицом, только летом третьего года хозяин извозного заведения, ценя честную работу мужа, поручил ему вести недавно открытое маленькое отделение на улице Омото-дори в районе Хоммоку-хэн. Лишне говорить, что женщина сейчас же оставила свое место и стала жить с мужем.
Дела в отделении шли довольно бойко. Кроме того, на следующий год у них родился мальчик. Разумеется, в это время в глубине души у них зашевелились горькие воспоминания о брошенном дитяти. В особенности женщине, когда она подносила к ротику младенца свою бедную молоком грудь, всегда отчетливо вспоминался вечер их отъезда из Токио. Но работы по заведению было много, ребенок день ото дня подрастал. В банке у них появились кое-какие сбережения. Так обстояло дело, и как бы то ни было, супруги снова получили возможность зажить счастливой, семейной жизнью.
Но повезло им не надолго. Не успели они порадоваться, как весной двадцать седьмого года муж заболел тифом и, не пролежав и недели, сразу скончался. Если бы только это одно, то женщина, вероятно, примирилась бы с судьбой, но безутешной ее сделало то, что не наступил и сотый день со смерти мужа, как долгожданный ребенок вдруг умер от дизентерии. В то время женщина днем и ночью рыдала как безумная. Нет, не только в то время. Почти полгода она была как потерянная.
Когда ее горе стало утихать, первое, что всплыло в ее душе, — это мысль повидать подкинутого старшего сына. «Если только этот ребенок жив и здоров, я возьму его к себе и воспитаю сама, как бы ни было мне тяжело», — думала она и от нетерпения не находила себе места. Она сейчас же села в поезд и, как только приехала в милый ее сердцу Токио, тут же пошла к воротам милого ее сердцу храма Сингёдзи. Это было как раз шестнадцатого, в день проповеди.
Она хотела сейчас же подойти к покоям настоятеля, чтобы узнать у кого-нибудь о ребенке. Но пока проповедь не кончилась, она, конечно, не могла повидаться с настоятелем. Поэтому, горя нетерпением, она замешалась в толпу благочестивых мужчин и женщин, заполнивших весь храм, и краем уха стала слушать проповедь настоятеля Ниссо или, вернее сказать, просто стала ждать, пока кончится проповедь.
А настоятель и в этот день, изложив рассказ о том, как женщина Лотос встретилась со своими пятьюстами детьми, проникновенно проповедовал святость родительской любви. Женщина Лотос
297
снесла пятьсот яиц. Эти яйца поплыли по течению и попали к царю соседней страны. Пятьсот богатырей, вышедшие из этих яиц, не зная, что женщина Лотос их мать, напали на ее замок. Услыхав об этом, женщина Лотос поднялась на башню замка и сказала: «Я мать всех вас пятисот. Вот доказательство». И, обнажив груди, она нажала на них своей красивой рукой. И молоко, как струи из пятисот источников, полилось из груди женщины с высокой башни прямо в рты всем пятистам богатырям. Эта индийская притча произвела на несчастную женщину, которая рассеянно слушала проповедь, сильнейшее впечатление. Поэтому-то, как только проповедь закончилась, она, не утирая слез, вышла из храма и поспешила по галерее искать настоятеля.
Расспросив о подробностях, настоятель Ниссо подозвал Юно-скэ, сидевшего у очага, и свел его, после пятилетней разлуки, с матерью, лица которой ребенок не знал. Что женщина не лгала, настоятелю, разумеется, было понятно. Взяв на руки Юноскэ, она всеми силами старалась не плакать, и у великодушного настоятеля вместе с улыбкой на ресницах заблистала слеза.
Что было потом, вы, в общем, знаете и без моих слов. Юноскэ уехал с матерью в Иокогама. После смерти мужа и сына женщина, по предложению сострадательного хозяина извозного заведения и его жены, стала учить людей шитью и таким образом могла хоть и скромно, но без тягот зарабатывать на жизнь.
Закончив свой долгий рассказ, посетитель вэял стоявшую перед ним чашку. Но, так и не коснувшись ее губами, взглянул на меня и тихо добавил:
— Этот подкидыш — я.
Молча кивнув, я подлил в чайник воды. Что эта трогательная история о подкидыше — история детства моего гостя Мацубара Юноскэ, даже я давно догадался, хотя встретился с ним впервые.
После некоторого молчания я обратился к гостю:
— Ваша мать еще в добром здравии? И получил неожиданный ответ:
— Нет, она скончалась год назад. Но... женщина, о которой я вам рассказывал, не была моя мать.
Видя мое изумление, гость улыбнулся одними глазами:
— Что ее муж имел на Тавара-мати в Асакуса рисовую лавку, что он уехал в Иокогама и работал там, все это, конечно, правда. Но позже я узнал, что рассказ о том, будто они подкинули ребенка, был ложью. За год до того, как умерла мать, я по делам лавки — как вы знаете, я торгую хлопчатобумажной пряжей — ходил в окрестности Ниигата и как-то раз очутился в одном поезде с торговцем мешками, который в свое время жил рядом с домом матери на улице Тавара-мати. Он и без моих расспросов рассказал, что у ма-
298
тери тогда родилась девочка, которая еще перед закрытием лавки умерла. Вернувшись в Иокогама, я сейчас же потихоньку от матери посмотрел посемейный список, и оказалось, что в самом деле, как и сказал торговец мешками, когда она жила на улице Тавара-мати, у нее родилась дочка. И умерла на третьем месяце жизни. Мать по каким-то соображениям, чтобы взять меня, который ей не сын, выдумала историю о подкидыше. И после этого в течение двадцати с лишком лет заботилась обо мне, забывая о сне и пище.
По каким соображениям — этого я до сих пор, сколько ни думал, не понимаю. Но хотя я и не знаю, так ли это на самом деле, все же самой правдоподобной причиной мне представляется то, что проповедь настоятеля Ниссо произвела на душу матери, лишившейся мужа и ребенка, сильнейшее впечатление. Пока она слушала эту проповедь, ей и захотелось стать именно той матерью, которой я не знал. Пожалуй, так. О том, что меня подобрали у храма, она, вероятно, узнала от прихожан, пришедших на проповедь. Или же ей об этом рассказал хромой привратник.
Мой гость замолчал и, точно спохватившись, с задумчивым видом стал пить чай.
— И вы сказали матери о том, что вы ей не родной сын, что вы знаете о том, что вы ей не сын?
Я не мог удержаться от этого вопроса.
— Нет, не сказал. Это было бы слишком жестоко по отношению к матери. И мать до самой своей смерти не сказала мне об этом ни слова. Вероятно, она тоже думала, что сказать — жестоко по отношению ко мне. Да и в самом деле, мое чувство к матери, после того как я узнал, что я ей не сын, несколько изменилось.
— В каком смысле?
Я пристально посмотрел в глаза гостю.
— Оно стало еще теплее, чем раньше. Потому что с тех пор, как я узнал обо всем, она для меня, подкидыша, стала больше чем матерью, — мягко ответил гость. Словно не зная, что он сам был ей больше чем сын.
Июль 1920 г.
Это было под вечер, в мае 1880 года. Иван Тургенев, гостивший в Ясной Поляне через два года после того, как он там был последний раз, и граф Толстой, хозяин усадьбы, пошли в лес за Воронку поохотиться на вальдшнепов.
На охоту вместе с этими двумя старыми писателями отправились моложавая еще жена Толстого и дети с собакой.
299
Дорога до Воронки пролегала через поля ржи. Поднявшийся на закате легкий ветерок, тихо пролетая над колосьями, доносил запах земли. Толстой с ружьем за плечами шагал впереди. Время от времени, обернувшись назад, он заговаривал с Тургеневым, который шел рядом с его женой. Каждый раз автор «Отцов и детей», как будто с некоторым удивлением поднимая глаза, обрадованно отвечал мягким голосом и при этом иногда смеялся хриплым смехом, от которого тряслись его плечи. По сравнению с грубоватым Толстым его манера говорить была изящной и притом несколько женственной.
Когда дорога пошла полого в гору, к ним подбежали два деревенских мальчика, видимо, братья. При виде Толстого оба они сразу остановились и поклонились. Потом, сверкая подошвами босых ног, опять опрометью побежали в гору. Сзади один из детей Толстого громко крикнул им что-то вслед. Но те, как будто не слыша, бежали дальше и скрылись из виду во ржи.
— Деревенские дети интересны! — обратился к Тургеневу Толстой, подставляя лицо лучам заходящего солнца. — Случается, что, слушая эту детвору, я учусь простым, прямым оборотам речи, о которых мы и понятия не имеем.
Тургенев обернулся. Теперь он не тот, что раньше. Раньше слова Толстого волновали его, как ребенка, и он иронизировал...
— Недавно, когда я учил эту детвору, — продолжал Толстой, — один вдруг хотел выскочить из класса. Я его спрашиваю: «Ты куда?» — а он говорит: «Мелку откусить». Не сказал ни «взять мелку», ни «отломить мелку», а сказал именно «откусить». Употребить такое слово могут только русские дети, которые действительно откусывают мел зубами. Нам, взрослым, так не сказать.
— В самом деле, на это способны одни только русские дети. И когда я слышу такие разговоры, я остро чувствую, что вернулся в Россию.
Тургенев огляделся, как будто увидел поля ржи впервые.
— Да, пожалуй. Во Франции даже дети не стесняются курить папиросы.
— Да, кстати, ведь, кажется, и вы в последнее время совсем перестали курить? — Толстая искусно избавила гостя от возможных колкостей Толстого.
— Да, я совсем бросил курить: в Париже были две красавицы, которые говорили, что от меня несет табаком и поэтому они не позволят мне их целовать.
На этот раз криво усмехнулся Толстой.
Тем временем перешли через Воронку и добрались до места тяги. Это была болотистая поляна недалеко от речки, где лес уже редел.
300
Толстой уступил Тургеневу лучшее место, а сам стал шагах в полутораста в углу поляны. Толстая стала возле Тургенева, а дети разбрелись кто куда.
Небо еще алело. Ветви деревьев, оплетавшие небо, туманно дымились — это, конечно, теснилась на них душистая молодая листва. Тургенев стоял с ружьем в руке и словно пронзал взором листву. Из сумрачной глубины леса время от времени доносился легкий шорох еле заметного ветерка.
— Малиновки и чижи поют, — как будто про себя сказала Толстая, склонив голову набок.
Медленно, в молчании, прошло полчаса.
Тем временем небо стало как вода. Только там и сям белели стволы берез. Вместо пения малиновок и чижей теперь изредка долетал крик поползня... Тургенев опять стал пронзительно всматриваться в листву. Но в глубине леса все уже погрузилось в вечерний сумрак.
Вдруг по лесу разнесся звук выстрела. Не успел он отзвучать, как ожидавшие поодаль дети наперегонки с собакой бросились искать добычу.
— Ваш супруг меня опередил, — сказал Тургенев, с улыбкой оглянувшись на Толстую.
Вскоре, пробираясь через густую траву, к матери подбежал второй сын — Илья. Он сообщил, что Толстой застрелил вальдшнепа.
Тургенев вмешался в разговор.
— А кто нашел?
— Дора (кличка собаки). Когда она его отыскала, он еще был живой.
Опять обернувшись к матери, мальчик, здоровое личико которого разгорелось от возбуждения, принялся подробно рассказывать, как Дора нашла вальдшнепа.
В воображении Тургенева мелькнула картинка рассказа вроде главы из «Записок охотника».
Когда Илья ушел, опять воцарилась прежняя тишина. Из сумрачной глубины леса лился весенний аромат молодой листвы и запах сырой земли. По временам издалека слышался крик какой-то сонной птицы.
— А это?
— Зяблик, — сейчас же ответил Тургенев. Зяблик вдруг смолк. И на некоторое время в вечернем сумраке
леса не слышалось ни звука. Небо... замер малейший ветерок, небо понемногу окутывало безжизненный лес своей синевой, — и вдруг над головой с печальным криком пролетела иволга.301
Звук выстрела снова нарушил безмолвие леса спустя целый час.
— Видно, Лев Николаевич и в охоте на вальдшнепов меня побивает, — сказал Тургенев, пожимая плечами и смеясь одними глазами.
Топот бегущих детей, изредка лай Доры... Когда опять все затихло, на небе уже там и сям крапинками сверкали звезды. Лес, насколько хватал взгляд, замкнулся в молчания ночи, не шевелилась ни одна ветка. Двадцать минут, тридцать минут... скучно тянулось время, и вместе с тем во влажной темноте к ногам откуда-то подползал белесоватый туман. Но все еще не было никаких признаков появления вальдшнепов.
— Что это сегодня сделалось? — пробормотала Толстая, и в словах ее прозвучало сочувствие. — Редко так бывает, но...
— Слушайте! Соловей поет.
Тургенев намеренно перевел разговор совсем на другую тему.
Из глубины темного леса действительно долетало звонкое соловьиное пенье. Оба они на некоторое время замолчали и, думая каждый о своем, заслушались соловья...
И вдруг, — пользуясь словами самого Тургенева, — «и вдруг — но одни охотники поймут меня», вдруг поодаль из травы с криком, в котором нельзя было ошибиться, взмыл вальдшнеп. Белея подкрыльями, он полетел среди свешивающихся ветвей, стремясь скрыться в вечерней тьме. В тот же миг Тургенев вскинул ружье и быстро нажал на спусковой крючок.
Взвился дымок, блеснул огонь — и по затихшему лесу прокатился выстрел.
— Попали? — громко спросил, подходя к нему, Толстой.
— Попал! Камнем упал...
Дети с собакой уже столпились вокруг Тургенева.
— Идите искать! — приказал им Толстой.
Дети, с собакой впереди, принялись везде искать. Но сколько ни искали, убитый вальдшнеп не находился. Дора рыскала, не щадя сил, лишь иногда останавливалась и недовольно скулила.
Наконец на помощь детям пришли Толстой и Тургенев. Но им не попадалось на глаза ни перышка, которое бы показывало, куда делся вальдшнеп.
— Видно, вы его не убили, — обратился минут через двадцать Толстой к Тургеневу из темноты между деревьями.
— Да как же я мог не убить? Ведь я видел, как он камнем упал.
Говоря так, Тургенев искал кругом в траве.
— Попасть-то попали, но, может быть, только в крыло. Он хоть и упал, но мог убежать.
302
— Да нет же, я попал не в крыло. Я наверняка его убил. Толстой в замешательстве нахмурил свои густые брови.
— Тогда собака должна была б его найти. Подстреленную дичь Дора всегда принесет.
— Однако раз я наверняка знаю, что убил его, то делать нечего, — раздраженно ответил Тургенев, не выпуская из рук ружья. — Убил или не убил, эту разницу и ребенок знает. Я ясно видел.
Толстой насмешливо взглянул на Тургенева.
— А что же такое с собакой?
— Не знаю, что с собакой. Я только говорю то, что видел. Камнем упал, — неожиданно пронзительным голосом сказал Тургенев, видя в глазах Толстого вызывающий блеск. — Il est tombe сотше pierre, je t'assure
— Тогда Дора не могла б его не найти.
К счастью, в это время в разговор стариков писателей как ни в чем не бывало вмешалась Толстая, с улыбкой подошедшая к ним. Она сказала, что завтра утром пошлет детей еще раз поискать, а теперь лучше оставить все как есть и вернуться в усадьбу. Тургенев сейчас же согласился.
— Тогда я их попрошу. Завтра непременно узнаем.
— Да, завтра наверняка узнаем, — бросил со злобной иронией Толстой, все еще недовольный, повернулся к Тургеневу спиной и быстрыми шагами пошел из леса...
* * *
В этот вечер Тургенев удалился к себе в спальню около одиннадцати часов. Оставшись наконец один, он тяжело опустился на стул и растерянно осмотрелся кругом.
Тургеневу была отведена комната, которая обычно служила Толстому кабинетом. Большие книжные шкафы, бюст в нише, три-четыре портрета, висящая на стене голова оленя — все это при свете свечи казалось неуютным, лишенным всякого признака веселости. И все же то, что он остался один, по крайней мере, в этот вечер, Тургенева до странности радовало.
...До того, как удалиться в спальню, гость вместе со всей семьей коротал вечер в разговорах за чайным столом. Тургенев, насколько мог, оживленно разговаривал и смеялся. Однако Толстой все время сидел с угрюмым видом и почти не принимал участия в разговоре. Тургеневу это было и неприятно и обидно. Поэтому он нарочно старался не замечать молчания хозяина, более обычного расточая любезности членам семьи.
1 Камнем упал, я тебя уверяю (франц.).
303
Каждый раз, когда Тургенев отпускал удачную шутку, подымался общий смех. Когда он искусно показал детям, как кричит слон в гамбургском зоологическом саду, и изобразил повадки парижского уличного мальчишки, смех стал еще громче. Но по мере того как за столом делалось веселей, у Тургенева на душе становилось все более тяжело и неловко.
Когда разговор перешел на французскую литературу, Тургенев, не в силах больше разыгрывать оживление, вдруг обернулся к Толстому и заговорил с ним намеренно легким тоном: яИ
— Вы знаете, что недавно появился новый многообещающий писатель?
— Нет, не знаю. Кто такой?
— Де Мопассан. Ги де Мопассан. По крайней мере, это писатель с неподражаемо острой наблюдательностью. У меня как раз с собой в чемодане сборник его рассказов «La maison Tellier»1. Если будет время, прочитайте.
— Де Мопассан?
Толстой с сомнением посмотрел на гостя. Но он так и не ответил, прочтет ли рассказы или нет. Тургенев помнил, как в детстве его мучили злые старшие дети... Точно такая же обида и теперь подступала к его сердцу.
— Раз уж заговорили о новых писателях, то и у нас появился один удивительный.
Заметив его замешательство, Толстая сейчас же стала рассказывать о посещении чудаковатого гостя. С месяц назад, под вечер, явился довольно бедно одетый молодой человек и заявил, что хочет непременно видеть Толстого, так что его провели в комнаты. И вот первые его слова при виде Толстого были: «Прошу вас немедленно дать мне рюмку водки и хвост селедки». Этим одним он немало всех удивил, но нельая было не удивиться еще больше тому, что этот странный молодой человек — уже пользующийся некоторой известностью начинающий писатель.
— Это был Гаршин.
Когда Тургенев услышал это имя, ему еще раз захотелось попытаться вовлечь Толстого в разговор: помимо того, что отчужденность Толстого становилась ему все неприятней, теперь появился удобный повод: когда-то он первый обратил внимание Толстого на произведения Гаршина.
— Неужели Гаршин? Кажется, его рассказы неплохи. Я не знаю, что вы после того читали, но...
— Кажется, неплохи.
Все-таки Толстой ответил равнодушно, лишь бы отделаться...
1 «Заведение Телье» (франц.).
304
Тургенев встал и принялся ходить по кабинету, покачивая седой головой. Его тень, которую отбрасывала на стену стоявшая на столе свеча, то росла, то уменьшалась. Он шагал молча, заложив руки за спину и не отводя грустных глаз от голых досок пола.
В душе Тургенева одно за другим всплывали яркие воспоминания более чем двадцатилетней давности — того времени, когда он был дружен с Толстым. Как Толстой, тогда офицер, прокутив несколько ночей подряд, нередко приходил ночевать к нему в его петербургскую квартиру... Как Толстой в гостиной у Некрасова, победоносно глядя на него, забывал все на свете в своих нападках на Жорж Санд... Как Толстой, который как раз тогда написал «Двух гусаров», гуляя с ним в лесу Спасского, останавливался и восхищался красотой летних облаков... И, наконец, как Толстой в доме у Фета и сам он, сжав кулаки, бросали в лицо друг другу самые ужасные оскорбления... Какое ни возьми из этих воспоминаний, всегда упрямый Толстой был человеком, не признающим за другими никакой искренности. Человеком, который во всем, что делают другие, подозревает фальшь. И так не только тогда, когда то, что делали другие, расходилось с тем, что делает он сам. Пусть кто-нибудь распутничал так же, как он, он не мог простить распутство другому так, как он прощал его себе самому. Он не мог поверить даже тому, что другой способен так же чувствовать красоту летних облаков, как чувствует он сам. Он ненавидел и Жорж Санд потому, что питал сомнение в ее искренности. И когда он одно время порвал с Тургеневым... Да нет, и теперь, как и раньше, он в утверждении, что Тургенев убил вальдшнепа, подозревает ложь...
Тургенев глубоко вздохнул и остановился перед нишей. В нише, освещенной далеко стоящей свечой, смутной тенью вырисовывался мраморный бюст. Это был бюст старшего брата Льва Толстого — Николая. Подумать только, с тех пор как ушел из жизни дорогой и ему, Тургеневу, привязчивый к людям Николай, прошло уже больше двадцати лет. Если бы брат мог хоть вполовину так, как Николай, считаться с чувствами других... Словно не замечая, как текут часы весенней ночи, Тургенев долго стоял перед нишей, устремив на полутемный бюст печальные глаза...
* * *
На другое утро Тургенев довольно рано вышел в залу, которая в этом доме служила столовой. Стены залы увешаны были портретами предков, — и под одним из них Толстой за столом просматривал почту. Кроме него, в зале не было больше никого.
305
Старики писатели поздоровались.
Тургенев и теперь, всматриваясь в выражение лица Толстого; готов был помириться с ним, заметь он хоть малейший признак доброжелательности. Но Толстой, все еще раздраженно проронив два-три слова, в том же полном молчании возобновил просмотр почты. Тургенев придвинул стоящий поблизости стул, взял со стола газету и волей-неволей тоже безмолвно принялся читать. В сумрачной зале некоторое время не слышалось ни звука, кроме бульканья кипящего самовара.
— Хорошо спали ночь? — обратился Толстой к Тургеневу, окончив просмотр почты и как будто о чем-то подумав.
— Хорошо.
Тургенев опустил газету и ждал, что Толстой заговорит еще раз. Но хозяин, наливая себе из самовара чай в серебряную чашку, больше не произнес ни слова.
Так повторилось раз или два, и Тургеневу, как и накануне вечером, все тяжелее было смотреть на недовольное лицо Толстого. В особенности сейчас, утром, когда с ними не было никого из посторонних, ему становилось прямо невмоготу. «Хоть бы жена Толстого пришла», — несколько раз подумал он, внутренне волнуясь. Но почему-то все еще никто не приходил.
Пять минут, десять минут... Словно не в силах больше вытерпеть, Тургенев бросил газету и неуверенно встал со стула.
В это время за дверью раздались громкие голоса и топот ног. Слышно было, как наперегонки с шумом взбегали по лестнице... И в тот же миг дверь резко распахнулась, и в комнату, оживленно болтая, влетело несколько мальчиков и девочек.
— Папа! Нашелся1
Илья, стоявший впереди других, с торжеством потряс чем-то, что держал в руке.
— Я первая заметила 1 — закричала Татьяна, очень похожая на мать, не желая уступать брату.
— Он, видно, зацепился, когда падал. Повис на ветке бере-зы, — объяснил наконец самый старший — Сергей.
Толстой ошеломленно обводил глазами детей. Но когда он понял, что вчерашний вальдшнеп благополучно найден, на его заросшем бородой лице сразу появилась ясная улыбка.
— Вот как? Зацепился за ветку дерева? Вот почему собака его не нашла.
Поднявшись, он подошел к Тургеневу, стоявшему среди детей, и протянул ему свою сильную руку.
— Иван Сергеевич! Теперь и я могу успокоиться. Я не такой человек, чтобы лгать. Если бы эта птица упала, Дора непременно б ее нашла.
306
Тургенев почти со стыдом пожал руку Толстому. Кто нашелся — вальдшнеп или автор «Анны Карениной»? Душу автора «Отцов и детей» залила такая радость, что на этот вопрос он не мог ответить.
— И я не такой человек, чтобы лгать. Смотрите — разве я его не убил? Ведь когда раздался выстрел, он тут же камнем упал.
Старики писатели переглянулись и, как будто сговорившись, расхохотались.
Декабрь 1920 г.
1
Это произошло в Китае, на одной из улиц Шанхая. Однажды на втором этаже дома, в котором даже днем царил полумрак, старуха индуска со злым лицом о чем-то очень серьезно беседовала с американцем, с виду торговцем.
— Хочу, чтобы вы мне опять погадали, бабушка, — сказал американец, закуривая новую сигару. — За этим, собственно, и пришел.
— Погадала? А я решила этим пока не заниматься, — ответила старуха, пристально, с затаенной усмешкой глядя на гостя. — Стараешься, гадаешь, а некоторые даже не заплатят как следует.
— Ну я-то хорошо заплачу, — сказал американец, небрежно бросив перед старухой чек на триста долларов.
— Это задаток. А если ваше гадание сбудется, получите еще. Увидев чек на триста долларов, старуха сразу подобрела.
— Очень много даете, даже совестно как-то. Так о чем бы вы хотели погадать?
— Вот о чем. — Не выпуская из зубов ситары, американец улыбнулся. — В общем, когда начнется война между Америкой и Японией. Ведь если знать это точно, мы, торговцы, сможем неплохо подзаработать.
— Тогда приходите завтра. Я погадаю и все узнаю, что вам нужно.
— Да? Только, пожалуйста, не подведите. Старуха самодовольно и горделиво расправила плечи.
— Уже пятьдесят лет я гадаю и ни разу не ошиблась. Знаете ли вы, что мне помогает в этом сам бог Агни?
После ухода американца старуха пошла к двери, ведущей в соседнюю комнату, и позвала:
307
— Хуайлянь, Хуайлянь!
На зов явилась красивая девочка-китаянка. Видимо, несладко ей жилось. Пухлые щечки были бледно-восковые.
— Что ты там копаешься? Вот уж, поистине, другой такой бесстыжей не сыщешь. Опять, наверное, на кухне дрыхла?
Но сколько бы ни ругали Хуайлянь, она всегда молчала, опустив глаза.
— Слушай хорошенько. Сегодня ночью снова обратимся К богу Агни. Так что помни это и будь готова.
Девочка подняла печальные глаза и взглянула в зловещее лицо старухи.
— Сегодня ночью?
— Сегодня ночью, ровно в двенадцать. Смотри не забудь. — И старуха угрожающе подняла палец кверху. — А будешь совать нос не в свое дело и мешать мне, пеняй на себя. Ведь убить тебя, если только я захочу, мне легче, чем свернуть голову цыпленку.
Лицо у старухи вдруг вытянулось и застыло. Она быстро взглянула на девочку и тут заметила, что та каким-то образом очутилась у открытого окна и смотрит на унылую улицу.
— Чего ты там не видела?
Хуайлянь еще сильнее побледнела и снова в упор посмотрела на старуху.
— Ладно. Ладно. Не знаешь ты еще меня, раз ни во что не ставишь. Горя еще не хлебнула.
Старуха зло сверкнула глазами и, схватив веник, замахнулась. И надо же было такому случиться! Именно в этот момент послышались чьи-то шаги, в дверь грубо постучали.
2
В тот день, в то самое время мимо дома проходил молодой японец. Неизвестно почему, но, взглянув на девочку-китаянку, показавшуюся в окне второго этажа, он остановился как вкопанный.
Тут подошел пожилой китаец-рикша.
— Эй, послушай! Не знаешь, кто живет там, на втором этаже, — обратился японец к рикше.
Не выпуская из рук оглобель, китаец поднял голову.
— Там? Там живет какая-то старуха индуска, — с неприязнью ответил он и заторопился уходить.
— Погоди-ка. Что за старуха?
— Гадалка. Говорят, даже колдовать умеет. В общем, если тебе дорога жизнь, лучше не ходи к вей.
308
Китаец ушел, а японец постоял, скрестив руки на груди, в раздумье, потом, видимо, принял решение и быстро вошел в дом. Тут он услышал плач девочки и брань старухи. Перепрыгивая через ступеньки, японец одним махом взбежал по полутемной лестнице и изо всех сил начал стучать в дверь. Ему сразу открыли. Но в комнате он увидел одну только старуху. Девочки уже не было, она, видимо, скрылась в соседней комнате.
— Вы ко мне?
Заподозрив неладное, старуха пристально взглянула на вошедшего.
— Ты, кажется, гадалка?
Японец скрестил руки на груди и, в свою очередь, с ненавистью посмотрел на старуху.
— Да.
— Тогда незачем спрашивать, зачем я пришел. И так все ясно. Погадай мне!
— О чем же вам гадать?
Старуха со все большим подозрением рассматривала японца.
— Прошлой весной пропала дочь моего хозяина. Вот об этом и погадай, — сказал японец, отчеканивая каждое слово. — Мой хозяин — японский консул в Гонконге. Его дочь зовут Таэко. Я — Эндо, служу у консула. Ну? Где же девочка? — сказал Эндо и выхватил из кармана пистолет. — Может, она здесь? По данным гонконгской полиции, девочку похитила женщина, похожая на индуску. Будешь упираться, не поздоровится.
Непохоже было, чтобы старуха хоть чуточку испугалась. Напротив, на губах ее даже блуждала улыбка, словно она одурачила незнакомца.
— Что ты болтаешь? Никакой девочки я в глаза не видела.
— Ври больше! Только что в этом окне я заметил Таэко, ту самую девочку.
Держа наготове пистолет, Эндо свободной рукой указал на дверь в соседнюю комнату.
— Раз упрямишься и не признаешься, приведи тогда китаянку, которая там находится.
— Она — моя приемная дочь.
Старуха, словно издеваясь, опять ехидно улыбнулась.
— Приемная или не приемная, это я сразу увижу, когда взгляну. Не приведешь, я сам к ней пойду.
Но только было Эндо сделал шаг, как старуха оказалась у двери и загородила ее.
— Это дом мой. А тебя я знать не знаю и не позволю тут расхаживать.
— Прочь с дороги! Не то убью!
309
Эндо поднял пистолет. Вернее, хотел поднять. Но в этот самый миг старуха закаркала, как ворона, и Эндо, словно пораженный током, выпустил пистолет из рук. Уж на что смел был Эндо, и то растерялся. Некоторое время он с удивлением озирался по сторонам. Потом снова обрел мужество и с криком: «Проклятая колдунья!»—как тигр, налетел на старуху. Старуха оказалась достойной противницей. Она ловко увернулась, схватила веник и метнула мусор с пола прямо в лицо Эндо, пытавшегося схватить ее. Соринки превратились в искры и, рассыпавшись по лицу, нещадно жгли глаза и губы. Эндо стало невтерпеж. Подгоняемый огненным вихрем, он скатился вниз и выскочил на улицу.
Ночью, около двенадцати, Эндо опять одиноко стоял перед домом старухи и с досадой смотрел на светящееся окно второго этажа.
«Какая жалость. С таким трудом узнал, где находится девочка, и не могу вызволить ее отсюда. Может, заявить в полицию? Нет, нет, китайская полиция весьма нерасторопна, это проверено на горьком опыте Гонконга. А если старуха увезет куда-нибудь девочку, найти ее снова будет довольно трудно. К тому же против этой проклятой колдуньи и пистолет бессилен!..»
Пока Эндо предавался размышлениям, из окна второго этажа вылетел и затрепетал на ветру лист бумаги.
«О! Может быть, это письмо от барышни?»
С этими словами Эндо поднял листок, осторожно достал из кармаиа фонарик, и на записку упало круглое пятно света. На клочке бумаги и в самом деле было что-то написано рукой Таэко. Там виднелись едва заметные следы карандаша. В записке было сказано: «Эндо-сан, старуха, что живет в этом доме, злая колдунья. Случается, что по ночам она вселяет в меня дух индусского бога Агни. И тогда я бываю как мертвая. Потому и не знаю, что затем происходит. Во всяком случае, по словам старухи бог Агни вещает моими устами. Сегодня ровно в двенадцать она опять вселит в меня этого духа. Обычно я незаметно для себя впадаю в забытье, но сегодня постараюсь притвориться заколдованной несколько раньше и скажу, что если она не отпустит меня к отцу, бог Агни убьет ее. Старуха пуще всего боится бога Агни и, услыхав такое, непременно отпустит меня домой. Пожалуйста, завтра утром приходите снова. Иного способа вырваться из рук старухи нет. До свидания».
310
Дочитав письмо, Эндо достал из кармана часы. Без пяти двенадцать. «Да, уже скоро. Вот ведь как получается: мой противник—хитрая колдунья, а барышня совсем еще ребенок, и если мне не повезет, то...»
Не успел он это подумать, как старуха, видимо, принялась за колдовство. В окне на втором этаже стало темно. И сразу же откуда-то потянуло странным пряным запахом. Таким крепким, что, казалось, он проник даже в камни мостовой.
4
В это время старуха, раскрыв в темной комнате на столе колдовскую книгу, усердно произносила магические заклинания. Саму книгу почти невозможно было разглядеть, и только буквы, подсвечиваемые курильницей, будто мерцали в темноте.
Перед старухой на стуле неподвижно сидела взволнованная Хуайлянь, вернее, Таэко, одетая в китайское платье. Она размышляла: «Попало ли к Эндо письмо, которое я бросила из окна? Тень человека, проходившего в то время по улице, я приняла за тень Эндо. Ну, а вдруг я ошиблась?» Эта мысль окончательно лишила ее покоя. Малейшая оплошность — и старуха обнаружит ее притворство. Тогда конец. План побега из этого страшного дома будет раскрыт. И Таэко, изо всех сил сжимая дрожащие руки, с нетерпением ждала, когда придет время притвориться, что в нее вселился бог Агни, как это было ею задумано.
Старуха наконец прочла заклинания и стала ходить вокруг Таэко, проделывая какие-то магические движения. Она то останавливалась перед Таэко, вздымая кверху широко раскинутые руки, то, заходя сзади, тихонько подносила их ко лбу девочки, будто хотела закрыть ей глаза. В тот момент старуху можно было принять за летучую мышь или громадную птицу, которая в свете бледного огня курильницы мечется по комнате.
Между тем Таэко стал, как всегда, одолевать сон. Но заснуть сейчас — значило загубить так тщательно разработанный план. Сегодняшний побег — единственная возможность вернуться к отцу.
— Боги Японии, пожалуйста, сделайте так, чтобы я не уснула. Мне бы хоть одним глазком взглянуть на отца, за это я готова тут же умереть. Боги Японии, пожалуйста, дайте мне силы обмануть старуху.
Таэко несколько раз горячо повторила эту молитву. Но ее все сильнее и сильнее клонило ко сну. Вот до нее донесся странный едва различимый звук, словно где-то ударили в гонг. Этот
311
авук всегда возвещал о приближении бога Агни, спускающегося с небес.
Тут силы окончательно покинули девочку. Мерцающее пламя курильницы, старуха — все моментально исчезло, как дурной сон.
— Бог Агни, бог Агни, пожалуйста, услышь мои слова. Вскоре, когда колдунья, распластавшись на полу, заговорила
хриплым голосом, девочка, сидя на стуле, спала как мертвая.5
Не говоря уже о Таэко, самой старухе не могло прийти в голову, что в этот момент кто-то следит за ней. А между тем совсем близко находился еще один человек, подглядывавший в замочную скважину. Кто же, по-вашему, это был? Разумеется, Эндо.
Прочитав письмо Таэко, Эндо собирался простоять на улице до рассвета. Но стоило ему подумать о несчастной девочке, как он тотчас же лишился покоя. Тихонько, как вор, пробрался он в дом, быстро прошел к двери на втором этаже и уже давно подсматривал за тем, что делается в комнате.
Тут необходимо заметить, что в замочную скважину Эндо видел только мертвенно-бледное лицо Таэко, освещенное тусклым светом курильницы. Все остальное было скрыто от него — и стол, и колдовская книга, и распластавшаяся на полу старуха. Зато хриплый голос колдуньи он слышал так ясно, будто стоял рядом с ней:
— Бог Агни, бог Агни, пожалуйста, услышь мои слова.
Не успела старуха произнести это, как Таэко, казавшаяся бездыханной, не открывая глаз, вдруг заговорила. Только не своим, а каким-то грубым мужским голосом.
— Я не желаю слушать твои просьбы. Нарушая мой приказ, ты постоянно творила зло. Сегодня же отрекусь от тебя. И не только отрекусь, но и покараю тебя за все твои злодеяния.
Старуха, видимо, была потрясена. Некоторое время она молчала и словно бы задыхалась. Но Таэко, не обращая на нее ни малейшего внимания, продолжала торжественным голосом:
— Ты выкрала дочь у несчастного отца. Если тебе дорога жизнь, не завтра, а сегодня же, да побыстрей, отпусти ее домой.
Эндо, не отрываясь от замочной скважины, ждал ответа старухи. Но вместо того, чтобы перепугаться, старуха с отвратительным смехом подскочила к Таэко.
— Можешь сколько угодно дурачить других, только не меня.
312
За кого ты меня принимаешь? Я, кажется, еще не выжила из ума настолько, чтобы дать тебе провести меня. Отпустить тебя домой, да побыстрее? Ты что, полицейский чиновник? Разве бог Агни может такое приказывать? — Старуха вытащила нож и поднесла его к лицу Таэко, которая по-прежнему сидела с закрытыми глазами. — Ну, признавайся честно, ты нарочно, не боясь греха, оскверняешь голос бога Агни?
Давно наблюдая за происходящим, Эндо, однако, не подозревал, что Таэко в самом деле спит. И потому при виде этой картины у него невольно сжалось сердце из-за опасения, что плаи раскрыт. Таэко же, и бровью не пошевелив, продолжала с насмешкой:
— Настал твой час. Неужели мой голос ты приняла за человеческий? Быть может, он и слаб, но это голос пламени, полыхающего в небе. Разве это тебе не понятно? Если не понятно, поступай как знаешь. Я только хочу спросить у тебя, скоро ли ты отпустишь эту девочку? Или ослушаешься моего приказа?
Старуха будто заколебалась немного. Но тут же снова приободрилась. В одной руке держа нож, она другой схватила Таэко за волосы и притянула к себе.
— Ведьма! Ты все еще упрямишься! Погоди же! Я выполню свое обещание, быстро лишу тебя жизни.
Старуха занесла нож. Еще минута — и Таэко умрет. Эндо моментально выпрямился и стал ломиться в дверь. Но дверь не поддавалась. Как он ни бил, сколько ни старался — только обдирал руки.
6
В это время из мрака запертой комнаты вдруг донесся громкий крик. Затем кто-то грохнулся на пол. Эндо, как безумный, стал звать Таэко и, напрягши все силы, несколько раз надавил плечом на дверь.
Раздался грохот ломающихся досок, треск срываемого замка — и дверь наконец была выломана. Здесь все еще мерцало слабое пламя курильницы и стояла такая тишина, словно никого не было.
Эндо с трепетом окинул взглядом едва освещенную комнату.
Похожая на мертвеца, Таэко по-прежнему смиренно сидела на стуле, и Эндо вдруг ощутил всю торжественность момента, ему даже показалось, будто голова девочки окружена ореолом.
— Барышня, барышня! —громко закричал Эндо прямо в ухо Таэко. Но Таэко, не открывая глаз, молчала.
— Барышня! Крепитесь. Я — Эндо.
313
Тогда Таэко, будто только что проснулась, чуть приоткрыла глада.
— Эндо-сан?
— Да. Эндо. Все в порядке. Успокойтесь. Бежим скорее. Таэко, как бы в полусне, ответила чуть слышно:
— План оказался негодным. Я нечаянно уснула. Простите меня.
— То, что все произошло не по плану, вина не ваша. Ведь, как и обещали мне, вы сумели притвориться, будто в вас вселился бог Агни. Это было прекрасно. Ну, а теперь бежим быстрее!
Эндо нетерпеливо обнял Таэко и поднял со стула.
— Ах, это неправда. Я ведь уснула. И совершенно не помню, что говорила, — с досадой сказала Таэко, припав к груди Эндо. — План оказался неудачным. Я никак не могу бежать.
— Да разве можно так? Пойдемте вместе со мной. Будет ужасно, если мы растеряемся и упустим случай.
— А старуха?
— Старуха?
Эндо еще раз оглядел комнату. На столе он увидел раскрытую колдовскую книгу. А под столом навзничь лежала старуха. Это было так неожиданно! Лежала мертвая, в луже крови, вонзив нож в собственную грудь.
— Что с ней?
— Она мертва.
Таэко взглянула на Эндо и нахмурила свои красивые брови.
— Я... ничего не знала... Старуху... Эндо, это вы ее убили? Эндо перевел взгляд на Таэко. Только сейчас он понял, что
их план провалился, но умерла все же старуха, а Таэко свободна. Эндо понял наконец удивительную силу рока.— Не я ее убил... Ее убил приходивший сюда бог Агни, — торжественно прошептал Эндо, неся на руках Таэко.
Декабрь 1920 г.
Однажды вечером я гулял по Гиндэа со своим старым приятелем Мураками.
Вдруг, точно случайно вспомнив, Муракамя заговорил о своей младшей сестре, жившей в Сасэбо:
— Недавно пришло письмо от Тиэко. Она тебе кланяется.
— Тиэко-сан здорова?
— Да, в последнее время совсем поправилась. А когда жила
314
в Токио, у нее нервы сильно расшатались — ты с ней в это время встречался?
— Встречался. Но насчет нервов...
— Неужели ты не знал? Она тогда была прямо сумасшедшая. То плачет, то смеется. Странная с ней история...
— Странная история?
Прежде чем ответить, Мураками толкнул стеклянную дверь кафе. Мы сели друг против друга за столик, откуда видна была улица.
— Да, странная история. Я еще тебе не рассказывал? Я узнал ее от Тиэко перед моим отъездом в Сасэбо.
Как ты знаешь, муж Тиэко был офицер команды броненосца, отправленного во время европейской войны на Средиземное море. На время его отсутствия сестра переехала ко мне, и когда война стала подходить к концу, у нее вдруг ужасно расшатались нервы. Главной причиной, пожалуй, было то, что письма от мужа, которые она до того получала каждую неделю, вдруг перестали приходить. Ну, так как Тиэко рассталась с мужем всего через полгода после свадьбы, то смеяться над тем, что она радовалась его письмам, даже мне, человеку достаточно бесцеремонному, казалось жестоким.
Вот тогда это и случилось. Однажды... Да, это было в праздник Кигэнсэцу, день был холодный, с утра лил дождь, но Тиэко заявила, что хочет съездить в Камакура, давно там не была. В Камакура жила одна ее школьная подруга, замужем за каким-то дельцом. Тиэко хотела поехать к ней в гости, но поскольку в такой дождь непременно ехать в гости в Камакура вовсе не было надобности, то мы — и я сам, конечно, и жена — несколько раз заговаривали, не лучше ли ей поехать завтра. Но Тиэко упрямо твердила, что хочет ехать непременно сегодня. И наконец, рассердившись, быстро собралась и ушла.
— Может случиться, что я останусь ночевать и вернусь только завтра утром. — С этими словами она ушла, но немного погодя — что с ней случилось? — вернулась, мокрая до нитки и бледная-бледная. Между прочим, оказалось, что от Центрального вокзала до трамвайной остановки Хорибата она шла без зонтика. Почему? Вот в этом и заключается странная история.
Когда Тиэко подошла к Центральному вокзалу... Впрочем, нет, еще раньше с ней случилось вот что. В трамвае, на который она села, к ее огорчению, все места были заняты. Когда она взялась рукой за ремень, за окном прямо перед ее глазами смутно обрисовалось море. Так как трамвай в это время проходил по Дзимбо-мати, морю, конечно, показываться было неоткуда. Тем не менее через окно видно было, как в воздухе, над улицей колы-
315
шутся набегающие волны. А когда на окно попадали капли дождя, в тумане даже обозначалась едва заметная линия горизонта. По одному этому можно судить, что у Тиэко уже в то время нервы были не в порядке.
Когда она подошла к Центральному вокзалу, стоявший у дверей носильщик в красной шапке внезапно поклонился ей и сказал: «О вашем супруге никаких новостей?» Это, конечно, было странно. Но еще более странным было то, что Тиэко не нашла в этом вопросе ничего странного! Она даже ответила: «Благодарю вас. Только за последнее время почему-то ничего от него не получаю». Тогда носильщик сказал: «В таком случае я с ним повидаюсь». Повидается? Но ведь муж далеко, на Средиземном море... Только тут Тиэко обратила внимание на то, что этот незнакомый носильщик говорит какие-то странные вещи. Но пока она собралась его переспросить, носильщик слегка поклонился и скрылся в толпе. И как Тиэко ни искала, больше она этой красной шапки не видела. Нет, не то чтобы не видела, а просто лица этого носильщика — странное дело! — она никак не могла припомнить. Поэтому она и не могла его найти, а в то же время каждую красную шапку она принимала за этого самого носильщика. Притом у нее почему-то было такое ощущение, словно этот таинственный носильщик все время за ней наблюдает. Тут не то что ехать в Камакура, а даже оставаться на вокзале ей стало как-то жутко. В конце концов, даже не раскрыв зонтика, она под проливным дождем, как во сне, убежала оттуда.
Разумеется, вся эта история приключилась с ней просто из-за нервов, но на этой прогулке Тиэко простудилась. Со следующего дня у нее целых трое суток держался сильный жар, и она все время бредила, — словно обращаясь к мужу, говорила то: «Простите меня!», то: «Отчего вы не возвращаетесь?» Но история злополучной поездки в Камакура на этом не кончилась. Даже когда простуда совсем прошла, стоило Тиэко услышать слово «носильщик», как она на целый день расстраивалась и почти не раскрывала рта. Один раз произошел даже смешной случай: на вывеске какой-то транспортной конторы был нарисован носильщик, и когда она это увидела, то дальше не пошла, а повернула домой.
Однако прошел месяц, и ее страх перед носильщиком понемногу почти исчез. «Сестрица, в одном рассказе Кёка говорится о носильщике с кошачьей физиономией. Может быть, эта странная вещь приключилась с тобой от чтения этого рассказа?» Но как-то в марте ее опять напугал носильщик. И с тех пор до возвращения мужа Тиэко ни под каким видом, даже если нужно было, не ходила на вокзал. И тебя не пошла провожать тоже из-за того, что боялась носильщика.
316
В этот мартовский день из Америки после двухлетнего отсутствия приехал приятель ее мужа. Тиэко с утра отправилась к нему. Как ты знаешь, в том районе даже днем малолюдно. На пустынной улице у тротуара стоял, точно забытый, передвижной ларек с игрушечными мельницами. День был пасмурный, ветреный, и цветные вертушки, установленные на лотке, бешено вертелись. У Тиэко от одного этого зрелища почему-то сжалось сердце. Когда же, проходя мимо лотка, она случайно подняла глаза, — спиной к ней сидел на корточках человек в красной шапке. Вероятно, это просто уселся покурить продавец вертушек или кто-нибудь в таком роде. Но когда Тиэко увидела, что шапка у него красная, ее почему-то охватило странное предчувствие, и она даже подумала, не вернуться ли ей домой.
Однако с момента прихода на вокзал до того, как она встретила приехавшего, к счастью, ничего не случилось. Только когда встречающие во главе с приятелем мужа выходили с перрона через полутемную дверь вокзала, кто-то сзади обратился к Тиэко со словами: «Ваш супруг, говорят, ранен в правую руку. Поэтому он и не пишет». Тиэко мгновенно обернулась, но никакой красной шапки позади не оказалось. За Тиэко шел морской офицер с женой, ее хорошие знакомые. Понятно, этот морской офицер не стал бы ни с того ни с сего говорить ей такие вещи, поэтому слова, которые она услыхала, иначе как странными назвать было никак нельзя. И все-таки Тиэко обрадовалась, что красной шапки нигде не видно. Пройдя через здание вокзала, они всей компанией направились к подъезду проводить товарища мужа до автомобиля. Тогда сзади опять кто-то отчетливо произнес: «Сударыня, вероятно, ваш супруг через месяц вернется домой». Тиэко опять обернулась, по позади стояли только знакомые, встречавшие приятеля мужа, и никакой красной шапки не было видно. Но хотя сзади ее и не было, зато впереди двое носильщиков укладывали в автомобиль багаж. Один из них на секунду повернул голову и как-то странно усмехнулся. Увидев его, Тиэко так побледнела, что даже окружающие это заметили. Когда же она немного овладела собой, то убедилась, что там, где она видела двоих носильщиков, багаж укладывает один. И совсем не тот, который только что усмехался. Она подумала, что уж теперь-то запомнила лицо усмехнувшегося носильщика. Но потом все же оказалось, что она по-прежнему помнит его смутно. И как она ни старалась, в памяти всплывало только лицо без глаз и без носа да красная шапка... Вот вторая странная история, которую рассказала Тиэко.
Потом через месяц, — да, примерно в то время, когда ты уехал в Корею, — муж действительно вернулся. И, странное дело, он и
317
вправду некоторое время не мог писать из-за раны в правую руку. Моя жена сразу же стала подшучивать над Тиэко: «Она все время думала о муже, естественно, что она это знала!» Через две недели Тиэко с мужем уехали на место его службы в Сасэбо, но не успели они обосноваться там, как мы, к величайшему изумлению, прочли в присланном ею письме третью странную историю.
Когда они уезжали с Центрального вокзала и поезд уже тронулся, носильщик, который нес их багаж, заглянул к ним в окно, должно быть, чтобы пожелать им доброго пути. При виде его лицо мужа приняло странное выражение, и немного погодя он смущенно рассказал Тиэко следующее. Во время стоянки их корабля в Марселе, когда он сидел с приятелем в кафе, внезапно к столу подошел японец-носильщик и фамильярным тоном спросил, как обстоят дела. Конечно, по улицам Марселя японцы-носильщики не расхаживают. Но муж Тиэко почему-то нисколько не удивился и рассказал, что ранен в правую руку и скоро возвращается домой. В эту минуту какой-то пьяный опрокинул рюмку коньяку. И когда муж моей сестры испуганно оглянулся, японец-носильщик исчез, как сквозь землю провалился. Что же это такое? Глаза у него были открыты, но он не мог понять, приснилось ли это ему или случилось на самом деле? Вдобавок приятели держали себя так, как будто они не заметили, чтобы к нему кто-либо подходил. Поэтому он в конце концов решил никому об этом случае не рассказывать. Но когда он вернулся в Японию, он узнал, что Тиэко два раза встречала какого-то таинственного носильщика. Тогда он подумал, что в Марселе, пожалуй, видел именно его; однако это слишком походило на рассказы о привидениях. Кроме того, он боялся подтруниваний над тем, что во время славного похода он думает о жене; поэтому он все еще молчал. Но когда он увидел носильщика, только что заглянувшего в окно, оказалось, что этот носильщик ни на волос не отличается от того, который заходил в кафе в Марселе... Рассказав эту историю, муж помолчал, но потом, тревожно понизив голос, добавил: «Не странно ли? Я сказал: «Ни на волос не отличается», — а между тем никак не могу отчетливо припомнить его лицо. Только в тот миг, когда он заглянул в окно, я подумал: «Он самый!..»
Когда Мураками дошел до этого места, к нашему столу приблизились несколько человек, только что вошедших в кафе — по-видимому, его знакомые, — и стали шумно здороваться с ним. Я поднялся.
— Ну, пока, до свиданья. До отъезда в Корею загляну к тебе.
Выйдя из кафе, я невольно глубоко вздохнул: только теперь
318
я понял, почему три года назад Тиэко, дважды нарушив обещание прийти на тайное свиданье со мной на Центральный вокзал, прислала мне письмо, в котором кратко сообщала, что хочет навеки остаться верной женой.
Декабрь 1920 г,
(Свиток картин)
Ребенок. Смотрите, сюда ндет какой-то чудной монах! Смотрите все, смотрите все!
Уличная торговка суси. В самом деле, какой странный монах! Так неистово ударяет в гонг и при этом вопит...
Старик, торговец хворостом. Никак не пойму, чего он хочет, — на ухо туговат. Скажи, что он там кричит, а?
Жестянщик. Он кричит: «О будда Амида, отзовись! О будда Амида, отзовись!»
Старик. Да ну?.. Значит, он не в себе.
Жестянщик. Похоже на то.
Торговка овощами. Ах нет, это, наверно, блаженный праведник. Помолюсь-ка ему на всякий случай.
Торговка суси. Но какое противное у него лицо! Разве у праведников бывают такие?
Торговка овощами. Грешно так говорить! Бог накажет...
Ребенок. Дю-дю, дурачок! Дю-дю, дурачок!
Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!
Собака. Гав!.. Гав-гав!..
Дама, идущая на богомолье. Взгляни, какой забавный монах!
Ее спутница. Эти блаженные, чуть только увидят женщину, того и гляди, привяжутся с какой-нибудь непристойностью. Хорошо, что он еще далеко, свернем скорее в сторону.
Литейщик. Э, да, никак, это вельможа из Тадо!..
Странствующий торговец ртутью. Слыхал я,что супруга его и дети день-деньской льют о нем слезы...
Литейщик. И все же вступить на путь будды, покинув ради этого даже жену с детьми, — что ни говорите, а по нынешним временам это замечательно!
Торговка сушеной рыбой. Что же тут хорошего? Поставь-ка себя на место брошенной жены и детей — поневоле зло возьмет, пусть даже не женщина разлучила, а сам будда!
319
Молодой самурай. А ты права. В этом есть свой резон! (Хохочет.)
Собака. Гав-гав!.. Гав-гав!.. Я Монах-вельможа. Отзовись, будда Амида!.. Отзовись! Отзовись!..
Самурай-всадник. Эй, коня напугал, отче!.. Стой, стой!..
Слуга, несущий за ним поклажу. На блаженного и рука не поднимется...
Старая монахиня. Всем ведомо, что монах этот был прежде злодеем, любившим пуще всего убийство... Поистине благо, что он обратился на путь истины.
Молодая монахиня. Да, верно, страшный был человек... Не только убивал все живое, охотясь в лесах и на реках, но, бывало, не раз стрелял в простолюдинов, в нищих...
Нищий с сандалиями в руках. Вовремя же я его повстречал. Случись это на недельку раньше, стрела, возможно, пробуравила бы мне дырку в брюхе.
Торговец каштанами. С чего бы это такой душегуб вздумал постричься?
Старая монахиня. Да, чудеса... Наверное, была на то воля будды.
Торговец маслом. Ая думаю, не иначе как в него вселился тэнгу или другая нечистая сила.
Торговец орехами. Нет, по-моему, не тэнгу, а лисица.
Торговец маслом. Но говорят, что именно тэнгу в любую минуту может оборотиться буддой...
Торговец орехами. Сказал тоже... Не только тэнгу... И лиса на это мастерица.
Нищий. Выберу-ка я минутку, стащу горсточку каштанов да суну в мешок для подаяний...
Молодая монахиня. Ой, смотрите, куры все забрались на крышу, — верно, гонга испугались...
Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!
Рыбак. Вот еще нелегкая принесла! Сколько шума наделал!
Его приятель. Что это там? Какой-то нищий бежит сюда?
Дама-путешественница с длинной вуалью и под зонтиком. Ах, как ноги у меня устали! Этому нищему и то позавидуешь!
Ее слуга. Осталось только перейти мостик, и за ним сразу город.
320

«Сомнение»
Рыбак. Заглянуть бы разок под эту вуаль...
Его товарищи. Смотри, пока мы по сторонам зевали, наживку-то оборвало...
Монах-вельможа. О будда Амида! Отзовись! Отзовись!-..
Ворона. Карр!.. Карр!
Женщина, сажающая рассаду в поле. «О кукушка! Словно в насмешку поешь ты, когда я гну спину в поле...»
Ее подруга. Какой смешной монах, правда?
Ворона. Карр!.. Карр!..
Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись! Отзовись!
На некоторое время воцаряется тишина. Только ветер шелестит в соснах. О будда Амида! Отзовись! Отзовись!
Меж сосен снова проносится порыв ветра.
Старый монах. Святой отец, а святой отец!..
Монах-вельможа. Ты звал меня?
Старый монах. Воистину. Куда путь держите, святой отец?
Монах-вельможа. Иду на запад.
Старый монах. На западе — море.
Монах -вельможа. Что ж, море мне не помеха. Буду идти на запад до тех пор, пока не сподоблюсь лицезреть будду Амида.
Старый монах. Что за удивительные речи слышу я! Неужто вы полагаете, будто смертный может лицезреть будду Амида и поклониться ему?
Монах-вельможа. Иначе зачем бы я стал призывать его так громогласно? Для этого я и от мира ушел.
Старый монах. Были к тому, наверно, немаловажные причины?
Монах-вельможа. Нет, особых причин никаких не было. Только, возвращаясь третьего дня с охоты, услыхал я по дороге поучения одного проповедника. Вник в его слова и тут понял — грешник, даже самый великий, преступивший все священные заповеди, если только обратит свои помыслы к будде и станет служить ему всем сердцем своим, сможет обрести вечную жизнь в чистой обители рая. И от этих слов в то же мгновение меня охватила такая любовь к будде Амида, что вся кровь забурлила в жилах...
Старый монах. И как же тогда поступил святой отец?
Монах-вельможа. Я схватил этого проповедника, повалил и прижал к земле...
11 Акутагава Рюноскэ
321
Старый монах. Что?! Повалил и прижал к земле?..
Монах-вельможа. Потом выхватил меч из ножен, приставил к груди проповедника и потребовал, чтобы он назвал место, где обитает будда Амида.
Старый монах. Странная, однако, манера задавать вопросы!..
Монах-вельможа. Жалобно на меня глядя, он пробормотал: «Запад... запад...» Но я тут мешкаю, а между тем смеркается. Нельзя терять ни минуты пути, это грех перед буддой Амида... О будда Амида, отзовись!.. Отзовись!..
Старый монах. Поистине мне повстречался странный безумец... Пойду-ка и я своим путем...
В третий раз прошумел ветер в соснах. Слышно, как глухо рокочут волны.
Монах-вельможа. О будда Амида, отзовись!.. Отзовись!..
Рокот волн. Время от времени слышно, как щебечут у берега чайки.
О будда Амида, отзовись! Отзовись!.. Какой пустынный берег, нет даже лодок. Одни лишь волны. А за волнами, возможно, лежит страна, где родился будда Амида... Будь я птицей-бакланом, мигом перелетел бы туда, но увы... А ведь проповедник сказал, что милосердие и доброта будды беспредельны. Значит, не может он не отозваться, если со всем усердием призывать его громким голосом... Стану же звать его, сколько достанет сил, звать, пока не умру. А вот, на счастье, и сухая сосна с раздвоенной вершиной протянула во все стороны ветви... Заберусь-ка на эту вершину... О будда Амида, отзовись! Отзовись!
Снова рокот волн, тяжкий, глухой.
Старый монах. Вот уже седьмой день пошел с тех пор, как повстречался мне тот безумец. Он говорил, что хочет еще при жизни лицезреть очами будду Амида... Куда он потом скрылся? О-о, там, на верхушке сухой сосны, — человек... Конечно же, это он, тот монах. Святой отец, а святой отец!.. Молчит. Оно и понятно. Он мертв. Бедняга умер голодной смертью, ведь при нем не было даже сумы для подаяния.
В третий раз слышится рокот волн, тяжкий, глухой.
Нельзя оставлять его на дереве — он станет добычей воронов... Все заранее предопределено в нашем мире. Похороню же его... О-о, что это? В устах мертвеца вырос белоснежный цветок
322
лотоса! В самом деле, я давно уже ощутил дивный аромат... Значит, тот, кого я счел безумцем, оказался блаженным праведником? А я, того не ведая, обращался с ним непочтительно — сколь же велико мое упущение!.. Да славится имя твое, будда Амида! Да славится имя твое, будда Амида!.. Да славится имя твое, будда Амида!
Март 1921 г.
Что сказал на допросе судейского чиновника дровосек
Да. Это я нашел труп. Нынче утром я, как обычно, пошел подальше в горы нарубить деревьев. И вот в роще под горой оказалось мертвое тело. Где именно? Примерно в четырех-пяти те от проезжей дороги на Ямасина. Это безлюдное место, где растет бамбук вперемежку с молоденькими криптомериями.
На трупе были бледно-голубой суйкан и поношенная шапка эбоси, какие носят в столице; он лежал на спине. Ведь вот какое дело, на теле была всего одна рана, но зато прямо в груди, так что сухие бамбуковые листья вокруг были точно пропитаны киноварью. Нет, кровь больше не шла. Рана, видно, уже запеклась. Да, вот еще что: на ране, ничуть не испугавшись моих шагов, сидел присосавшийся овод.
Не видно ли было меча или чего-нибудь в этом роде? Нет, там ничего не было. Только у ствола криптомерии, возле которой лежал труп, валялась веревка. И еще... да, да, кроме веревки, там был еще гребень. Вот и все, что было возле тела, — только эти две вещи. А трава и опавшая листва кругом были сильно истоптаны, — видно, убитый не дешево отдал свою жизнь. Что, не было ли лошади? Да туда никакая лошадь не проберется. Конная дорога — она подальше, за рощей.
Что сказал на допросе судейского чиновника странствующий монах
С убитым я встретился вчера. Вчера... кажется, в полдень. Где? На дороге от Сэкияма в Ямасина. Он вместе с женщиной, сидевшей на лошади, направлялся в Сэкияма. На женщине была широкополая шляпа с покрывалом, так что лица ее я не видел. Видно было только шелковое платье с узором цветов хаги. Ло-
11*
323
шадь была рыжеватая, с подстриженной гривой. Рост? Что-то около четырех сун выше обычного... Я ведь монах, в таких вещах худо разбираюсь. У мужчины... да, у него был и меч за поясом, и лук со стрелами за спиной. И сейчас хорошо помню, как у него из черного лакированного колчана торчало штук двадцать стрел.
Мне и во сне не снилось, что он так кончит. Поистине, человеческая жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния. Ох, ох, словами не сказать, как все это прискорбно.
Что сказал на допросе судейского чиновника стражник
Человек, которого я поймал? Это — знаменитый разбойник Тадзёмару. Когда я его схватил, он, упав с лошади, лежал, стеная, на каменном мосту, что у Авадагути. Когда? Прошлым вечером, в часы первой стражи. Прошлый раз, когда я его чуть не поймал, на нем был тот же самый синий суйкан и меч за поясом. А на этот раз у него, как видите, оказались еще лук и стрелы. Вот как? Это те самые, что были у убитого? Ну, в таком случае убийство, без сомнения, совершил Тадаёмару. Лук, обтянутый кожей, черный лакированный колчан, семнадцать стрел с ястребиными перьями — все это, значит, принадлежало убитому. Да, лошадь, как вы изволили сказать, была рыжеватая, с подстриженной гривой. Видно, такая ему вышла судьба, что она сбросила его с себя. Лошадь щипала траву у дороги неподалеку от моста, и за ней волочились длинные поводья.
Этот самый Тадзёмару, не в пример прочим разбойникам, что шатаются по столице, падок до женщин. Помните, в прошлом году на горе за храмом Акиторибэ, посвященном Биндзуру, убили женщину с девочкой, по-видимому, паломников? Так вот, говорили, что это дело его рук. Вот и женщина, что ехала на рыжеватой лошади, — если он убил мужчину, то куда девалась она, что с ней сталось? Неизвестно. Извините, что вмешиваюсь, но надо бы это расследовать.
Что сказала на допросе судейского чиновника старуха
Да, это труп того самого человека, за которого вышла замуж моя дочь. Только он не из столицы. Он самурай из Кокуфу и Вакаса. Зовут его Кападвава Такэхиро, лет ему.двадцать шесть. Нет, он не мог навлечь на себя ничьей злобы — у него был очень мягкий характер.
Моя дочь? Ее зовут Масаго, ей девятнадцать лет. Она нравом смелая, не хуже мужчины. У нее никогда не было возлюб-
324
ленного до Такэхиро. Она смуглая, возле уголка левого глаза у нее родинка, лицо маленькое и продолговатое.
Вчера Такэхиро с моей дочерью отправился в Бакаса. За какие грехи свалилось на нас такое несчастье! Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тревога за дочь не дает мне покоя. Я, старуха, молю вас во имя всего святого — обыщите все леса и луга, только найдите мою дочь! Какой злодей этот разбойник Тадзёмару или как его там! Не только зятя, но и мою дочь... (Плачет, не в силах сказать ни слова.)
Признание Тадзёмару
Того человека убил я. Но женщину я не убивал. Куда она делась? Этого и я тоже не знаю. Постойте! Сколько бы вы меня ни пытали, я ведь все равно не смогу сказать то, чего не знаю. К тому же, раз уж так вышло, я не буду трусить и не буду ничего скрывать.
Я встретил этого мужчину и его жену вчера, немного позже полудня. От порыва ветра шелковое покрывало как раз распахнулось, и на миг мелькнуло ее лицо. На миг — мелькнуло и сразу же снова скрылось, — и, может быть, отчасти поэтому ее лицо показалось мне ликом бодисатвы. И я тут же решил, что завладею женщиной, хотя бы пришлось убить мужчину.
Вам кажется это страшно? Пустяки, убить мужчину — обыкновенная вещь! Когда хотят завладеть женщиной, мужчину всегда убивают. Только я убиваю мечом, что у меня за поясом, а вот вы все не прибегаете к мечу, вы убиваете властью, деньгами, а иногда просто льстивыми словами. Правда, крови при этом не проливается, мужчина остается целехонек — и все-таки вы его убили. И если подумать, чья вина тяжелей — ваша или моя, — кто знает?! (Ироническая усмешка.)
Но это не значит, что я недоволен, если удается завладеть женщиной, не убивая мужчины. А на этот раз я прямо решил завладеть женщиной без убийства. Только на проезжей дороге такой штуки не проделать. Поэтому я придумал, как заманить их обоих в глубь рощи.
Это оказалось нетрудно. Пристав к ним как попутчик, я стал рассказывать, что напротив на горе есть курган, что я его раскопал, нашел там много зеркал и мечей и зарыл все это в роще у горы, чтобы никто не видел, и что, если найдется желающий, я дешево продам любую вещь. Мужчина понемногу стал поддаваться на мои слова. И вот — что бы вы думали! Страшная вещь алчность! Не прошло и получаса, как они повернули свою лошадь и вместе со мной направились по тропинке к горе.
325
Когда мы подошли к роще, я сказал, что вещи зарыты в самой чаще, и предложил им пойти посмотреть. Мужчину снедала жадность, и он, конечно, не стал возражать. Но женщина сказала, что она не сойдет с лошади и останется ждать. Это с ее стороны было вполне разумно, так как она видела, что роща очень густая. Все шло как по маслу, и я повел мужчину в чащу, оставив женщину одну.
На окраине заросли рос только бамбук. Но когда мы прошли около полтё, стали попадаться и криптомерии. Для того, что я задумал, трудно было найти более удобное место. Раздвигая ветви, я рассказывал правдоподобную историю, будто сокровища зарыты под криптомерией. Слушая меня, мужчина торопливо шел вперед, туда, где виднелись тонкие стволы этих деревьев. Бамбук попадался все реже, уже вокруг стояли криптомерии — и тут я внезапно набросился на него и повалил его на землю. И он сразу же оказался привязанным к стволу дерева. Веревка? Какой же разбойник бывает без веревки? Веревка была у меня за поясом — ведь она всегда могла мне понадобиться, чтобы перебраться через изгородь. Разумеется, чтоб он не мог кричать, я забил ему рот опавшими бамбуковыми листьями, и больше с ним возиться было нечего.
Покончив с мужчиной, я вернулся к женщине и сказал ей, что ее спутник внезапно занемог и что ей надо пойти посмотреть, что с ним. Незачем и говорить, что и на этот раз я добился своего. Она сняла свою широкополую шляпу и, не отнимая у меня руки, пошла в глубь рощи. Но когда мы пришли к тому месту, где к дереву был привязан ее муж, едва она его увидела, как сунула руку за пазуху и выхватила кинжал. Никогда еще не приходилось мне видеть такой необузданной, смелой женщины. Не будь я тогда настороже, наверняка получил бы удар в живот. От этого-то я увернулся, но она ожесточенно наносила удары куда попало. Но ведь недаром я Тадзёмару — мне в конце концов удалось, не вынимая меча, выбить кинжал у нее из рук. А без оружия самая храбрая женщина ничего не может поделать. И вот я наконец, как и хотел, смог овладеть женщиной, не лишая жизни мужчину.
Да, не лишая жизни мужчину. Я и после этого не собирался его убивать. Но когда я хотел скрыться из рощи, оставив лежащую в слезах женщину, она вдруг как безумная вцепилась мне в рукав и, задыхаясь, крикнула: «Или вы умрете, или мой муж... кто-нибудь из вас двоих должен умереть... Быть опозоренной на глазах двоих мужчин хуже смерти... Один из вас должен умереть... а я пойду к тому, кто останется в живых». И вот тогда мне захотелось убить мужчину. (Мрачное возбуждение.)
326
Теперь, когда я вам это сказал, наверно, кажется, что я жестокий человек. Это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины. Потому что вы не видели ее горящих глаз. Когда я встретился с ней взглядом, меня охватило желание сделать ее своей женой, хотя бы гром поразил меня на месте. Сделать ее своей женой — только эта мысль и была у меня в голове. Нет, это не была грубая похоть, как вы думаете. Если бы мною владела только похоть, я отшвырнул бы женщину пинком ноги и ушел. Тогда и мужчине не пришлось бы обагрить мой меч своею кровью. Но в то мгновение, когда в сумраке чащи я вгляделся в лицо женщины, я решил, что не уйду оттуда, пока его не убью.
Однако хотя я и решил его убить, но не хотел убивать его подло. Я развязал его и сказал: будем биться на мечах. Веревка, что нашли у корней дерева, это и была та самая, которую я тогда бросил. Мужчина с искаженным лицом выхватил тяжелый меч и сразу же, не вымолвив ни слова, яростно бросился на меня. Чем кончился этот бой, незачем и говорить. На двадцать третьем взмахе, мой меч пронзил его грудь. На двадцать третьем взмахе — прошу вас, не забудьте этого! Я до сих пор поражаюсь: во всем мире он один двадцать раз скрестил свой меч с моим. (Веселая улыбка.)
Как только он упал, я с окровавленным мечом в руках обернулся к женщине. Но — представьте себе, ее нигде не было! Я стал искать среди деревьев. Но на опавших бамбуковых листьях не осталось никаких следов. А когда я прислушался, то услышал только предсмертное хрипенье в горле у мужчины.
Может быть, когда мы начали биться, женщина ускользнула из рощи, чтобы позвать на помощь? Как только эта мысль пришла мне в голову, я понял, что дело идет о моей жизни. Я взял у убитого меч, лук и стрелы и сейчас же выбрался на прежнюю тропинку. Там все так же мирно щипала траву лошадь женщины. Говорить о том, что было после, — значит напрасно тратить слова. Только вот что: перед въездом в столицу у меня уже не было того меча. Вот и все мое признание. Подвергните меня самой жестокой казни — я ведь всегда знал, что когда-нибудь моей голове придется торчать на верхушке столба. (Вызывающий вид.)
Что рассказала женщина на исповеди в храме Киёмидзу
Овладев мною, этот мужчина в синем обернулся к моему связанному мужу и насмешливо захохотал. Как тяжело, наверно, было мужу! Но как он ни извивался, опутывавшая его веревка
327
только глубже врезалась в тело. Я невольно вся подалась к нему — нет, я только хотела податься. Но тот мужчина мгновенно пинком ноги швырнул меня на землю. И вот тогда это и случилось. В этот миг я увидела в глазах мужа какой-то неописуемый блеск. Неописуемый... даже теперь, вспоминая его глаза, я не могу подавить в себе дрожь. Не в силах выговорить ни единого слова, муж в это мгновение излил всю свою душу во взгляде. Но его глаза выражали не гнев, не страдание — в них сверкало холодное презрение ко мне, вот что они выражали! Не от пинка того мужчины, а от ужаса перед этим взглядом я, не помня себя, вскрикнула и лишилась чувств.
Когда я пришла в себя, того мужчины в синем уже не было. И только к стволу криптомерии по-прежнему был привязан мой муж. С трудом поднимаясь с опавших бамбуковых листьев, я пристально смотрела ему в лицо. Но взгляд его нисколько не изменился. Его глаза по-прежнему выражали холодное презрение и затаенную ненависть. Не знаю, как сказать, что я тогда почувствовала... и стыд, и печаль, и гнев... Шатаясь, я поднялась и подошла к мужу.
«Слушайте! После того, что случилось, я не могу больше оставаться с вами. Я решила умереть. Но... но умрете и вы. Вы видели мой позор. После этого я не могу оставить вас в живых». Вот что я ему сказала, как ни было это трудно. И все-таки муж по-прежнему смотрел на меня с отвращением. Сдерживая волнение, от которого грудь моя готова была разорваться, я стала искать его меч. Но, вероятно, все похитил разбойник — не только меча, но даже и лука и стрел нигде в чаще не было видно. Только кинжал, к счастью, валялся у моих ног. Я занесла кинжал и еще раз сказала мужу: «Теперь я лишу вас жизни. И сейчас же последую за вами».
Когда муж услышал эти слова, он с усилием пошевелил губами. Разумеется, голоса не было слышно, так как рот у него был забит бамбуковыми листьями. Но когда я посмотрела на его губы, то сразу же поняла, что он сказал. Все с тем же презрением ко мне муж проговорил одно слово: «Убивай». Почти в беспамятстве я глубоко вонзила кинжал в его грудь под бледно-голубым суй-каном.
Кажется, тут я опять потеряла сознание. Когда, очнувшись, я оглянулась кругом, муж, по-прежнему связанный, уже не дышал. Сквозь густые ветви криптомерии, сплетенные со стволами бамбука, на его бледное лицо упал луч заходящего солнца. Подавляя рыдания, я развязала веревку на трупе. И потом... что стало со мной потом? Об этом у меня нет сил говорить. Что я ни делала, я не могла найти в себе силы умереть. Я подносила кин-
328
жал к горлу, я пыталась утопиться в озере у подножья горы, я пробовала... Но вот не умерла, осталась живой, и этим мне не приходится гордиться. (Грустная улыбка.) Может быть, милосердная, сострадательная богиня Каннон отвернулась от такого никчемного существа, как я. Но что же мне делать, мне, убившей своего мужа, обесчещенной разбойником, что мне делать? Что мне... мне... (Внезапные отчаянные рыдания.)
Что сказал устами прорицательницы дух убитого
Овладев женой, разбойник уселся рядом с ней на землю и принялся ее всячески утешать. Рот у меня, разумеется, был заткнут. Сам я был привязан к стволу дерева. Но я все время делал жене знаки глазами: «Не верь ему! Все, что он говорит, — ложь», — вот что я хотел дать ей понять. Но жена, опечаленно сидя на опавших листьях, не поднимала глаз от своих колен. Право, можно было подумать, что она внимательно слушает слова разбойника. Я извивался от ревности. А разбойник искусно вел речь, добиваясь своей цели. Утратив чистоту, жить с мужем будет трудно. Чем оставаться с мужем, не лучше ли ей пойти в жены к нему, разбойнику? Ведь он решился на бесчинство именно потому, что она ему полюбилась... Вот до чего он дерзко договорился.
Слушая разбойника, жена наконец задумчиво подняла лицо. Никогда еще я не видел ее такой красивой! Но что же ответила моя красавица жена разбойнику, когда я был, связанный, рядом с ней? Теперь я блуждаю в небытии, но каждый раз, как я вспоминаю этот ее ответ, меня жжет негодование. Вот что сказала жена: «Ну, так ведите меня, куда хотите». (Долгое молчание.)
Но ее вина не только в этом. Из-за этого одного я, наверно, не мучился бы так, блуждая во мраке. Вот что произошло: жена, как во сне, последовала за разбойником, державшим ее за руку, и уже готова была выйти из рощи, как вдруг, смертельно побледнев, указала на меня, привязанного к дереву. «Убейте его! Я не могу быть с вами, пока он жив!..» — выкрикнула она несколько раз, как безумная. «Убейте его!» — эти слова и теперь, как ураган, уносят меня в бездну мрака. Разве хоть когда-нибудь такие мерзкие слова исходили из человеческих уст? Разве хоть когда-нибудь такие гнусные слова касались человеческого слуха? Разве хоть когда-нибудь... (Внезапный взрыв язвительного хохота.) Услыхав эти слова, даже разбойник побледнел. «Убейте его!» — кричала жена, цепляясь за его рукав. Пристально взглянув на нее, разбойник не ответил ни «да», ни «нет» и вдруг пинком
329
швырнул ее на опавшие листья. (Снова взрыв язвительного хохота.) Скрестив на груди руки, он обернулся ко мне. «Что сделать с этой женщиной? Убить или помиловать? Для ответа кивните головой». Убить? За одни эти слова я готов все ему простить. (Снова долгое молчание.)
Пока я колебался, жена вдруг вскрикнула и бросилась бежать в глубь чащи. Разбойник в тот же миг кинулся за ней, но, видимо, не успел схватить ее даже за рукав. Мне казалось, что я все это вижу в бреду.
Когда жена убежала, разбойник взял мой меч, лук и стрелы и в одном месте разреэал на мне веревку. Помню, как он пробормотал, скрываясь из рощи: «Теперь надо подумать и о себе».
Когда он ушел, всюду кругом стало тихо. Нет, не всюду, — рядом еще слышались чьи-то рыдания. Снимая с себя веревку, я внимательно прислушался. И что же? Я понял, что это рыдаю я сам. (Третий раз долгое молчание.)
Наконец я с трудом отделил свое измученное тело от ствола. Передо мной блестел кинжал, оброненный женой. Я поднял его и одним взмахом вонзил себе в грудь. Я почувствовал, как к горлу подкатил какой-то кровавый клубок, но ничего мучительного в этом не было. Когда грудь у меня похолодела, кругом стало еще тише. О, какая это была тишина! В этой горной роще не щебетала ни одна птица. Только на стволах криптомерии и бамбука горели печальные лучи закатного солнца. Закатного солнца... Но и они понемногу меркли. Уже не видно стало ни деревьев, ни бамбука. И меня, распростертого на земле, окутала глубокая тишина.
И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть, кто это. Но все кругом застлал сумрак. И кто-то... этот кто-то невидимой рукой тихо вынул кинжал у меня из груди. В тот же миг рот у меня опять наполнился хлынувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия.
Декабрь 1921 г,
Дело было на рассвете двадцать шестого декабря тридцать седьмого года Мэйдзи. Отряд «Белые нашивки» N-ского полка N-ской дивизии выступил с северного склона высоты 93 для штурма дополнительного форта на горе Суншушань.
Так как дорога тянулась под прикрытием горы, отряд в этот день шел в особом порядке, колонной по четыре. Безусловно,
330
когда ряды солдат с винтовками стали двигаться вперед по полутемной голой дороге и только белели в сумраке нашивки да раздавался тихий стук шагов, — это была трагическая картина. И действительно, заняв свое место во главе колонны, командир, капитан М., с этой минуты сделался необычно молчаливым, и лицо его приняло задумчивое выражение. Но солдаты, сверх ожидания, не потеряли своей обычной бодрости. Этому способствовали, во-первых, сила японского духа — «яматодамасйй» и, во-вторых, сила водки. Через некоторое время отряд вышел в каменистую речную долину, где с гор дул сильный ветер.
— Эй, погляди-ка назад! — обратился рядовой первого разряда Тагути, бывший торговец бумагой, к рядовому первого разряда Хорио той же роты, бывшему плотнику. — Смотри, все отдают нам честь!
Рядовой Хорио оглянулся. В самом деле, на гребне высившегося за ними черного холма, на фоне заалевшего неба, офицеры во главе с командиром полка на прощанье козыряли бойцам, идущим на смерть.
— Ну что? Здорово? Попасть в отряд «Белые нашивки» — большая честь!
— Какая там честь! — с горечью сказал рядовой Хорио, поправляя на плече винтовку. — Все мы идем на смерть. Вот они и говорят, что [за знак чести купим и убьем]. Дешево это стоит!
— Так нельзя. Так говорить — нехорошо перед [императором].
— Ну тебя к черту! Хорошо, нехорошо — чего там! За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут.
Рядовой Тагути промолчал; он привык к повадкам приятеля, которому стоило подвыпить, чтобы сразу же начать свои циничные шуточки. Но рядовой Хорио упрямо продолжал:
— Нет, за козырянье ничего не купишь. Вот они и напевают на все лады, дескать ради государства, ради императора. Только все это враки. Что, брат, разве не верно?
Тот, к кому обратился рядовой Хорио, был тихий ефрейтор Эги из той же роты, бывший учитель начальной школы. Однако на этот раз тихий ефрейтор почему-то сразу вспылил и, казалось, готов был полезть в драку. Он злобно бросил прямо в лицо подвыпившему Хорио:
— Дурак! Идти на смерть — наш долг!
В это время отряд «Белые нашивки» уже подымался по противоположному склону речной долины. Там безмолвно встречали зарю шесть-семь фанз, обмазанных засохшей грязью, а над их крышами громоздилась холодная темно-бурая гора Суншушань с будто выписанными на ней зеленоватыми складками. Пройдя де-
331
ревню, колонна рассыпалась. Солдаты в полном снаряжении стали карабкаться по тропинкам и ползком медленно приближались к позициям противника.
Разумеется, вместе с другими ползком продвигался вперед и ефрейтор Эги. «За козырянье тебе в солдатской лавочке водки небось не дадут» — эти слова рядового Хорио не шли у него из головы. Однако по натуре неразговорчивый, он держал свои мысли при себе. Но с тем большей силой эти слова раздражали его и в то же время вызывали боль, точно бередили старую рану. Продвигаясь ползком, как зверь, по подмерзшей тропинке, он думал о войне, думал о смерти. Однако в этих мыслях не было ни луча света. Даже если смерть [ради императора]... все равно она проклятое чудовище. Война... он почти не считал войну преступлением. Преступление, поскольку источник его, в отличие от войны, в страстях отдельных личностей, в известной мере можно [понять]. Но [война — служба императору], и больше ничего. А он — да не только он, две с лишним тысячи человек из разных дивизий, сведенные в отряд «Белые нашивки», волей-неволей должны умереть на этой великой [службе].
— Пришли! Пришли! Ты из какого полка?
Ефрейтор Эги огляделся по сторонам. Отряд добрался до сборного пункта у подножья Суншушань. Здесь уже толпились солдаты из разных дивизий в мундирах цвета хаки, украшенных старомодными нашивками.
Его окликнул один из них — тот, что сидел на камне под бледным солнцем и выдавливал угорь на щеке.
— N-ского полка.
— Тепленькое местечко!
Ефрейтор Эги не ответил на шутку, лицо его было мрачно.
Несколько часов спустя над позициями пехоты со страшным ревом проносились снаряды — и свои и вражеские. На склоне горы Суншушань, высившейся прямо перед глазами, наша морская артиллерия из Ляцзятунь тоже взрывала тучи желтой пыли. Каждый раз, когда вздымалась такая туча пыли, в воздухе сверкала лиловая вспышка, и при дневном свете это было особенно страшно. Однако, выжидая удобный момент, двухтысячный отряд «Белые нашивки» не терял обычной бодрости. В самом деле, чтобы не быть раздавленными страхом, им только и оставалось держаться как можно веселей.
— Чертовски палят!
Рядовой Хорио взглянул на небо. В эту секунду протяжный вой вновь разодрал воздух прямо над его головой. Хорио невольно втянул голову в плечи и обратился к рядовому Тагути, который прикрыл нос платком, чтобы защититься от тучи пыли и песку.
332
— Это двадцативосьмисантиметровый.
Рядовой Тагути изобразил улыбку. И тихонько, чтобы не заметил Хорио, спрятал платок в карман. Это был вышитый по краям платочек, подаренный ему приятельницей-гейшей, когда он уезжал на фронт.
— У него другой звук, у двадцативосьмисантиметрового, — сказал Тагути и вдруг растерянно выпрямился. В то же время и другие солдаты один за другим, как будто по неслышной команде, стали вытягиваться в струнку: в сопровождении нескольких штаб-офицеров к ним величественно подходил командующий армией генерал Н.
— Тише! Тише!
Окидывая взглядом позиции, генерал заговорил хорошо поставленным голосом:
— Здесь тесно, можете не выстраиваться. Из какого вы полка, отряд «Белые нашивки»?
Рядовой Тагути почувствовал, что взгляд генерала устремлен прямо на его лицо. Этого было достаточно, чтобы он смутился, словно девушка.
— N-ский пехотный полк.
— Вот как? Ну, действуй смело! — Генерал пожал ему руку. Потом перевел взгляд на рядового Хорио и опять, протягивая правую руку, повторил то же самое: — И ты действуй смело!
Когда генерал обратился к нему, рядовой Хорио вытянулся и замер, как будто все мускулы у него окаменели. Широкие плечи, большие руки, обветренное лицо с выступающими скулами — все эти его черты, по крайней мере, в глазах старого генерала, складывались в облик образцового воина империи. Остановившись перед ним, генерал с жаром продолжал:
— Вон там форт, и из этого форта сейчас стреляют. Сегодня ночью вы его возьмете. А резервы за вами вслед приберут к рукам все остальные форты в окрестности. Значит, вы должны быть готовы броситься на этот форт... — В голосе генерала зазвучал несколько театральный пафос. — Поняли? Конечно, по пути ни в коем случае не останавливаться, не стрелять. Налететь стремглав, как будто ваши тела — снаряды. Прошу вас, действуйте решительно!
Генерал пожал руку рядовому Хорио, как будто в этом пожатии хотел передать всю значимость слова «решительно». И пошел дальше.
— Веселого мало...
Проводив взглядом генерала, рядовой Хорио хитро подмигнул рядовому Тагути.
— Такой дед руку пожал!
333
Рядовой Тагути криво усмехнулся. При виде этой улыбки у рядового Хорйо почему-то появилось ощущение какой-то неловкости. И в то же время эта кривая улыбка показалась ему отвратительной. Тут в разговор вмешался ефрейтор Эги: Щ
— Ну как, за рукопожатие [купить] удалось? На этот раз криво усмехнулся рядовой Хорио.
— Нехорошо, нехорошо. Нечего передразнивать.
— Как подумаешь, что [тебя купили], зло берет! Я и сам готов отдать свою жизнь.
В ответ на слова ефрейтора Эги заговорил Тагути:
— Да, все мы готовы отдать жизнь за родину.
— За что, не знаю, знаю только, что готов отдать. Подумай, [если на тебя направит револьвер разбойник], все готов отдать.
Брови ефрейтора Эги угрюмо сдвинулись.
— Именно так я и думаю. Если разбойники отберут у тебя деньги, вряд ли они скажут, [что и жизни лишат]. А для нас одна дорога — смерть... Но если все равно умирать, так не лучше ли умереть достойно?
Пока Тагути говорил, в глазах еще не совсем протрезвевшего рядового Хорио появилось выражение презрения к своему добродушному товарищу. «Отдать жизнь — только и всего?» — размышлял он, задумчиво глядя в небо. И решил в отплату за рукопожатие генерала этой ночью стать, как и все, живым снарядом...
Вечером, после восьми часов, ефрейтор Эги, в которого попала ручная граната, уже лежал дочерна обугленный на склоне горы Суншушань. Пробравшись через колючую проволоку, к нему, что-то отрывисто выкрикивая, подбежал солдат из отряда «Белые нашивки». Увидев труп товарища, солдат поставил ему на грудь ногу и вдруг громко захохотал. Этот хохот в свирепом треске ружейного огня прозвучал жутко.
— Банзай! Да здравствует Япония! Черти сдаются! Противник разбит! Да здравствует N-ский полк! Банзай! Банзай!
Он кричал и кричал, потрясая винтовкой, и не обратил внимания даже на взрыв ручной гранаты, расколовшей мрак перед его глазами. При свете взрыва обнаружилось, что это рядовой Хорио, который в разгар атаки, раненный в голову, видимо, сошел с ума.
Утром пятого марта тридцать восьмого года Мэйдзи в штабе А-ской кавалерийской бригады, расквартированной в Цюаныпэн-чжу, в полутемном помещении штаба шел допрос двух китайцев. Их только что задержал по подозрению в шпионаже и препроводил в штаб часовой временно приданного бригаде N-ского полка.
334
В низенькой фанзе, конечно, и в этот день каны разливали легкую теплоту. Но унылая атмосфера войны чувствовалась во всем — и в звоне шпор, задевавших за кирпичный пол, и в цвете брошенных на стол шинелей. К пыльной белой стене с наклеенными полосками красной бумаги была аккуратно прикреплена кнопками фотография гейши в европейской прическе, это было и смешно и трагично.
Китайцев допрашивали офицер из штаба бригады, адъютант и переводчик. На все вопросы китайцы давали ясные ответы. Мало того, один из них, видимо старший, с маленькой бородкой, пускался в объяснения раньше, чем переводчик успевал задать вопрос. Но его ответы самой ясностью своей вызывали у штабного офицера чувство внутреннего протеста, еще большее желание видеть в них шпионов.
— Эй, солдат, — гнусаво позвал штабной офицер стоявшего у дверей часового, который задержал китайцев. Солдат этот был не кто иной, как рядовой Тагути из отряда «Белые нашивки». Стоя спиной к решетчатой двери, он рассматривал карточку гейши и, испуганный окриком штабного офицера, гаркнул во все горло:
— Слушаюсь!
— Это ты их поймал? Когда это произошло? Добродушный Тагути заговорил, как будто читая по писаному:
— Я стоял на посту на северной окраине деревни, у дороги на Мукден. Тогда командир роты на дереве...
— Что? Командир роты на дереве?.. — Штабной офицер приподнял веки.
— Так точно. Командир роты взобрался на дерево для наблюдения. Командир роты приказал мне: взять их! Но когда я хотел их задержать, вот этот... так точно, этот безбородый сразу же обратился в бегство...
— И все?
— Так точно. Все.
— Хорошо.
Штабной офицер с выражением некоторого разочарования на багровом жирном лице сообщил переводчику содержание следующего вопроса. Переводчик заговорил намеренно энергично, чтобы никто не заметил, как ему скучно:
— Если ты не шпион, зачем же ты бежал?
— Как же не бежать? Ведь японский солдат чуть не набросился на меня, — нисколько не робея, ответил второй китаец со свинцово-серой кожей, должно быть, курильщик опиума.
— Но ведь вы шли по дороге в полосе военных действий?
335
Человеку мирному ходить здесь незачем... — сказал адъютант, умевший говорить по-китайски, и бросил на бескровное лицо китайца злобный взгляд.
— Нет, есть зачем. Как мы только что говорили, мы шли в Синмынтунь разменять бумажные деньги. Вот они, посмотрите.
Бородатый китаец спокойно обвел взглядом лица офицеров. Штабной офицер фыркнул, в глубине души ему было приятно, что адъютант получил отпор.
— Разменять деньги? Рискуя жизнью? — не желая сдаваться, сухо усмехнулся адъютант. — Во всяком случае, пусть разденутся догола.
Переводчик перевел приказание, и китайцы, опять без всякого страха, быстро разделись.
— На нем остался набрюшник? Давай-ка его сюда.
Беря в руки набрюшник, переводчик почувствовал, что белое полотно еще пропитано теплом тела, и это вызвало у него ощущение какой-то грязи. В набрюшнике торчали три толстые булавки, длиной в три сун. Офицер долго разглядывал эти булавки при свете, падавшем из окна. Однако, за исключением узора из сливовых цветов на плоских головках, на них не было ничего необычного.
— Что это такое?
— Я лечу уколами, — не смущаясь, спокойно ответил бородатый.
— Снимите башмаки.
Китайцы следили за ходом обыска почти бесстрастно, даже не прикрывая то, что всегда прикрывают. Не говоря уже о штанах и куртке, ни в башмаках, ни в носках не нашлось ничего уличающего. Оставалось только распороть башмаки. С этой мыслью адъютант хотел было обратиться к штабному офицеру.
Но в эту минуту из соседней комнаты внезапно вошел командующий армией в сопровождении командира и офицеров из штаба армии. Генерал как раз посетил командира бригады, чтобы о чем-то договориться с адъютантами и штабом.
— Русские шпионы?
Задав этот вопрос, генерал остановился перед китайцами и окинул их острым взглядом. (Впоследствии некий американец как-то раз беззастенчиво сказал, что в глазах знаменитого генерала было что-то маниакальное. В этих маниакальных глазах, особенно в таких случаях, появлялся зловещий блеск.)
Штабной офицер коротко доложил генералу обстоятельства дела. Генерал время от времени кивал, словно что-то припоминая.
— Остается только избить их, чтобы заставить признаться, — сказал штабной офицер.
336
Тогда генерал показал рукой, в которой он держал карту, на лежавшие на полу башмаки китайцев.
— Распорите-ка башмаки!
У башмаков отпороли и отвернули подошвы. Оттуда вдруг посыпались на пол вшитые внутрь пять-шесть карт и секретные документы. При виде этого оба китайца изменились в лице. Однако все так же молча, упрямо смотрели на пол.
— Я так и думал! — самодовольно улыбнулся генерал, оборачиваясь к командиру бригады. — Башмаки всегда подозрительны. Пусть одеваются. Ну, таких шпионов мне еще видеть не случалось!
— Я поражен проницательностью его превосходительства! — с любезной улыбкой произнес адъютант, передавая командиру бригады доказательства шпионажа. Он словно позабыл, что еще до генерала сам обратил внимание на башмаки.
— Но раз ничего не нашли, даже раздев их догола, значит, могло быть только в башмаках. — Генерал все еще был в превосходном настроении. — Я сейчас же заподозрил, что в башмаках.
Командир бригады тоже был оживлен.
— Право, — сказал он, — местному населению грош цена: когда мы пришли, они вывесили японский флаг, а когда стали делать обыски по домам, оказалось, что у них припрятаны и русские флаги.
— В общем, пройдохи!
— Именно! Стреляные воробьи!
Пока шел этот разговор, штабной офицер с переводчиком продолжали допрашивать китайцев. Вдруг, обратив к рядовому Тагути раздраженное лицо, офицер словно выплюнул приказание:
— Эй, солдат! Ты шпионов поймал, так ты их и прикончи.
Двадцать минут спустя на краю дороги, к югу от деревни, сидели у ствола засохшей ивы оба китайца, связанные друг с другом за косы. Рядовой Тагути примкнул штык и прежде всего развязал им косы. Потом, взяв винтовку на руку, встал за спиной пожилого китайца. Однако, прежде чем его убить, он хотел, по крайней мере, предупредить, что убивает.
— Нии...1 — начал он, но как будет «убивать» по-китайеки, не знал.
— Нии, сейчас убью!
Оба китайца, точно сговорившись, разом оглянулись, но, не обнаруживая никакого страха, стали кланяться в разные стороны. «Прощаются с родиной», — готовясь к удару штыком, объ-
1 Ты (китайск.).
337
яснил себе эти поклоны рядовой Тагути. Окончив поклоны, они, как будто ко всему готовые, спокойно вытянули шеи. Рядовой Тагути занес винтовку. Но они были так покорны, что у него рука не подымалась всадить в них штыки.
— Нин, сейчас убью! — невольно повторил он.
В это время со стороны деревни показался кавалерист.
— Эй, солдат!
Когда он подъехал ближе, оказалось, что это фельдфебель. Увидев китайцев, он придержал лошадь и надменно обратился к
Тагути:
— Русские шпионы? Очевидно, они. Дай-ка мне зарубить одного.
Рядовой Тагути криво усмехнулся.
— Хоть обоих.
— Ну? Это щедро!
Фельдфебель легко спешился. Потом зашел за спину китайца и вынул висевший на боку японский меч. В это время со стороны деревни снова раздался дробный стук копыт, и подскакали три офицера. Не обращая на них внимания, фельдфебель занес меч. Но прежде чем он его опустил, три офицера медленно поравнялись с ним. Командующий армией! Фельдфебель и рядовой Тагути повернулись лицом к ехавшему верхом генералу и отдали честь.
— Русские шпионы!
В глазах генерала на миг сверкнуло безумие маньяка.
— Руби! Руби!
Фельдфебель взмахнул мечом и одним ударом зарубил молодого китайца. Голова, подпрыгивая, покатилась по корням ивы. Кровь большим пятном растеклась по желтоватой земле.
— Так! Великолепно!
Генерал с довольным видом кивнул и тронул коня.
Проводив генерала взглядом, фельдфебель с окровавленным мечом стал позади второго китайца. По всему было видно, что резня доставляет ему еще больше удовольствия, чем генералу.
«Этих... и я бы мог убить», — подумал рядовой Тагути, присаживаясь у ствола сухой ивы. Фельдфебель опять занес меч. Бородатый китаец молча вытянул шею, не дрогнув ресницами...
Один из сопровождавших генерала штабных офицеров, подполковник Ходауми, сидя в седле, смотрел на холодную весеннюю равнину. Но глаза его не видели ни далеких высохших рощ, ни поваленных на краю дороги каменных плит; в голове у него все время авучали слова некогда любимого писателя Стендаля:
«Когда я смотрю на увешанного орденами человека, я не могу не думать о том, какие жестокости пришлось ему совершить, чтобы добыть эти ордена».
338
Опомнившись» он заметил, что сильно отстал от генерала. Слегка вздрогнув, он пришпорил лошадь. В бледных лучах только что выглянувшего солнца сверкнуло золото позументов.
Четвертого мая тридцать восьмого года Мэйдзи в штабе армии, расположенном в Ацзинюбао, после утреннего богослужения в память павших воинов решено было устроить спектакль. Под зал заняли обычный в китайских деревнях деревенский театр под открытым небом, перед наскоро сколоченной сценой повесили занавес, тем дело и ограничилось. А на циновках задолго до назначенного часа уселись солдаты. Эти солдаты в грязноватых мундирах цвета хаки, со штыками, болтающимися у пояса, были жалкими зрителями, настолько жалкими, что даже называть их зрителями казалось насмешкой. Но оттого радостные улыбки, сиявшие на их лицах, казались еще трогательнее.
Офицеры штаба армии во главе с генералом, этапная инспекция и прикомандированные к армии иностранные офицеры сидели в ряд на стульях позади, на возвышении. Хотя бы из-за одних штабных погон и адъютантских аксельбантов этот ряд выглядел куда более блестящим, чем солдатские ряды. Больше, чем сам командующий армией, способствовал этому блеску любой иностранный офицер, будь он хоть последним дураком.
Генерал и в этот день был в превосходном настроении. Беседуя с одним из адъютантов, он время от времени заглядывал в программу, и в глазах его все время, как солнечный свет, теплилась приветливая улыбка.
Наконец наступил назначенный час. За искусно раскрашенным занавесом, на котором были изображены цветущие впиши и восходящее солнце, несколько раз глухо ударили в колотушки. И сейчас же рука поручика-распорядителя отдернула занавес.
Сцена изображала комнату в японском доме. Сложенные в углу мешки с рисом давали понять, что это рисовая лавка. В комнату вошел хозяин лавки в переднике, хлопнул в ладоши, крик-пул: «Эй, о-Набэ! Эй, о-Набэ!» — и на зов явилась служанка, ростом выше, чем он сам, в прическе итёгаэси. Потом — потом сразу же началось действие пьесы, содержание которой не стоит и рассказывать.
Каждый раз, когда кто-нибудь из актеров отпускал грубую шутку, в рядах зрителей, сидевших на циновках, подымался хохот. Даже офицеры, сидевшие позади, и те почти все улыбались. Исполнители, видимо, подзадориваемые хохотом, громоздили одну комическую выходку на другую. В конце концов хозяин в фун-
339
доси принялся бороться со служанкой, на которой была набедренная повязка.
Хохот усилился. Один капитан из этапной инспекции чуть не зааплодировал при виде этой сцены. И вот в эту самую минуту вдруг громкий гневный голос разнесся над заливавшимися хохотом людьми, как свист бича.
— Безобразие! Дать занавес! Занавес!
Голос принадлежал генералу. Положив руки в перчатках на толстую рукоятку сабли, он грозно смотрел на сцену.
Поручик-распорядитель, согласно приказу, поспешно задернул занавес перед носом ошеломленных актеров. Зрители на циновках замерли; не считая легкого шороха, все стихло.
Иностранным чинам и сидевшему рядом с ними подполковнику Ходзуми было жаль, что веселье прекратилось. Представление, конечно, не вызвало у подполковника даже улыбки. Однако он был человек с широкими взглядами и мог сочувствовать зрителям. И, кроме того, пробыв несколько лет в Европе, он слишком хорошо знал иностранцев, чтобы задумываться над тем, можно ли показывать иностранным чинам голых борцов.
— Что случилось? — удивленно обратился к подполковнику Ходзуми французский офицер.
— Генерал приказал прекратить.
— Почему?
— Вульгарно... Генерал не любит вульгарности.
Тем временем на сцене снова раздался стук колотушек. Затихшие солдаты оживились, кое-где послышались аплодисменты. Подполковник Ходзуми облегченно вздохнул и огляделся кругом. Офицеры, сидевшие рядом с ним, видимо, чувствовали себя неловко, некоторые то смотрели на сцену, то отворачивались, и только один, по-прежнему положив руки на шашку, не отрывал пристального взгляда от сцены, где уже поднимали занавес.
Следующая пьеса, в противоположность предыдущей, была старинная сентиментальная драма. На сцене, кроме ширм, стоял только зажженный фонарь. Молодая женщина с широкими скулами и горожанин с кривой шеей пили сакэ. Женщина время от времени пронзительным голосом обращалась к горожанину, называя его «молодой барин». Затем... подполковник Ходзуми, не глядя на сцену, погрузился в воспоминания. В театре Рюсэйдза, облокотись на барьер балкона, стоит мальчик лет двенадцати. На сцене свесившиеся ветви цветущей вишни. Декорация освещенного города. Посреди них, с плетеной шляпой в руке, красуется знаменитый Бандзаэмон в роли японского пирата. Мальчик, затаив дыхание, впивается взглядом в сцепу. И у него была такая пора...
340
— Дрянь спектакль1 Когда ж дадут занавес! Занавес! Занавес!
Голос генерала, как взрыв бомбы, прервал воспоминания подполковника. Подполковник опять взглянул на сцену. По ней уже бежал растерявшийся поручик, на бегу задергивая занавес. Подполковник успел заметить, что на ширме висят пояса мужчины и женщины.
Губы подполковника невольно искривились горькой улыбкой. «Распорядитель чересчур несообразителен! Уж если генерал запретил борьбу между женщиной и мужчиной, так неужели он станет спокойно смотреть на любовную сцену?» С этой мыслью подполковник покосился туда, откуда слышался громкий негодующий голос: генерал все еще раздраженно говорил с устроителем.
В эту минуту подполковник вдруг услышал, как злой на язык американский офицер заметил сидевшему рядом французскому офицеру:
— Генералу Н. нелегко: он и командующий армией, он и цензор.
Третья пьеса началась минут через десять. На этот раз, даже когда застучали колотушки, солдаты уже не хлопали. «Жаль! Даже спектакль смотрят под надзором!» Подполковник Ходзу-ми сочувственно глядел на толпу в хаки, не смевшую даже разговаривать в полный голос.
В третьей пьесе на сцене на фоне черного занавеса стояли две-три ивы. Это были настоящие живые зеленые ивы, где-то недавно срубленные. Бородатый мужчина, видимо пристав, распекал молодого полицейского. Подполковник Ходзуми в недоумении взглянул на программу. Там значилось: «Разбойник с пистолетом Симидзу Садакити, сцена поимки на берегу реки».
Когда пристав ушел, молодой полицейский воздел очи горе и прочел длинный жалобный монолог. В общем, смысл его слов, при всей их пространности, сводился к тому, что он долгое время преследовал «разбойника с пистолетом», но поймать не мог. Затем он как будто увидел его и, чтобы остаться незамеченным, решил спрятаться в реке, для чего заполз головой вперед за черный занавес. На самый снисходительный взгляд было больше похоже, что он залезает под москитную сетку, чем ныряет в воду.
Некоторое время сцена оставалась пустой, только раздавался стук барабана, видимо изображавший шум волн. Вдруг сбоку на сцену вышел слепой. Тыкая перед собой палкой, он хотел было идти дальше, как неожиданно из-за черного занавеса выскочил полицейский. «Разбойник с пистолетом, Симидзу Садакити, дело есть!» — крикнул он и подскочил к слепому. Тот мгновенно приготовился к драке. И широко раскрыл глаза.
341
«Глаза-то у него, к сожалению, слишком маленькие!» — по-детски улыбаясь, заметил про себя подполковник.
На сцене началась схватка. У разбойника с пистолетом, в соответствии с прозвищем, действительно, имелся наготове пистолет. Два выстрела... три выстрела... Пистолет стрелял раз за разом подряд. Но полицейский в конце концов храбро связал мнимого слепого.
Солдаты, как и следовало ожидать, зашевелились. Однако из их рядов по-прежнему не послышалось ни слова.
Подполковник покосился на генерала. Генерал на этот раз внимательно смотрел на сцену. Но выражение его лица было куда мягче, чем раньше.
Тут на сцену выбежали начальник полиции и его подчиненные. Но полицейский, раненный пулей в борьбе с мнимым слепым, упал замертво. Начальник полиции сейчас же принялся приводить его в чувство, а тем временем подчиненные приготовились увести связанного разбойника с пистолетом. Потом между начальником полиции и полицейским началась трогательная сцена в духе старых трагедий. Начальник, словно какой-нибудь знаменитый правитель старых времен, спросил, не хочет ли раненый сказать что-нибудь перед смертью. Полицейский сказал, что на родине у него есть мать. Начальник полиции сказал, что о матери ему тревожиться нечего. Не осталось ли у него перед кончиной еще чего-нибудь на сердце? Полицейский ответил, что нет, сказать ему нечего, он поймал разбойника с пистолетом и ничего больше не желает.
В этот миг в затихшем зрительном зале в третий раз прозвучал голос генерала. Но теперь это было не ругательство, а глубоко взволнованное восклицание:
— Молодчина! Настоящий японский молодец!
Подполковник Ходзуми еще раз украдкой взглянул на генерала. На его загорелых щеках блестели следы слез. «Генерал — хороший человек!» — с легким презрением и в то же время доброжелательно подумал подполковник.
В это время занавес медленно закрылся под гром аплодисментов. Воспользовавшись этим, подполковник Ходзуми встал и вышел из зала.
Полчаса спустя подполковник, покуривая папиросу, гулял с одним аз своих сослуживцев, майором Накамура, по пустырю на окраине деревни.
— Спектакль имел большой успех. Его превосходительство Н. очень доволен, — сказал майор Накамура, покручивая кончики своих «кайзеровских» усов.
— Спектакль? А, «Разбойник с пистолетом»?
342
— Не только «Разбойник с пистолетом». Его превосходительство вызвал распорядителя и приказал экстренно сыграть еще одну пьесу. Вернее, отрывок из пьесы об Акагаки Гэндзо. Как она называется, эта сцена? «Токури-но вакарэ»?
Подполковник Ходзуми, улыбаясь глазами, смотрел на широкие поля. Над уже зазеленевшей землей расстилалась легкая дымка.
— Она тоже имела большой успех, — продолжал майор Нака-мура. — Говорят, его превосходительство поручил распорядителю спектакля сегодня в семь часов устроить что-нибудь вроде эстрадного вечера.
— Эстрадный вечер? С рассказчиком смешных историй, что ли?
— Нет, какое там! Будут рассказывать сказания. Кажется, «Как князь Мито ходил по стране».
Подполковник Ходзуми криво усмехнулся. Но собеседник, не обратив на это внимания, веселым тоном продолжал:
— Его превосходительство, говорят, любит князя Мито. Он сказал: «Я, как верноподданный, больше всего чту князя Мито и Като Киёмаса».
Подполковник Ходзуми, не отвечая, посмотрел наверх. В небе, между ветвями ив, плыли тонкие слюдяные облачка. Подполковник глубоко вздохнул.
— Весна, хоть и в Маньчжурии!
— А в Японии уже ходят в летнем.
Майор Накамура подумал о Токио. О жене, умеющей вкусно готовить. О детях, посещающих начальную школу. И... чуть-чуть затосковал,
— Вон цветут абрикосы!
Подполковник Ходзуми радостно показал на купы розовых цветов далеко за насыпью. «Ecoute moi, Madeleine»1 — неожиданно пришли ему на память стихи Гюго.
4. отец и сын
Однажды поздно вечером в октябре седьмого года Тайсё генерал-майор Накамура, в свое время штабной офицер майор Накамура, в своей обставленной по-европейски гостиной задумчиво сидел в кресле с дымящейся сигарой в зубах.
Двадцать с липшим лет праздности превратили его в милого старичка. А в этот вечер, может быть, благодаря японскому костюму, в его облысевшем лбу, в припухлых очертаниях рта чувст-
1 Послушай меня, Мадлен (франц.).
343
вовалось что-то особенно добродушное. Откинувшись на спинку кресла, он медленно обвел взглядом комнату и вдруг вздохнул.
Стены были увешаны фотографиями, по-видимому, репродукциями европейских картин. На одной из них была изображена грустная девушка, прильнувшая к окну. На другой — пейзаж: кипарисы, сквозь которые виднелось солнце. В электрическом свете фотографии придавали старомодной гостиной несколько холодный, чопорный вид, однако генерал-майору все это, кажется, не нравилось.
Некоторое время царила тишина, затем генерал-майор вдруг услыхал легкий стук в дверь.
— Войдите!
В ответ на эти слова в гостиную вошел высокий юноша в студенческой форме. Остановившись перед генерал-майором, он протянул руку к стулу и грубовато спросил:
— Что-нибудь нужно, отец?
— Да. Садись! Юноша послушно сел.
— В чем дело?
Генерал-майор вопросительно взглянул на золотые пуговицы сына.
— А сегодня?..
— Сегодня было собрание в память Каваи — отец, вероятно, не знает, это студент филологического факультета, как и я. Так вот, я только что оттуда вернулся.
Генерал-майор кивнул и выдохнул густой дым гаваны. Затем он несколько торжественно приступил к сути разговора:
— Вот картипы на стенах, это ты их переменил?
— Да, я не успел сказать, я переменил их сегодня утром. А разве плохо?
— Не то что плохо. Не плохо, но мне хотелось бы, чтобы ты оставил хоть фотографию его превосходительства Н.
— Рядом с этими? Юноша невольно улыбнулся.
— А разве рядом с этими ее повесить нельзя?
— Не то что нельзя, но это будет смешно.
— Ведь здесь есть портреты! — Генерал-майор указал на стену над камином. Со стены из рамы на генерал-майора спокойно взирал пятидесятилетний Рембрандт.
— Это дело другое. Это нельзя повесить рядом с генералом Н.
— Вот как! Ну, значит, ничего не поделаешь. Генерал-майор легко уступил сыну. Однако, опять выдохнув
сигарный дым, тихо продолжал:344
— Что ты... или, вернее, твои сверстники, что вы думаете о его превосходительстве?
— Да ничего не думаем. Вероятно, был замечательный солдат.
В старческих глазах отца юноша заметил легкое опьянение от вечерней рюмки сакэ.
— Конечно, замечательный солдат, а кроме того, он был поистине отечески добросердечный человек.
И генерал-майор начал сентиментально рассказывать случай из жизни генерала. Это было после японо-русской войны, когда он навестил генерала в его вилле на равнине Насу. Когда он приехал туда, сторож сказал ему, что генерал с женой только что пошли гулять в горы. Генерал-майор знал дорогу и сейчас же отправился вслед за ними. Пройдя два-три те, он увидел генерала в простом кимоно; генерал стоял с женой. Генерал-майор немного постоял, поговорил со стариками. Генерал все никак не трогался с места. Когда генерал-майор спросил: «У вас тут какое-нибудь дело?» — генерал рассмеялся. «Видите ли, жена сказала, что ей хочется в уборную, так вот школьники, гулявшие с нами, побежали искать ей место, а мы их тут ждем...» В то время у дороги, помню, еще валялись каштаны... — Генерал-майор сощурил глаза и весело улыбнулся. Тут из пожелтевшего леса выбежали веселые школьники. Не обращая внимания на генерал-майора, они окружили генерала с женой и наперебой стали рассказывать о местах, которые они для нее нашли. Началось невинное соперничество — каждый хотел, чтобы она пошла с ним. «Ну, бросим жребий!» — сказал генерал и опять обратил к генерал-майору свое смеющееся лицо...
Юноша тоже не мог не засмеяться...
— Рассказ невинный. Но не для слуха европейцев!
— Вот какой тон был заведен! И поэтому стоило в разговоре с двенадцатилетним школьником сказать: «Его превосходительство Н.», как оказывалось, что мальчик относится к нему с любовью, как к родному дяде. Нет, его превосходительство вовсе не был просто солдат, как вы это думаете.
Окончив приятный разговор, генерал-майор опять взглянул на Рембрандта над камином.
— Это тоже замечательный человек?
— Да, великий художник.
— А его превосходительство Н.? Лицо юноши выразило замешательство.
— Мне трудно выразить... Этот человек мне ближе по духу, чем генерал Н.
— А его превосходительство для вас далек?
345
— Как бы это сказать? Например, такая вещь. Вот Каваи, в память которого было сегодняшнее собрание. Он тоже покончил с собой. Но перед самоубийством... — юноша серьезно посмотрел на отца, — ему было не до того, чтобы сниматься.
На этот раз замешательство мелькнуло в добродушных глазах генерал-майора.
— А не лучше ли было бы сняться? На память о себе?
— На память кому?
— Не кому-нибудь, а... Да разве хотя бы нам не хочется иметь возможность видеть лицо его превосходительства Н. в его последние минуты?
— Мне кажется, что об этом, по крайней мере, сам генерал Н. не должен был бы думать. С какими чувствами генерал совершил самоубийство, это я, кажется, до известной степени могу понять. Но что он снялся — этого я не понимаю. Вряд ли для того, чтобы после его смерти фотографии украшали витрины...
Генерал-майор гневно перебил юношу:
— Это возмутительно! Его превосходительство не обыватель. Он до глубины души искренний человек.
Но и лицо и голос юноши были по-прежнему спокойны.
— Разумеется, он не обыватель. Я могу представить и то, что он искренен. Но только такая искренность нам не вполне понятна. И я не могу поверить, чтобы она была понятна людям, которые будут жить после нас.
Между отцом и сыном на некоторое время водворилось тягостное молчание.
— Времена другие! — проговорил наконец генерал.
— Да-а... — только и сказал юноша. Глаза его приняли такое выражение, словно он прислушивается к тому, что делается за окном.
— Дождь идет, отец.
— Дождь?
Генерал-майор вытянул ноги и с радостью переменил тему, — Как бы айва опять не осыпалась!
Декабрь 1921 в.
В весенний вечер padre Organtino в одиночестве, волоча длинные полы сутаны, прогуливался в саду храма Намбандзи.
В саду между соснами и кипарисовиками были досажены розы, оливы, лавр и другие европейские растения. От распускаю-
346
щихся роз в слабом лунном свете, струившемся между деревьями, растекался сладковатый аромат. Это придавало тишине сада какое-то совсем не японское странное очарование.
Одиноко прохаживаясь по дорожкам, усыпанным красным песком, Органтино углубился в воспоминания. Главный храм в Риме, гавань Лиссабона, звуки рабэйки, вкус миндаля, псалом «Господь, зерцало нашей души» — такие воспоминания вызывали в душе этого рыжеватого монаха тоску по родине. Чтобы разогнать тоску, он стал призывать имя дэусу. Но тоска не проходила, мало того, чувство угнетенности становилось все тяжелее.
«В этой стране природа красива, — напоминал себе Органтино. — В этой стране природа красива. Климат здесь мягкий. Жители... но не лучше ли негры, чем эти широколицые коротышки? Однако и в их нраве есть что-то располагающее. Да и верующих в последнее время набралось десятки тысяч. Даже в этой столице теперь возвышается такой дивный храм. Выходит, что жить здесь пусть и не совсем приятно, но и не так уж неприятно? Однако я то и дело впадаю в уныние. Мне хочется вернуться в Лиссабон, мне хочется отсюда уехать. Только ли из-за тоски по родине? Нет, не только в Лиссабон, — если б я имел возможность покинуть эту страну, я поехал бы куда угодно: в Китай, в Сиам, в Индию... Значит, не только тоска по родине причина моего уныния. Мне хочется одного — как можно скорее бежать отсюда... Но... но в этой стране природа красива. И климат мягкий...»
Органтино вздохнул. В это время его взгляд упал на видневшийся между деревьями мох. И он поднял белевший среди мха цветок сакуры. Сакура! Органтино почти с испугом всматривался в полутемные просветы между деревьями. Там между несколькими вееролистными пальмами как туман белели цветы плакучей сакуры.
— Храни нас господи!
Органтино готов был защитить себя крестным знамением. На мгновение цветущая в сумерках плакучая сакура показалась его глазам жуткой. Жуткой... нет, скорее эта сакура встревожила его, как будто перед ним предстала сама Япония. Но он тут же понял, что в этом нет ничего странного, что это обыкновенная вишня, и, пристыженно усмехнувшись, усталой походкой тихонько побрел по тропинке.
* * *
Через полчаса он в главном приделе храма Намбандзи возносил молитвы дэусу. Там было пусто, только с купола свешивалось паникадило. При свете паникадила на стенной фреске святой Михаил и дьявол сражались из-за трупа Моисея. Но не только
347
величавый архангел, а и рассвирепевший дьявол в этот вечер» может быть, из-за тусклого света, казались красивее, чем обычно. А. может быть, так казалось из-за струившегося аромата свежих роз и ракитника. Стоя за алтарем на коленях со склоненной головой, Органтино горячо молился:
«Милосердный, всемилостивый боже! С тех пор как я покинул Лиссабон, вся моя жизнь посвящена тебе. С какими бы трудностями я ни встречался, я неуклонно шел вперед ради того, чтобы воссиял святой крест. Конечно, это удалось не только благодаря одним моим усилиям. Все совершается милостью всевышнего, твоей милостью. Но, живя здесь, в Японии, я понемногу стал понимать, как тяжела моя миссия. В этой стране, и в горах ее, и в лесах, и в городах, где рядами стоят дома, — везде сокрыта какая-то стра иная сила. И она исподволь противится моей миссии. Если бы не это, я не впадал бы в беспричинное уныние. А что это за сила, я не понимаю. Но как бы то ни было, эта сила, словно подземный источник, разливается по всей стране. Сокруши эту силу, о милосердный, всемилостивый боже! Не знаю, может быть, японцы, погрязшие в ложной вере, никогда не узрят величия па-райсо. Из-за этого я мукой мучаюсь столько дней. Ниспошли своему слуге Органтино мужество и терпение...»
В эту минуту Органтино послышалось, будто запел петух. Не обращая внимания, он продолжал молитву:
«Чтобы выполнить свою миссию, я должен бороться с силой, таящейся в горах и реках этой страны, может быть, с невидимыми людским глазам духами. Ты когда-то поверг на дно Красного моря полчища египтян. Сила духов этой страны не меньше силы египетских полчищ. Молю тебя, окажи и мне, как когда-то оказал древнему пророку, помощь в борьбе с этими...»
Вдруг слова молитвы на его устах замерли. У самого алтаря раздалось громкое пенье петуха. Органтино, недоумевая, огляделся вокруг. И что же — за его спиной на алтаре, свесив белый хвост и выпятив грудь, петух, словно настал рассвет, еще раз издал победный клич.
Органтино вскочил с колен и, поспешно распростерши рукава сутаны, старался прогнать птицу. Но, два-три раза топнув ногой и воскликнув «господи!», опять растерянно замер. Полутемный храм наполнили неведомо откуда взявшиеся бесчисленные петухи. Они то взлетали, то бегали туда-сюда, и везде, насколько хватал глаз, расстилалось море петушиных гребней.
— Храни нас господи!
Он опять хотел перекреститься. Но его рука, точно сжатая щипцами, не двигалась. Тем временем придел, словно от факелов, озарился красноватым светом. По мере того как свет разгорался,
348
Органтино, задыхаясь, стал различать смутно вырисовывавшиеся человеческие фигуры.
Фигуры быстро обретали четкие очертания. Это была толпа мужчин и женщин непривычного вида, с нанизанной на нитку яшмой вокруг шеи; они смеялись и веселились. Когда фигуры стали видны вполне ясно, бесчисленные петухи, собравшиеся в приделе, запели еще громче. Вместе с тем стена придела — стена, где нарисована была фреска со святым Михаилом, — как туман растворилась в ночной темноте. И потом...
Японская вакханалия развернулась перед глазами обомлевшего Органтино, словно мираж. Он видел, как при свете костра японцы в старинных одеждах, усевшись в кружок, наливали друг другу чарки сакэ. В середине круга на большой опрокинутой бадье бешено плясала женщина, такая статная, какую он в Японии еще не встречал. Он видел, как за бадьей высоко держал на ветках, вероятно, вырванной с корнем эйрии то ли драгоценный камень, то ли зеркало богатырского вида мужчина. Кругом, сталкиваясь друг с другом крыльями и гребнями, все время весело пели бесчисленные петухи. А еще дальше... Органтино не поверил собственным глазам — еще дальше, точно заслоняя вход в грот, возвышалась могучая скала.
Женщина на бадье не переставая плясала. Охватывавшая ее волосы виноградная лоза развевалась в воздухе. Яшмовое ожерелье на шее звякало, будто сыпался град. Веткой низкорослого бамбука в руке она размахивала, поднимая ветер. А ее обнаженная грудь! Выделявшиеся в красном свете факелов ее сверкающие груди казались Органтино не чем иным, как воплощением самой чувственности. Молясь дэусу, он страстно хотел отвернуться. Но тело его, словно скованное какой-то проклятой силой, не могло пошевелиться.
Тем временем на призрачных людей вдруг снизошла тишина. Женщина на бадье, будто опомнившись, перестала плясать. Даже петухи мгновенно затихли с вытянутыми шеями. И в тишине откуда-то послышался прекрасный женский голос:
— Если я буду здесь, в заключении, разве мир не останется погруженным во мрак? А похоже, что боги именно этому радуются и оттого веселятся.
Когда голос затих в темноте, женщина, стоявшая на бадье, окинув взглядом присутствующих, неожиданно мягко ответила:
— Они радуются, потому что появился новый бог, сильнее тебя.
«Этот новый бог —не дэусу ли это?» Воодушевленный такой мыслью, Органтино с любопытством устремил взор на призрачное видение, которое так загадочно менялось.
349
Некоторое время царило молчание. Но вдруг петухи разом громко запели, а скала в глубине, выделявшаяся в ночном тумане, медленно раздвинулась. И из расселины, заливая все вокруг, хлынул какой-то удивительный свет.
Органтино хотел крикнуть. Но язык не повиновался. Орган-тино хотел бежать. Но ноги не двигались. Он чувствовал, что от сильного света у него кружится голова. И слышал, как при этом свете в небе разносятся ликующие крики толпы:
— Охирумэмути! Охирумэмути! Охирумэмути!
— Нового бога нет! Нового бога нет!
— Кто тебе противится, тот погибнет!
— Смотрите, как исчезает тьма!
— Всюду, куда ни посмотришь, — твои горы, твои леса, твои города, твои моря!
— Нет никаких новых богов! Все твои слуги.
— Охирумэмути! Охирумэмути! Охирумэмути!
При этих воагласах Органтино в холодном поту, что-то простонав, свалился на пол.
Этой же ночью, близко к третьей страже, Органтино пришел в себя. В его ушах как будто еще звучали возгласы богов. Но когда он оглянулся, в мертвенно-тихом приделе свисавшее с купола паникадило по-прежнему освещало смутно видневшуюся фреску. Органтино со стонами поднялся и отошел от алтаря. Что означало явившееся ему видение, он не мог понять. Но в том, что видение ему явил не дэусу, он был уверен.
— Бороться с духами этой страны.»
На ходу он невольно тихонько говорил про себя:
— Бороться с духами этой страны труднее, чем я думал. Сумею ли я одержать победу или потерплю поражение...
В этот миг до ушей его донесся шепот:
— Ты потерпишь поражение!
Органтино с опаской вперил взор туда, откуда донесся шепота Но там по»прежнвму, кроме ров и ракитника, ничего и никого не было видно.
* * *
На другой день вечером Органтино снова прогуливался в саду храма Намбандзи. В его голубых глазах светилась радость. Потому что в этот день в ряды верующих вступило несколько японских самураев.
Оливы и лавры тихо высились в темноте. Тишину нарушало только хлопапье крыльев возвращавшихся домой храмовых голубей. Благоухание роз, влажный песок— все было мирно, как в те древние сумерки, когда крылатые ангелы, «увидев
350
красоту дочерей человеческих», спустились, чтобы взять себе жену.
«При свете креста грязным японским духам, видимо, не одержать победы. Однако вчерашнее видение? Что же, это всего только видение. Разве святого Антония дьявол не соблазнял такими видениями? В доказательство моей правоты сегодня появилось несколько новых верующих. Вскоре и в этой стране повсюду воздвигнутся господни храмы».
С такими мыслями Органтино шагал по дорожкам, посыпанным красным песком. И вдруг сзади кто-то тихонько ударил его по плечу. Органтино сразу оглянулся. Но увидел лишь, что по молодой листве слабо разливается лунный свет.
— Храни нас господь!
Пробормотав так, Органтино медленно пошел дальше. И вдруг рядом с ним смутно, точно призрак, вырисовываясь в полутьме, вашагал откуда-то взявшийся старик с ниткой яшмы на шее.
— Кто ты такой?
Пораженный Органтино невольно остановился.
— Кто я — не все ли равно? Один из духов этой страны, — улыбаясь, дружелюбно ответил старик. — Пройдемся вместе. Я хочу немного побеседовать с тобой.
Органтино перекрестился. Но старик не обнаружил при этом никакого страха.
— Я не злой дух. Посмотри на эту яшму, на этот меч. Будь он закален в адском огне, он не был бы таким светлым и чистым. Перестань произносить заклятия.
Органтино волей-неволей, скрестив руки, нехотя пошел рядом со стариком.
— Ты явился, чтобы распространять веру в небесного царя? — спокойно заговорил старик. — Может быть, это и не дурное дело. Но даже если дэусу придет в эту страну, в конце концов он будет побежден. М
— Дэусу — всемогущий господь, дэусу... — начал было Органтино, но вдруг, опомнившись, перешел на более вежливый тон, каким обычно разговаривал с верующими этой страны. — Я думаю, над дэусу никто не может одержать победы.
— Но надо считаться с действительностью. Послушай. Издалека в нашу страну пришел не только дэусу. Из Китая сюда пришли Конфуций, Мэн-цзы, Чжуан-цзы, да и сколько еще других мудрецов. А ведь в то время наша страна только родилась. Мудрецы Китая, кроме учения дао, принесли шелка из страны У, яшму из страны Цинь и много других вещей. Они принесли нечто более благородное и чудесное, чем яшма, — иероглифы. Но разве благодаря этому Китай смог подчинить нас? Посмотри, например,
351
на иероглифы. Ведь не иероглифы подчинили нас, а мы подчинили себе иероглифы. Среди издавна известных наших древних соотечественников был поэт Какиномото Хитомаро. Сочиненная им песня «Танабата» сохранилась в нашей стране до сих пор. Прочитай ее. Пастуха и простой ткачихи там не найдешь. Воспетые там возлюбленные — это звезды Волопас и Ткачиха. У их изголовья журчала Небесная река, как журчат реки нашей страны. Это не был шум волн Млечного Пути, похожего на реки Хуанхэ или Янцзы-цзян. Но я должен рассказать тебе не о песне, а об иероглифах. Чтобы записать эти песни, Хитомаро применил иероглифы. Не столько ради их смысла, сколько ради их звучания. Но когда был введен знак «лодка», «фунэ» всегда оставалось «фунэ». Не то наш язык мог бы стать китайским. Здесь действовал не столько Хитомаро, сколько охранявшая его душу сила богов нашей страны. Мудрецы Китая привезли в нашу страну также искусство каллиграфического письма. Кукай, Косэй, Дофу, Сари — я постоянно навещал их тайно от людей. Образцом им обычно служила китайская каллиграфия. Однако их кисть всегда рождала новую красоту. Их знаки как-то незаметно стали знаками не Ван Си-чжи и Чжу Суй-ляна, а японскими. Но мы одержали победу не только над иероглифами. Наше дыхание, как морской ветер, смягчило даже учение Конфуция и учение Лао-цзы — дао. Спроси жителей этой страны. Все они верят, что, если на судно погружены сочинения Мэн-цзы, легко вызывающие наш гнев, оно непременно потонет. А ведь бог ветра Синадо ни разу еще не совершал такой шалости. Но в этой вере смутно угадывается живущая в нашем народе сила. Не так ли?
Органтино тупо поглядел на старика. Ему, незнакомому с историей этой страны, при всем красноречии собеседника половина сказанного осталась непонятной.
— После мудрецов Китая к нам пришел из Индии царевич Сиддхарта. — Продолжая свой рассказ, старик сорвал с куста возле дорожки розу и с удовольствием вдохнул ее аромат. Но хотя роза была сорвана, она осталась на кусте. А цветок в руке у старика, по форме и цвету такой же, был призрачным, как туман.
— Будду постигла такая же судьба. Но рассказывать все подробности, пожалуй, значит только усилить твою скуку. Я лишь хочу, чтобы ты обратил внимание на учение о воплощении в нашей стране буддийских божеств. Это учение привело жителей нашей страны к убеждению, что богиня Охирумэмути то же самое, что будда Дайнити-нёрай. Значит ли это, что победила богиня Охирумэмути? Или что победил будда Дайнити-нёрай? Допустим,
352
что в настоящее время среди жителей нашей страны Охирумэму-ти неизвестна, а будду Дайнити-нёрай многие знают. Все же не примет ли в их снах Дайнити-нёрай облик богини Охирумэмути, а не индийского будды? Я вместе с Синраном и Нитирэном гулял в тени цветов шореи. Будда, в которого они горячо верят, не какой-нибудь черноликий с нимбом. Это преисполненный величия брат таких, как наш принц Дзёгу-тайси... Но долгий рассказ обо всем этом я, как обещал, прекращаю. Хочу лишь сказать, что хотя такие, как дэусу, в нашу страну и приходят, но никто нас не победил.
— Нет, подожди, вот ты так говоришь... — перебил его Ор-гантино, — а сегодня несколько самураев обратились в святую веру.
— Пусть обращаются сколько угодно. Если дело идет только об обращении, то большинство жителей нашей страны восприняло учение царевича Сиддхарты. Но наша сила не в том, чтобы разрушать. Она в том, чтобы переделывать.
Старик бросил розу. Отделившись от его руки, роза растаяла в вечернем полумраке.
— В самом деле, ваша сила в том, чтобы переделывать? Но так не только у вас. В любой стране... например, даже злые духи, считающиеся богами Греции...
— Великий Пан умер. Но может быть, и Пан когда-нибудь воскреснет? Однако мы пока живы.
Органтино с удивлением покосился на старика.
— Ты знаешь Пана?
— О нем было написано в книгах с поперечными строчками, которые привезли с собой сыновья наших даймё с Кюсю, вернувшиеся из западных стран. Но сейчас разговор вот о чем: пусть сила переделывать есть не только у нас, все равно, нельзя быть беспечным. Даже больше, именно поэтому тебе надо быть настороже. Ведь мы — старые боги. Мы, как и греческие боги, видели рассвет мира.
— Но дэусу должен победить.
Органтино упорно повторял то же самое. Однако старик, как будто не слыша, продолжал:
— На днях я сошел с корабля на западном берегу нашей страны. И повстречался с путником, вернувшимся из Греции. Он не был богом, он был простым смертным. Сидя с ним на скале при лунном свете, я услышал от него разные рассказы. О том, как его схватил одноглазый бог, о богине, обращающей людей в свиней, о русалках с красивыми голосами... Ты знаешь имя этого путника? С тех пор как он повстречался со мной, он превратился в аборигена нашей страны. Теперь он зовется Юривака. Поэтому
12 Акутагава Рюноскэ
353
будь настороже. Нельзя сказать, что дэусу непременно победит. Как бы широко ни распространялась вера в небесного царя, нельзя сказать, что она непременно победит.
Старик постепенно перешел на шепот.
— Может статься, что дэусу сам превратится в аборигена нашей страны. Все идущее из Китая и Индии ведь стало нашим. И все идущее с Запада тоже им станет. Мы живем в деревьях. Мы живем в мелких речонках. Мы живем в ветерке, пролетающем над розами. В вечернем свете, упавшем на стену храма. Везде и всегда. Будь настороже. Будь настороже.
Его голос вдруг прервался, и старик, как тень, растаял в полумраке. И в тот же миг с колокольни над головой нахмурившегося Органтипо разнесся звон вечернего колокола Ave Maria.
* * *
Сошедший с ширм падре Органтино из храма Намбандзи, — нет, не только Органтино. Рыжеволосые люди с орлиными носами, волочащие полы сутаны, из зарослей лавра и роз, залитых сумеречным светом, возвратились на прежнее место. На старинные, уже три века хранящиеся ширмы с картиной, изображающей вход в бухту корабля Южных Варваров.
Прощай, падре Органтино! Ты теперь, прохаживаясь с приятелем по берегу Японии, смотришь на корабль Южных Варваров, над которым в тумане из золотой пыли высоко вздымается флаг. Победил ли дэусу или богиня Охирумэмути, — может быть, пока решить нельзя. Но наша задача не в том, чтобы выносить решение. Спокойно смотри на нас с берега прошлого. Пусть ты вместе с капитаном, ведущим на поводке собаку, и негритенком, держащим над ним зонтик от солнца, погрузишься в пучину забвения, все же неизбежно настанет время, когда грохот каменных огненных стрел с черных кораблей, вновь появившихся на горизонте, нарушит твой сон. А до тех пор... прощай, падре Органтино! Прощай, патэрэн Уруган из храма Намбандзи!
Декабрь 1921 г.
Работы по проведению узкоколейки Одавара — Атами начались, когда Рёхэю было восемь лет. Рёхэй ежедневно ходил на окраину деревни глядеть на работы. Вернее, не на работы, а на то, как перевозят землю в вагонетках, вот на что он засматривался.
354
На вагонетку, груженную землею, сзади становились двое землекопов. Поскольку вагонетка шла под уклон, она катилась сама, без помощи людской силы. Кузов раскачивался, как от ветра, полы курток землекопов развевались; тянулась, изгибаясь, узкая колея... Рёхэй глядел на все это, и ему хотелось стать землекопом. Или, по крайней мере, хоть раз прокатиться с рабочими на вагонетке. Скатившись на равнину за окраиной деревни, вагонетка останавливалась. В тот же миг землекопы ловко спрыгивали и вываливали землю из вагонеток на конечный пункт колеи. Потом, на этот раз уже подталкивая вагонетку, пускались в обратный путь вверх по склону. И тогда Рёхэй думал, что раз уж нельзя прокатиться на вагонетке, то хорошо бы ее хоть потолкать!
И вот однажды под вечер, — была первая декада февраля, — Рёхэй с братишкой, который был на два года моложе его, и соседским мальчиком, однолетком брата, пошел на окраину деревни к вагонеткам. Смеркалось, вагонетки, не очищенные от грязи, стояли в ряд. Куда ни глянь, никого из землекопов не было видно. Тогда дети с опаской подтолкнули крайнюю вагонетку. Под действием толчка колеса вагонетки пршлли в движение... От их стука Рёхэй похолодел. Но когда стук повторился, он не испугался. Тук-тук, тук-тук... Под эти звуки подталкиваемая тремя парами рук вагонетка двинулась вверх по колее.
Между тем через десяток кэн колея круче пошла в гору. Сколько они ни толкали, вагонетка не поддавалась и не трогалась с места. Иногда же вместе с вагонеткой они сами откатывались назад. Рёхэй репшл, что толкать больше не надо, и сделал знак младшим мальчикам.
— Ну, поехали!
Они все вместе отняли руки и мигом взобрались на вагонетку. Вагонетка сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей покатилась по колее. В эту минуту окружающий вид вдруг словно распахнулся и во всю пшрь развернулся перед их глазами. Ветер, в сумерках бьющий в лицо, под ногами подрагиванье вагонетки — Рёхэй был просто на седьмом небе.
Но через две-три минуты вагонетка остановилась в тупике на прежнем месте.
— Ну, подтолкнем еще разок!
Мальчики опять принялись было толкать вагонетку. Но прежде чем завертелись колеса, за спиной у них послышались чьи-то шаги. Мало того, едва мальчики услышали их, как вслед за шумом шагов раздался крик:
— Ах, мерзавцы! Кто вам позволил трогать вагонетку?
За ними стоял высокий землекоп в поношенной рабочей куртке и не по сезону легкой соломенной шляпе.
12*
355
Мальчики оглянулись на него, только успев отбежать на пять-шесть кэн. И с той поры, даже когда Рёхэй, возвращаясь откуда-нибудь домой, видел, что на строительной площадке нет ни души, он все равно не решался прокатиться на вагонетке. Фигура того землекопа надолго ему запомнилась. Желтевшая в сумерках маленькая соломенная шляпа... Но даже это воспоминание с годами стало бледнеть.
Дней через десять после этого случая Рёхэй опять, на этот раз один, после полудня, стоял на строительной площадке и глядел на спускающиеся вагонетки. И вот рядом с вагонетками, груженными землей, по широкой колее, которая, вероятно, была главной, стала подниматься вагонетка, груженная шпалами. Эту вагонетку толкали двое молодых парней. Увидев их, Рёхэй решил, что у них добродушные лица.
«Эти-то меня не выругают», — подумал он и подбежал к вагонетке.
— Дяденьки! Давайте я помогу потолкать.
Один из них — тот, что был в полосатой рубашке, — не подымая склоненной головы и не отрывая рук от вагонетки, ответил, как мальчик и ожидал, ласково:
— Ну что ж, помоги.
Рёхэй встал между парнями и принялся толкать изо всей силы.
— А ты, видать, здорово силен! — похвалил Рёхэя другой парень, у которого за ухом была заткнута папироса.
Между тем уклон колеи становился все более отлогим. В глубине души Рёхэй стал опасаться, как бы ему не сказали: «Можешь больше не толкать». Но молодые рабочие продолжали молча, только немного выпрямившись, толкать вагонетку. Не в силах больше терпеть, Рёхэй робко спросил:
— Мне можно толкать, сколько захочу?
— Можно, — ответили оба одновременно. Рёхэй подумал: «Добрые люди».
Через пять-шесть те колея опять пошла круто вверх. Там по обе стороны в мандариновых садах золотились под солнцем бесчисленные плоды.
«Дорога вверх лучше, ведь дают толкать, сколько хочешь», — думал Рёхэй, изо всех сил толкая вагонетку.
Когда подъем среди мандариновых садов закончился, колея вдруг пошла под уклон. Парень в полосатой рубашке сказал Рёхэю:
— Ну, садись!
Рёхэй мигом взобрался на вагонетку. Как только все трое на нее сели, вагонетка плавно заскользила по рельсам среди аромата
356
мандариновых садов. «Катиться куда лучше, чем толкать!» — продолжал размышлять Рёхэй; его хаори раздувалось от ветра. «Если туда долго толкаешь, то и обратно долго катишься».
Докатившись до бамбуковой рощи, вагонетка потихоньку замедлила ход и остановилась. Все трое вновь принялись толкать тяжелую вагонетку. Бамбуковая роща сменилась смешанным лесом. На подъеме попадались такие места, где под грудами опавших листьев почти не видно было ржавых рельсов. Когда поднялись вверх по дороге, то за высоким обрывом открылось широко простертое холодное море. И тут Рёхэй почувствовал, что ушел слишком далеко от дома.
Они опять сели в вагонетку. Вагонетка катилась под деревьями в лесу вдоль расстилавшегося справа моря. Но у Рёхэя было уже не так хорошо на душе, как раньше.
— Может, вернемся, — стал было он просить. Но что ни вагонетка, ни рабочие не могут вернуться, пока не доберутся до места, это, конечно, он и сам прекрасно понимал.
Потом вагонетка остановилась перед чайной с соломенной крышей, стоявшей у выемки горы. Рабочие вошли в чайную и стали неторопливо пить чай вместе с хозяйкой, у которой за спиной был грудной ребенок. Рёхэй, оставшись один, обеспокоенно бродил вокруг вагонетки. К толстым доскам кузова присохли брызги грязи.
Немного спустя из чайной вышел парень с паппросой за ухом (впрочем, теперь у него уже не было за ухом папиросы) и дал стоявшему возле вагонетки Рёхэю газетный кулек с деревенским печеньем. Рёхэй холодно сказал «спасибо». Но сейчас же сообразил, что, поблагодарив так холодно, поступил невежливо. Чтобы загладить свою вину, он положил одно печенье в рот. Печенье пахло керосином, которым, по-видимому, была запачкана газета.
Подталкивая вагонетку, они втроем стали подниматься по пологому склону. Хотя руки Рёхэя по-прежнему упирались в вагонетку, думал он теперь совсем о другом.
Когда они спустились по другую сторону склона, там оказалась еще одна чайная. Рабочие зашли туда, а Рёхэй, сидя на вагонетке, думал только о возвращении домой. Перед чайным домиком на цветущей сливе угасали лучи заходящего солнца. Вот уже смеркается, — при этой мысли Рёхэй не в силах был спокойно усидеть на месте. Он то пытался ногой повернуть колесо, то, зная, что один не в состоянии сдвинуть вагонетку, все же пытался это сделать, — только бы как-нибудь отвлечься от тревожных мыслей.
А рабочие, выйдя из чайной и начав сгружать шпалы с вагонетки, как ни в чем не бывало сказали ему:
— Ты теперь ступай домой. Мы сегодня заночуем здесь.
357
— Если вернешься слишком поздно, у тебя дома, верно, будут беспокоиться.
Рёхэй на миг опешил. Ведь скоро стемнеет. В конце прошлого года они с матерью ходили до Ивамура, но сегодня он прошел в три-четыре раза дальше... И сейчас ему придется возвращаться пешком, совсем одному... Все это мигом пронеслось у него в голове. Он чуть не заплакал. Но подумал, что слезами горю не поможешь. Не такой случай, чтобы плакать. С трудом заставив себя поклониться двум молодым рабочим, он пустился бежать вдоль колеи.
Рёхэй бежал и бежал вдоль колеи, не помня себя. Во время бега он заметил, что сверток с печеньем, засунутый за пазуху, мешает ему, и выбросил его на обочину, а заодно сиял и швырнул вслед за печеньем свои деревянные дзори. Теперь через тонкие носки в подошвы впивались камешки, но зато ногам стало гораздо легче. Чувствуя слева от себя дыхание моря, он бегом поднялся по крутому склону. Время от времени к горлу подступали слезы, и тогда лицо у него непроизвольно кривилось. Он с трудом сдерживался и только непрестанно шмыгал носом.
Когда он бежал мимо бамбуковой рощи, на закатном небе над горой Хиганэ уже угасала вечерняя заря. Волнение Рёхэя росло. Все кругом казалось ему другим, может быть, оттого, что путь туда и путь обратно — вещи разные, и это внушало ему тревогу. Теперь ему мешало и то, что одежда на нем насквозь промокла от пота. Продолжая бежать из последних сил, он стянул с себя и бросил на обочину хаори.
К тому времени, как он добрался до мандариновых садов, уже совсем стемнело. «Только бы остаться живым...» — думал Рёхэй и, скользя и спотыкаясь, мчался дальше.
Наконец в полной темноте показалась строительная площадка на окраине деревни, и Рёхэй готов был тут же на месте расплакаться. Но и на этот раз он сдержался.
Когда он прибежал в деревню, из домов по обе стороны улицы падал электрический свет. В этом свете Рёхэй сам отчетливо видел, как над его головой подымаются испарения пота. Женщины, бравшие воду из колодца, мужчины, возвращавшиеся с полей, увидев запыхавшегося Рёхэя, окликали его: «Эй, что случилось?» Но он, не отвечая, пронесся мимо освещенных домов, мимо мелочной лавки, мимо парикмахерской.
Влетев в ворота своего дома, Рёхэй уже не мог больше удержаться и громко, во весь голос, заплакал. Услыхав его плач, вмиг подбежали к нему отец и мать. Мать что-то говорила, порывалась его обнять. Но Рёхэй, ломая руки и топоча ногами, всхлипывал навзрыд. Должно быть, оттого, что он слишком громко плакал, три-
358
четыре соседки подошли и стали в темноте у ворот. Все, в том числе отец и мать, наперебой спрашивали, отчего он плачет. Но что Рёхэю ни говорили, он только плакал. Плакал, вспоминая свою беспомощность и страх, пережитый им, пока он бежал весь этот далекий путь, и чувствовал, что никак не наплачется.
В возрасте двадцати шести лет Рёхэй с женой и ребенком уехал в Токио. Теперь он сидит на втором этаже в редакции одного журнала и читает корректуры. Но случается иногда, что, хоть и совершенно беспричинно, он вспоминает себя, каким он был в тот день. Совершенно беспричинно. Перед ним, усталым от житейских забот, и теперь, как тогда, тянется узкой лентой извилистая, с рощами, с подъемами и спусками, полутемная дорога.
Февраль 1922 г.
Меня зовут Дзиннай. Родовое имя? С давних пор люди как будто зовут меня Амакава Дзиннай. Амакава Дзиннай — это имя и вам знакомо? Нет, не надо пугаться! Как вы знаете, я знаменитый вор. Но в эту ночь я пришел не для воровства. На этот счет, прошу вас, будьте спокойны.
Как я слышу, среди патэрэнов в Японии вы человек самых высоких добродетелей. Так что пробыть, хотя и недолго, с человеком, которого называют вором, вам, может быть, неприятно. Но не думайте — я ведь не только ворую! Один из подручных Росона Сукэ-дзаэмона, приглашенных во дворец Дзюраку, — он именовался Дзиннай! А кувшин, известный под названием «Красная голова», который так ценил Рикю Кодзи? Ведь настоящее имя мастера рэн-га, приславшего кувшин в дар, как я слышал, тоже Дзиннай! А разве переводчика из Омура, который два-три года назад написал книгу «Амакава-никки», не звали Дзиннай? А потом еще — странствующий флейтист, спасший капитана Мальдонадо в драке у Сандзёгавара, а купец, торговавший иноземными лекарствами у ворот храма Мёкудзи в Сакаи? Если бы открыли их имя, это, несомненно, оказался бы некий Дзиннай. Да нет, есть кое-кто и поважней — тот самый, кто в прошлом году принес в дар храму Санто-Франциско золотой ковчег с ногтями пресвятой девы Марии, — это ведь был верующий тоже по имени Дзиннай!
Но сегодня, к сожалению, у меня нет времени рассказывать вам подробно обо всех этих вещах. Только прошу вас, поверьте, что
359
Амакава Дзнннай не так уж отличается от всякого обыкновенного человека. Хорошо? Ну тогда по возможности коротко изложу, что мне нужно. Я пришел просить вас отслужить мессу о спасении души одного человека... Нет, он мне не родственник. Но он и не окрасил своей кровью моего клинка. Имя? Имя... Открыть его или нет — я и сам никак не решу. Я хочу помолиться за упокой души одного человека... за упокой души японца по имени Поро 1:. Нельзя? Да, конечно, раз просит Амакава Дзиннай, вы не склонны с легкостью согласиться. Ну что же, так и быть! Попробую коротко рассказать, как все произошло. Только обещайте, что вы не скажете никому ни слова, хотя бы дело шло для вас о жизни или смерти. Вы поклянетесь этим крестом на вашей груди сдержать обещание? Нет... простите меня. (Улыбка.) Не доверять вам, патэрэн, для меня, вора, просто дерзость. Но если вы не сдержите обещания (внезапно серьезно), то пусть вы и не будете гореть в яростном пламени инфэруно — кара постигнет вас на этом свете.
Это случилось больше двух лет назад. Была ненастная полночь. Я бродил по улицам Киото, переодетый странствующим монахом. Бродил я по улицам Киото не первую ночь. Уже пять дней каждый вечер, как только пробьет первая стража, я, стараясь не попадаться людям на глаза, украдкой осматривал дом за домом. Зачем? Я думаю, нечего объяснять... В то время я как раз намеревался ненадолго уехать за море, хотя бы в Марикка, и поэтому деньги мне нужны были больше, чем всегда.
На улицах, конечно, давным-давно прекратилось движение, и только неумолчно шумел ветер при свете звезд. Я прошел вдоль темных домов всю Огавадори и вдруг, обогнув угол у перекрестка, увидел большой дом. Это было городское жилище Ходзёя Ясоэмо-на, известного даже в Киото. Правда, хотя оба они вели морскую торговлю, «Торговый дом Ходзёя» нельзя было поставить на одну доску с таким домом, как «Кадокура». Но как бы то ни было, Ходзёя отправлял один-два корабля в Сямуро и на Лусон, так что, несомненно, был изрядно богат. Выходя на дело, я вовсе не имел в виду именно этот дом, по раз уж набрел как раз на него, мне захотелось подзаработать. К тому же, как я уже сказал, ночь была поздняя, поднялся ветер, и для моего промысла все складывалось как нельзя лучше. Спрятав свою плетеную шляпу и посох за дождевую бадью на обочине дороги, я сразу же перелез через высокую ограду.
Только послушать, какие обо мне ходят толки! Амакава Дзиннай умеет делаться невидимкой, говорят все и каждый. Надеюсь, вы не верите этому, как верят простые люди. Я не умею делаться
1 Искаженное Paulo (no рту г.).
360
невидимкой и не в сговоре с дьяволом. Просто, когда я был в Макао, врач с португальского корабля научил меня науке о природе вещей. И если только применять ее на деле, то отвернуть большой замок, снять тяшелый засов — все это для меня не слишком трудно. (Улыбка.) Невиданные доселе у нас воровские уловки, — ведь их, как крест и пушки, наша дикая Япония тоже переняла у Запада.
Не прошло и часа, как я уже пробрался в дом. Но когда я миновал темный коридор, к моему изумлению, оказалось, что, несмотря на такое позднее время, в одной из комнат еще горит огонь. Мало того, было слышно, как кто-то разговаривает. Судя по местонахождению, это была чайная комната. «Чай в непогоду!» — усмехнулся я, тихонько подкрадываясь ближе. В самом деле, слыша голоса, я не столько думал о помехе моей работе, сколько хотелось мне узнать, каким тонким развлечениям предаются в этой изысканной обстановке хозяин дома и его гость.
Как только я прильнул к фусума, до моего слуха, как я и ожидал, донеслось бульканье воды в котелке. Но, кроме этого, я, к своему удивлению, вдруг услышал, что кто-то в комнате плачет. Кто-то? Нет, я сразу же понял, что это женщина. Если в таком важном доме в чайной комнате среди ночи плачет женщина — это неспроста. Затаив дыхание, я через щель слегка раздвинутой фусума заглянул в комнату.
Освещенное висячим бумажным фонарем старинное какэмоно в токонома, хризантема в вазе... На всем убранстве, как и полагается в чайной комнате, лежал налет старомодности. Старик, сидевший перед токонома лицом прямо ко мне, был, по-видимому, сам хозяин Ясоэмон. В мелкоузорчатом хаори, неподвижно скрестив на груди руки, он, видимо, прислушивался, как кипит котелок. Немного ниже Ясоэмона сидела ко мне боком старуха почтенной наружности, в прическе со шпильками, и время от времени утирала слезы.
«Ни в чем не терпят недостатка, а, видно, такие же у них горести!» — подумал я, и у меня на губах невольно появилась усмешка. Усмешка — это отнюдь не значит, что у меня была какая-нибудь злоба лично к супругам Ходзёя. Нет, у меня, человека, за которым сорок лет бежит дурная слава, несчастье других людей, в особенности людей на первый взгляд счастливых, всегда само собой вызывает усмешку. (С жестоким выражением лица.) И тогда вздохи супругов доставляли мне такое же удовольствие, как если бы я смотрел на представление Кабуки. (С насмешливой улыбкой.) Да ведь не я один таков. Кого ни спроси о любимой книжке — это всегда какая-нибудь печальная повесть!
Немного погодя Ясоэмон со вздохом сказал:
361
— Раз уж случилось такое несчастье, сколько ни плачь, сколько ни вздыхай, — былого не воротишь. Я решил завтра же рассчитать всех в лавке.
Тут сильный порыв ветра потряс стены комнаты и заглушил голоса. Ответа жены Ясоэмона я не расслышал. Но хозяин, кивнув, положил руки на колени и поднял глаза к плетеному камышовому потолку. Густые брови, острые скулы и в особенности удлиненный разрез глаз... Чем больше я смотрел, тем больше убеждался, что это лицо я уже где-то видел.
— О, господин Дзэсусу Киристо-сама! Ниспошли в наши сердца свою силу!
Ясоэмон с закрытыми глазами начал шептать слова молитвы. Старуха, видимо, тоже, как и ее муж, молила о покровительстве небесного царя. Я же все время, не мпгая, всматривался в лицо Ясоэмона. И вот, когда пронесся новый порыв ветра, в моей душе сверкнуло воспоминание о том, что случилось двадцать лет назад, и в этом воспоминании я отчетливо увидел облик Ясоэмона.
Двадцать лет назад... впрочем, стоит ли рассказывать! Короче говоря, дело было так. Когда я ехал в Макао, один японец-корабельщик спас мне жизнь. Мы тогда друг другу имени своего не назвали и с тех пор не встречались, но Ясоэмон, на которого я теперь смотрел, — это, несомненно, и был тогдашний корабельщик. Пораженный странной встречей, я не сводил глаз с лица старика. И теперь мне уже казалось, что его сильные плечи, его пальцы с толстыми суставами дышат пеной прибоя у коралловых рифов и запахом сандаловых лесов.
Окончив свою долгую молитву, Ясоэмон спокойно обратился к жене с такими словами:
— Впредь положимся во всем на волю небесного владыки... Ну, раз котелок уже вскипел, не нальешь ли мне чаю?
Но старуха, сдерживая вновь подступившие к горлу рыдания, слабым голосом ответила:
— Сейчас... А все же жалко, что...
— Вот это-то и значит роптать! То, что «Ходзёя-мару» затонул и все деньги, вложенные в дело, погибли, все это...
— Нет, я не о том. Если б хоть сын наш Ясабуро был с нами... Слушая этот разговор, я еще раз усмехнулся. Но на этот раз
не горе Ходзёя доставляло мне удовольствие. «Пришло время отплатить за былое добро», — вот чему я радовался. Ведь и мне, Ама-кава Дзиннаю, радость оттого, что можно как следует отплатить за добро... Да нет, кроме меня, вряд ли кому еще эта радость знакома по-настоящему. (Насмешливо.) Мне жаль всех добродетельных людей: не знают они, как радостно вместо злодейства совершить доброе дело!362
— Ну... что его нет, это еще счастье! — Ясоэмон с горечью перевел взгляд на фонарь. — Если бы только остались целы те деньги, что он промотал, мы, пожалуй, выпутались бы из беды. Право, стоит мне подумать об этом, о том, что я выгнал его из дома, как... В Тут Ясоэмон испуганно посмотрел на меня. Не удивительно, что он испугался: в эту минуту я, не произнеся ни звука, отодвинул крайнюю фусума. Вдобавок я был одет монахом и вместо плетеной шляпы, которую я сбросил еще раньше, голову мою покрывал иноземный капюшон.
— Кто здесь хозяин?
Ясоэмон хоть и старик, а разом вскочил.
— Бояться нечего! Меня зовут Амакава Дзиннай. Ничего, будьте спокойны. Амакава Дзиннай — вор, но в эту ночь он пришел к вам с иными намерениями.
Я скинул капюшон и сел против Ясоэмона.
О том, что было дальше, вы можете догадаться и без моего рассказа. Я дал обещание отплатить за добро: чтобы выручить «Дом Ходзёя» из беды, я обещал в три дня, ни на день не погрешив против срока, достать шесть тысяч кан серебра...
Ого, кажется, за дверью слышатся чьи-то шаги? Ну, так прощайте! Завтра или послезавтра ночью я еще раз проберусь сюда. Есть созвездие Большой Крест — в небе над Макао оно сияет, а на небе Японии его не видать. И если я так же, как оно, не исчезну из Японии, то не искуплю своей вины перед душой Поро, о котором пришел просить вас отслужить мессу. Что? Как я убегу? Об этом не беспокойтесь. Я могу без труда выбраться через это высокое окно в потолке или через этот большой очаг. И еще раз убедительно прошу — ради души благодетеля Поро никому не обмолвитесь ни словом!
Ваша милость, патэрэп, прошу вас, выслушайте мою исповедь. Как вам известно, есть такой вор Амакава Дзиннай, о котором в последнее время ходит много рассказов. Слыхал я, что и тот, кто жил в башне храма Нэгородэра, и тот, кто украл меч у кампаку, и тот, кто далеко за морем напал на наместника Лусона, — все это он. Может быть, дошло до вас и то, что его наконец схватили на днях у моста Модорибаси, что в Итидзё выставили на позор его голову. Мне этот Амакава Дзиннай оказал великое благодеяние. Но из-за этого самого благодеяния я теперь переживаю невыразимое горе. Прошу вас, выслушайте все обстоятельства и помолитесь о том, чтобы небесный царь ниспослал свою милость грешнику Ходзёя Ясоэмону.
363
Это случилось два года назад, зимой. Из-за непрерывных штормов мой корабль «Ходзёя-мару» затонул, деньги, вложенные в дело, пропали, — одна беда шла за другой, и в конце концов «Торговый дом Ходэёя» не только разорился, но и совсем дошел до крайности. Как вы знаете, среди горожан есть только покупатели, а человека, которого можно было бы назвать товарищем, нет. И наше дело, как корабль, втянутый в водоворот, пошло ко дну. И вот однажды ночью... я и теперь не забыл ее... ненастной ночью мы с женой разговаривали, не думая о позднем часе. И вдруг вошел человек в одежде странствующего монаха, с иноземным капюшоном на голове. Это и был Амакава Дзиннай. Я, конечно, и испугался и рассердился. Но когда я выслушал его — что же оказалось? Он пробрался в мой дом, чтобы совершить воровство, но в чайной комнате еще горел свет, слышались голоса, и когда он через щель фусума заглянул внутрь, то увидел, что Ходзёя Ясоэмон — тот самый благодетель, который двадцать лет назад спас ему, Дзиинаю, жизнь.
В самом деле, при этих его словах я вспомнил, что в ту пору, как еще был корабельщиком и водил в Макао «фусута», как-то раз я выручил одного японца, у которого и бороды-то еще не было: как он мне тогда рассказал, он в пьяной ссоре убил китайца, и за ним гнались. И что же? Теперь он превратился в знаменитого вора Амакава Дзинная! Как бы там ни было, я убедился, что слова Дзинная не выдумка, и поскольку, к счастью, все в доме спали, я первым делом спросил его, что ему нужно.
И вот, по словам Дзинная, оказалось, что он в отплату за старое добро хочет, если это будет в его силах, выручить «Дом Ходзёя» из беды и спрашивает, как велика сумма, потребная в настоящее время. Я невольно горько усмехнулся. Чтобы деньги мне достал вор — это не только смешно. У кого водятся такие деньги, будь это хоть сам Амакава Дзиннай, тому незачем забираться в мой дом для воровства. Но когда я назвал сумму, Дзиннай, слегка склонив голову набок, как ни в чем не бывало обещал все сделать, предупредив, что в эту ночь ему трудно, а через три дня он достанет. Но так как потребная сумма была немалая — целых шесть тысяч кан, то ручаться, что ему удастся ее достать, нельзя было. По моему же мнению, чем полагаться на то, сколько выпадет очков в игре в кости, лучше было считать, что дело это ненадежное.
В эту ночь Дзиннай спокойно выпил чай, который ему налила жена, и ушел в непогоду. На другой день обещанных денег он не доставил. На третий день — тоже. На четвертый... В этот день пошел снег, наступила ночь, а никаких вестей все еще не было. Я и раньше говорил, что не полагался на обещание Дзинная. Однако раз я никого в лавке не рассчитал и предоставил всему идти своим ходом, значит, в глубине души все же надеялся. И в самом деле,
364
на четвертую ночь, сидя под фонарем в чайной комнате, я все же напряженно прислушивался к скрипу снега.
Когда пробила уже третья стража, в саду за чайной комнатой вдруг раздался шум, точно там кто-то дрался. В душе у меня, конечно, блеснула тревожная мысль о Дзиннае: уж не поймали ли его караульные? Я раздвинул сёдзи, выходившие в сад, и посветил фонарем. Перед чайной комнатой, в глубоком снегу, там, где свешивались листья бамбука, сцепились двое людей, но не успел я разглядеть их, как один из них оттолкнул накинувшегося на него противника и, прячась за деревья, бросился к ограде. Шорох осыпающегося снега, шум, когда перелезали через ограду, и наступившая затем тишина показывали, что человек благополучно перелез и спрыгнул где-то по ту сторону. Но тот, кого он оттолкнул, не стал гнаться за ним, а, стряхивая с себя снег, спокойно подошел ко мне.
— Это я, Амакава Дзиннай.
Пораженный изумлением, я уставился на Дзинная. На нем, как и в ту ночь, был иноземный капюшон и ряса.
— Ну и шум подняли! Еще счастье, что от этой драки никто в доме не проснулся.
Входя в комнату, Дзиннай усмехнулся.
— Пустяки! Как раз, когда я пробирался в дом, кто-то пытался забраться сюда под пол. Ну, я его попридержал, хотел было посмотреть, кто это такой, да он убежал.
Так как я все еще беспокоился, то спросил, не был ли это караульный. Но Дзиннай сказал, что это вовсе не караульный, а верней всего — вор. Вор хотел поймать вора — может ли быть что-нибудь более удивительное? Теперь уже на моих губах мелькнула усмешка. Как бы то ни было, пока я не знал, чем кончилась попытка достать деньги, на сердце у меня было тревожно. Но прежде чем я успел раскрыть рот, Дзиннай, словно читая у меня в душе, медленно развязал пояс и выложил перед очагом свертки с деньгами.
— Будьте спокойны. Шесть тысяч кан добыты. Собственно, большую часть я достал уже вчера, по около двухсот кан не хватало, поэтому я принес их только сегодня. Вот, примите свертки. А деньги, собранные ко вчерашнему дню, я потихоньку от вас обоих спрятал здесь же, под полом чайной комнаты. Вероятно, давешний вор пронюхал про эти деньги.
Я слушал его слова, как во сне. Принять деньги от вора — я и без вас внаю, что это дело не из хороших. Однако, пока я был на грани уверенности и сомнения в том, удастся ли достать деньги, я не думал, хорошо это или дурно, да и теперь не мог так легко отказаться. Ведь если бы я отказался, то не только мне, но я всей моей семье оставалось одно — идти на улицу. Прошу вас, будьте снисхо-
365
дительны к такому моему положению. Смиренно коснувшись руками пола, я склонился перед Дзиннаем и, не произнося ни слова, заплакал.
С тех пор я два года ничего не слыхал о Дзиннае. Но так как я избежал разорения и проводил свои дни в благополучии только благодаря Дэиннаю, то тайком от людей я всегда возносил святой матери Марии-сама молитвы о счастье этого человека. И что же? На днях пошла по городу молва о том, что Амакава Дзиннай схвачен и что у моста Модорибаси выставлена на позор его голова! Я ужаснулся. Украдкой проливая слезы. Но как подумаешь, что это расплата за все содеянное им зло, — что тут делать! Скорее странно, что небесная кара постигла его лишь теперь. Все же мне хотелось в отплату за добро, хотя бы втайне, совершить поминовение. С этой мыслью я сегодня, не взяв никого с собой, поспешно пошел к Модорибаси посмотреть на выставленную на позор голову.
Когда я дошел до моста, там, где была выставлена голова, уже толпился народ. Доска из некрашеного дерева с перечнем преступлений казненного, стражники, охраняющие его голову, — все было как обычно. Но голова, насаженная на три свежих бамбуковых ствола, скрепленных между собой, эта страшная, залитая кровью голова, — о, что же это такое? В давке среди шумной толпы, увидев эту мертвенно-бледную голову, я окаменел. Эта голова... была не его! Это не была голова Амакава Дзинная. Эти густые брови, эти острые скулы, этот шрам между бровями — в них не было ничего похожего на Дзинная. Она... Солнечный свет, толпа вокруг меня, насаженная на бамбук голова, все отодвинулось в какой-то далекий мир — такой безумный ужас меня охватил. Это была голова не Дзшшая. Это была моя голова! Она принадлежала мне, такому, каким я был двадцать лет назад — тогда, когда я спас Дзиннаю жизнь. Ясабуро!.. Если бы только язык у меня мог шевелиться, я, может быть, так бы и крикнул. Но я не мог издать ни звука и только, как в лихорадке, дрожал всем телом.
Ясабуро! Я смотрел на выставленную голову сына, как на призрак. Голова, слегка запрокинутая, неподвижно смотрела на меня из-под полуприкрытых век. Как это случилось? Может быть, сына по ошибке приняли за Дзинная? Но если его подвергли допросу, ошибка бы выяснилась. Или тот, кто назывался Амакава Дзиннай, был мой сын? Переодетый монах, пробравшийся в мой дом, был некто другой, присвоивший себе имя Дзинная? Нет, не может быть! Достать шесть тысяч кан в три дня, ни на один день не погрешив против срока, — кто во всей обширной стране Японии сумел бы это, кроме Дзинная? Значит... В этот миг в душе у меня вдруг отчетливо всплыл облик того никому не известного человека, кото-
рый два года назад, в снежную ночь, боролся в саду с Дзиннаем. Кто ои? Не был ли то мой сын? Да, даже мельком взглянув на него тогда, я заметил, что по облику он напоминает моего сына Ясабу-ро! Но не было ли это просто заблуждением моего сердца? Если то был сын... Словно очнувшись, я пристально посмотрел на голову. И я увидел — на посиневших, странно раздвинутых губах сохранилось слабое подобие улыбки.
У выставленной головы сохранилась улыбка! Слушая такие слова, вы, пожалуй, засмеетесь. Я и сам, заметив это, подумал, что мне просто померещилось. Но сколько я ни смотрел — высохшие губы были чуть озарены чем-то похожим на улыбку. Долго не отводил я глаз от этих странно улыбавшихся губ. И незаметно на моем лице тоже появилась улыбка. Но одновременно с улыбкой из глаз у меня полились горячие слезы.
«Отец, простите!.. — говорила мне без слов эта улыбка.
Отец, простите, что я был дурным сыном! Два года назад в снежную ночь я прокрался домой только для того, чтобы просить прощения, просить вас принять меня обратно. Днем мне стыдно было попасться на глаза кому-нибудь в лавке, поэтому я нарочно дождался глубокой ночи, чтобы постучаться к отцу в спальню и поговорить с ним. Но когда, обрадовавшись, что за сёдзи чайной комнаты виден свет, я робко направился туда, вдруг сзади кто-то, ни слова не говоря, набросился на меня.
Отец, что случилось дальше, вы знаете сами. Я был поражен неожиданностью, и едва увидел вас, как оттолкнул нападавшего и перескочил через ограду. Но так как при отсветах снега я, к своему удивлению, увидел, что мой противник — монах, то, убедившись, что за мной никто не гонится, я опять рискнул подкрасться к чайной комнате. И сквозь сёдзи слышал весь разговор.
Отец! Дзиннай, спасший «Дом Ходзёя», благодетель всей нашей семьи. И я решил, что, если ему будет грозить опасность, я отплачу ему за добро, хотя бы пришлось отдать за него жизнь. И отплатить ему за добро не мог никто, кроме меня, бродяги, выгнанного из дома. Два года выжидал я подходящего случая. И вот случай настал. Простите, что я был дурным сыном! Я родился непутевым, но я отплатил за добро, оказанное нашей семье. Вот единственное мое утешение...»
На пути домой, смеясь и плача, я восхищался благородством сына. Вероятно, вы не знаете — мой сын Ясабуро, как и я, был приверженцем нашей веры и был даже наречен Поро. Но... но и сын мой был несчастен. И не только сын. Ведь если бы Амакава Дзиннай не спас тогда мой дом от разорения, мне не пришлось бы теперь так скорбеть. Как бы я ни терзался, одна мысль не дает мне
367
покоя: что было лучше — избежать разорения или сохранить в живых сына?.. (Вдруг с мукой.) Спасите меня! Если я так буду жить дальше, то, может быть, моего великого благодетеля Дзинная возненавижу. (Долгие рыдания.)
О, святая матерь Мария-сама! Завтра на рассвете мне отрубят голову. Голова моя скатится на землю, но моя душа, как птица, полетит ввысь, к тебе. Нет, может быть, вместо того чтобы умиляться великолепием парайсо (рая), я, совершивший лишь злодеяние, буду низвергнут в яростное пламя инфэруно. Но я доволен. Такой радости душа моя не знала двадцать лет.
Я — Ходзёя Ясабуро. Но моя голова, которую выставят напоказ после казни, будет называться головой Амакава Дзинная. Я — Амакава Двиннай! Может ли быть что-нибудь приятней? Амакава Дзипнай! Ну что? Разве это не прекрасное имя? Стоит только моим губам произнести это имя, и я чувствую себя так, как будто моя темница засыпана небесными лилиями и розами.
Это случилось зимой, два года назад, в незабываемую снежную ночь. Я прокрался в дом отца, чтобы добыть денег для игры. Так как за сёдэи чайной комнаты еще горел свет, я хотел было тихонько заглянуть внутрь, но тут кто-то, ни слова не говоря, схватил меня за ворот. Я обернулся, сцепился с моим противником — кто он, я не знал, но, судя по огромной силе, это был человек необыкновенный. Мало того: пока мы с ним дрались, раздвинулись сёдзи, в сад упал свет фонаря, — сомнения быть не могло, в чайной комнате стоял мой отец Ясоэмон. Напрягши все силы, я высвободился из цепких рук противника и бросился вон из сада.
Но, пробежав полквартала, я спрятался под навесом дома и осмотрелся кругом. На улице нигде ничто не шевелилось, только иногда, белея в ночной мгле, вздымалась снежная пыль. Противник, видно, махнул на меня рукой и отказался от преследования. Но кто он такой? Насколько я в тот миг успел разглядеть, он был одет монахом. Однако, судя по его силе и в особенности по тому, что он знал и боевые приемы, вряд ли это был простой монах. Да и то, чтобы в такую снежную ночь в саду оказался какой-то монах, — разве это не странно? Немного поразмыслив, я решил рискнуть и все же еще раз подкрасться к чайной комнате.
Прошел час. Подозрительный странствующий монах, пользуясь тем, что снег как раз перестал, шел но улице Огавадори. Это был Амакава Дзиннай. Самурай, мастер рэнга, горожанин, бродячий флейтист, человек, по слухам, умеющий принимать любой об-рав, знаменитый в Киото вор! Я украдкой шел по его следам. Ни-
368
когда еще не радовался я так, как в тот миг. Амакава Дзиннай! Амакава Дзиннай! Как я тосковал по нему даже во сне! Тот, кто похитил меч у кампаку, — это был Дзиннай. Тот, кто выманил кораллы у Сямуроя, — это был Дзиннай. И тот, кто срубил дерево кяра у правителя провинции Бидзэн, и тот, кто украл часы у капитана Пэрэйра, и тот, кто в одну ночь разрушил пять амбаров, и тот, кто убил восемь самураев Микава, и тот, кто совершил еще много других редкостных злодейств, о которых будут рассказывать до скончания века, — все это был Дзиннай. И этот Дзиннай теперь, низко надвинув плетеную шляпу, идет предо мной по чуть белеющей снежной дороге. Разве то, что я могу его видеть, уже само по себе не есть счастье? Но я хотел стать более счастливым.
Когда мы дошли до задней стороны храма Дзёгондзи, я быстро нагнал Дзинная. Здесь тянулся длинный земляной вал, совершенно без жилищ, и для того, чтобы даже днем не попасться людям на глаза, лучшее место трудно было отыскать. Но Дзиннай, увидев меня, не обнаружил ни малейшего страха, спокойно остановился. И, опершись на посох, не проронил ни звука, как будто ожидая моих слов. Я робко опустился перед ним на колени, положив перед собой руки. Но когда я увидел его спокойное лицо, слова застряли у меня в горле.
— Пожалуйста, извините! Я — Ясабуро, сын Ходзёя Ясоэмо-на, — наконец заговорил я с пылающим лицом. — Я пошел за вами вслед, потому что имею к вам просьбу.
Дзиннай только кивнул. Как благодарен был я, малодушный, за это одно! Смелость вернулась ко мне, и, все так же держа руки прямо на снегу, я кратко рассказал ему, что отец выгнал меня из дому, что теперь я вожусь с негодяями, что сегодня ночью я пробрался к отцу с целью воровства, но неожиданно наткнулся на него, Дзинная, и что я слышал всю тайную беседу Дзинная с отцом. Но Дзиннай по-прежнему холодно смотрел на меня, безмолвно сжав губы. Окончив свой рассказ, я немного придвинулся на коленях к нему и впился взглядом в его лицо,
— Добро, оказанное «Дому Ходзёя», касается и меня. В знак того, что я не забуду этого благодеяния, я решил стать вашим подручным. Прошу вас, возьмите меня к себе! Я умею воровать, умею устраивать поджоги. И прочие простые преступления умею совершать не хуже других...
Но Дзиннай молчал. С сильно бьющимся сердцем я заговорил еще горячей:
— Прошу вас, возьмите меня к себе! Я буду работать. Киото, Фусими, Сакаи, Осака — нет мест, которых я бы не знал. Я могу пройти пятнадцать ри в день. Одной рукой подымаю мешок в че-
369
тыре то. И убийства — два-три — уже совершил. Прошу вас, возьмите меня к себе. Ради вас я сделаю все, что угодно. Белого павлина из замка Фусими — если скажете «укради!» — украду. Колокольню храма Санто-Франциско — если скажете «сожги!» — сожгу. Дочь удайдзина — если скажете «добудь!» — добуду. Голову градоправителя — если скажете «принеси!»...
При этих словах меня вдруг опрокинул пинок ноги.
— Дурак!
Бросив это ругательство, Дзиннай хотел было пройти дальше. Но я, как безумный, вцепился в подол его рясы.
— Прошу вас, возьмите меня к себе! Никогда ни за что я от вас не отступлюсь! Ради вас я пойду в огонь и в воду. Ведь даже царя-льва из рассказа Эзопа спасла мышь... Я сделаюсь этой мышью. Я...
— Молчи! Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзипная! — стряхнув мои руки, Дзиннай еще раз пнул меня ногой. — Подлец! Ты бы лучше был добрым сыном!
Когда он во второй раз пнул меня ногой, мною овладела злоба.
— Ладно! Так стану же я твоим благодетелем!
Но Дзиннай, не оглядываясь, быстро шагал по снегу. При свете как раз выплывшей из-за туч луны еле виднелась его плетеная шляпа... И с тех пор я целых два года не видел Дзинная. (Вдруг смеется.) «Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная». Так он сказал. Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзинная.
О, святая матерь Мария-сама! Как страдал я эти два года от желания отплатить Дзиннаго за добро! Нет, не столько за добро, сколько за обиду. Но где Дзиннай? Что он делает? Кому это ведомо? И прежде всего, каков он с виду? Даже этого никто не знал. Переодетый монах, которого я встретил, был невысокого роста, лет около сорока. Но тот, кто приходил в квартал веселых домов в Яна-гимати, — разве это не был тридцатилетний странствующий самурай с усами на красном лице? А согбенный рыжеволосый чужестранец, который, как говорили, произвел переполох на представлении Кабуки, а юный самурай с ниспадающими на лоб волосами, похитивший сокровища из храма Мёкокудзи... Если допустить, что все это был Дзиннай, то, значит, даже установить истинный вид этого человека выше человеческих сил... И тут в конце прошлого года у меня открылось кровохарканье.
Только бы как-нибудь отплатить за обиду!.. Худея, тощая день ото дня, я думал лишь об этом одном. И вот однажды ночью в душе У меня блеснула мысль. О Мария-сама! О Мария-сама! Эту мысль, без сомнения, внушила мне твоя доброта. Всего-навсего лишиться своего тела, своего измученного кровохарканьем тела, от которого
370
остались кожа да кости, — стоит решиться на это одно, и мое единственное желание будет выполнено. В эту ночь, смеясь про себя от радости, я до утра твердил одно и то же: «Мне отрубят голову вместо Дзинная! Мне отрубят голову вместо Дзинная!»
Мне отрубят голову вместо Дзинная! Какие великолепные слова! Тогда, конечно, вместе со мной погибнут и все его преступления. Дзиннай сможет гордо расхаживать по всей обширной Японии. Зато я... (Опять смеется.) Зато я в одну ночь сделаюсь прославленным разбойником. Тем, кто был помощником Сукэдзаэмона на Лусоне. Кто срубил дерево кяра у правителя провинции Бидзэн. Кто был приятелем Рикю Кодзи, кто выманил кораллы у Сямуроя, кто взломал кладовую с серебром в замке Фусими, кто убил восемь самураев Микава... Всей, всей славой Дзинная целиком завладею я! (В третий раз смеется.) Спасая Дзинная, я убью имя Дзинная, платя ему за добро, сделанное семье, я отплачу за свою собственную обиду, — нет радостнее расплаты. Понятно, что от радости я смеялся всю ночь. Даже теперь — в этой темнице — могу ли я не смеяться!
Задумав такую хитрость, якобы с целью кражи я забрался в императорский дворец. Помнится, был вечер, полутьма, через бамбуковые шторы просвечивал огонь, среди сосен белели цветы. Но когда я спрыгнул с крыши галереи в безлюдный сад, вдруг, как я и надеялся, меня схватили самураи из стражи. И тогда-то оно и случилось. Поваливший меня бородатый самурай, крепко связывая меня, проворчал: «Наконец-то мы поймали Дзинная!» Да. Кто же, кроме Амакава Дзинная, заберется воровать во дворец? Услыхав эти слова, я даже в тот миг, извиваясь в стянувших меня веревках, невольно улыбнулся.
«Не тебе, мальчишка, быть благодетелем Дзинная!» Так он сказал. Но завтра на рассвете меня убьют вместо Дзинная. О, как сладко бросить это ему в лицо! С выставленной на позор отрубленной головой я буду ждать его прихода. И в этой голове Дзиннай непременно почувствует безмолвный смех. «Ну как, Ясабуро отплатил за добро? — вот что скажет ему этот смех. — Ты больше не Дзиннай: Амакава Дзиннай — вот эта голова! Она — этот знаменитый по всей стране, первый в Японии великий вор». (Смеется.) О, я счастлив! Так счастлив я первый раз в жизни. Но если мою голову увидит отец Ясоэмон... (Горько.) Простите меня, отец! Если бы даже мне не отрубили голову, я, больной чахоткой, не прожил бы и трех лет. Прошу вас, простите, что я был дурным сыном. Я родился непутевым, но ведь как-никак сумел отплатить за добро, оказанное нашей семье...
Март 1922 г.
371
Дорогие читатели!
Сейчас я нахожусь в Осака и поэтому расскажу вам одну из здешних историй.
В старину жил один человек. Он пришел в город Осака наниматься на службу. Полное его имя неизвестно, и поскольку он пришел из деревни, чтобы поступить в услужение, его называли, говорят, просто Гонскэ.
Пройдя за занавеску конторы по найму слуг, Гонскэ обратился с просьбой к чиновнику, сосавшему трубку с длинным чубуком.
— Господин чиновник, я хочу стать святым. Определите меня на такое место, где бы я мог им стать.
Чиновник так и остался сидеть, не в силах произнести ни слова, будто его хватил солнечный удар.
— Господин чиновник1 Не слышите, что ли? Я хочу стать святым и поэтому прошу подыскать мне подходящую службу.
Чиновник наконец пришел в себя.
— Искренне сожалею, — промолвил он, снова принимаясь сосать свою трубку, — но дело в том, что нашей конторе еще ни разу не приходилось определять кого-нибудь в святые. Может быть, вы обратитесь в другое место?
Но Гонскэ, с недовольным видом выставив вперед колени, обтянутые светло-зелеными штанами, стал протестовать.
— Что-то вы не то говорите. Разве вы не знаете, что написано на вывеске вашей конторы? Разве не говорится там: «Определяем на любую службу»? А раз пишете «на любую», значит, и должны устраивать на любую, какую бы от вас ни потребовали. Или ваша вывеска только для того, чтобы людей обманывать?
Действительно, если взглянуть на дело с этой стороны, то у Гонскэ были все основания возмущаться.
— Нет, на нашей вывеске все сущая правда, — поспешил уверить его чиновник. — И если уж вы непременно хотите, чтобы мы подыскали вам службу, где можно стать святым, зайдите завтра. А мы постараемся сегодня разузнать, нет ли поблизости чего-нибудь подходящего.
И чтобы хоть как-нибудь оттянуть время, чиновник принял просьбу Гонскэ. Но откуда было ему энать, на какой службе можно выучиться ремеслу святого? Поэтому, едва выпроводив Гонскэ, чиновник сразу же отправился к лекарю, жившему неподалеку. Изложив ему суть дела, он обеспокоенно спросил:
— Как же быть? Не знаете ли вы, сэнсэй, куда лучше определить человека, чтобы он выучился на святого?
372
Такой вопрос, естественно, и лекаря поставил в тупик. Некоторое время он сидел, скрестив руки, тупо уставившись на сосну во дворе. Но тут вступила в разговор злая жена лекаря, по прозвищу «Старая лиса», которая слышала рассказ чиновника:
— А вы его к нам присылайте. В нашем доме он за два-три года наверняка узнает все, что нужно, чтобы стать святым, — уверила она чиновника.
— Да что вы говорите? — обрадовался тот. — Как хорошо, что я зашел к вам! Премного благодарен! Я всегда чувствовал, что у вас, врачей, есть что-то общее со святыми!
И невежественный чиновник, отвешивая поклон за поклоном, удалился.
Лекарь с кислой миной выпроводил чиновника, а затем обрушился с проклятьями на жену:
— Что за чушь ты тут нагородила? Вообрази, что будет, если этот деревенщина поднимет скандал, убедившись, что, сколько бы лет он ни прожил у нас, никакого секрета бессмертия не узнает?
Однако жена и не думала оправдываться.
— Помолчал бы лучше. С таким честным дураком, как ты, в этом жестоком мире и на чашку риса не заработаешь, — презрительно усмехаясь, парировала она упреки мужа.
Итак, на следующий день, как и было договорено, бывший деревенский житель Гонскэ в сопровождении чиновника явился в дом лекаря. На этот раз на нем было хаори с гербами, — наверное, он считал, что так и полагается быть одетым, когда приходишь в первый раз знакомиться, — и теперь он по виду ничем не отличался от простого крестьянина. Как раз этого-то, видимо, никто и не ожидал. Лекарь так и уставился на Гонскэ, словно перед ним был диковинный зверь из заморских краев. Пристально глядя в глаза Гонскэ, он подозрительно спросил:
— Говорят, ты хочешь стать святым. А почему, собственно, у тебя появилось такое желание?
— Да никакой особой причины нет. Просто, глядя как-то на Осакский замок, я подумал, что даже такие выдающиеся люди, как Тоётоми Хидэёси, в конце концов все-таки умирают. Выходит, что человек, как бы ни велики были его дела, все равно умрет.
— Значит, ты готов выполнять любую работу, только бы стать святым? — воспользовавшись моментом, вмешалась в разговор хитрая лекарша.
— Да, чтобы стать святым, я согласен на любую работу.
— Тогда поступай ко мне на службу сроком на двадцать лет, и на последнем году я обучу тебя искусству святого.
— Да что вы говорите? Вот уж счастье-то мне привалило! Премного вам благодарен.
373
— Но все двадцать лет ты будешь за это служить мне, не получая ни гроша платы.
— Хорошо, хорошо, я согласен!
С той поры Гонскэ двадцать лет работал на лекаря. Воду носил. Дрова колол. Обед варил. Дом и двор подметал. И вдобавок таскал ящик с лекарствами за лекарем, когда тот выходил из дому. И при этом он ни разу не попросил ни гроша за свою службу. Такого бесценного слуги не сыскать было во всей Японии.
Но вот прошло наконец двадцать лет, и Гонскэ, надев, как и в первый день своего прихода, хаори с гербами, предстал перед хозяином и хозяйкой. Он почтительно поблагодарил их за все, что они для него сделали в эти прошедшие двадцать лет, и сказал:
— А теперь мне хотелось бы, чтобы вы, по нашему давнему уговору, научили меня искусству святого — быть нестареющим и бессмертным.
Просьба Гонскэ привела лекаря в замешательство: он не знал, что ответить слуге. Ведь нельзя же теперь, после того как Гонскэ прослужил двадцать лет, не получив ни гроша, сказать ему, что, мол, искусству святого они научить его не могут. Ничего не оставалось лекарю, как холодно ответить:
— Это ведь не я, а моя жена знает секрет, как стать святым. Пусть она тебя и научит.
И, сказав это, лекарь отвернулся от Гонскэ. Однако жена его и глазом не моргнула.
— Что ж, я научу тебя секретам святого, но ты должен будешь исполнить в точности все, что я тебе велю, как бы трудно это ни было. Если же ты не исполнишь хотя бы один мой приказ, ты не только не станешь святым, но должен будешь служить мне без всякой платы еще двадцать лет. Иначе тебя постигнет страшная кара, и ты умрешь.
— Слушаюсь! Я постараюсь в точности исполнить все, что вы изволите приказать, как бы трудно это ни было.
Гонскэ, радуясь всей душой, ждал, что прикажет ему сделать хозяйка.
— В таком случае заберись на сосну, что растет во дворе, — последовал припае лекарши. Разумеется, она не могла знать никакого секрета, как стать святым. Просто она хотела, наверное, дать Гонскэ очень трудный, невыполнимый приказ и заставить его служить задаром еще двадцать лет. Однако едва Гонскэ услышал слова хозяйки, как тотчас же вскарабкался на сосну.
— Выше! Еще, еще выше! — командовала лекарша, стоя на краю веранды и глядя на Гонскэ, взбиравшегося на дерево.
И вот уже хаори Гонскэ с гербами развевается на самой верхушке высокой сосны, растущей во дворе дома лекаря.
374
— Теперь отпусти правую руку!
Гонскэ, изо всех сил уцепившись левой рукой за толстый сук, осторожно разжал правую руку.
— Теперь отпусти и левую руку!..
— Эй, подожди! — раздался голос лекаря. — Ведь стоит этому деревенщине отпустить левую руку, как он тут же шлепнется на землю. Там ведь камни, и ему наверняка не уцелеть.
И на веранде появился лекарь со встревоженным лицом.
— Не суйся не в свое дело! Положись во всем на меня. ...Так отпускай же левую руку!
Не успели замолкнуть эти слова лекарши, как Гонскэ, собравшись с духом, отпустил и левую руку. Что ни говори, трудно рассчитывать, чтобы человек, взобравшийся на самую верхушку дерева, не упал, если отпустит обе руки. И в самом деле, в тот же миг фигура Гонскэ в хаори с гербами отделилась от вершины сосны. Но, оторвавшись от дерева, Гонскэ вовсе не думал падать на землю — чудесным образом замер он неподвижно среди светлого неба, словно кукла в спектакле «дзёрури».
— Премного вам благодарен за то, что вашими заботами и я смог причислиться к лику святых.
Произнеся с вежливым поклоном эти слова, Гонскэ спокойно зашагал по синему небу и, удаляясь все дальше и дальше, скрылся, наконец, в высоких облаках...
Что потом стало с лекарем и его женой, никто не знает. Сосна же, что росла во дворе их дома, прожила еще очень долго. Говорят, что сам Тацугоро Ёдоя велел специально пересадить это огромное, в четыре обхвата, дерево в свой сад, чтобы любоваться им, когда оно покрыто снегом.
Март 1922 г.
То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции.
Лет десять после реставрации сад кое-как сохранял свой прежний вид. И пруд в форме тыквы-горлянки оставался прозрачным, и ветви сосен свешивались с искусственных горок. Целы были и беседки — «Хижина залетной цапли», «Павильон омовения сердца»; с уступов гор, ограждавших пруд с задней его стороны, по-прежнему белея, сверкая, низвергались водопады. И в зарослях желтого шиповника, разраставшихся год от года, все еще стоял каменный
375
фонарь, которому, как говорили, название было пожаловано по случаю высочайшего приезда принцессы Кадзу. И все-таки не скрыть было каких-то примет запустения. Особенно ранней весной, в те дни, когда и в саду, и вокруг него на деревьях набухали почки, еще более явственно ощущалось, как из-за этого созданного человеческими руками живописного вида надвигается неведомая, тревожная, дикая сила.
Ушедший на покой глава семьи Накамура, грубый с виду старик инкё, тихо проводил свои дни с женой, страдавшей паршой, у очага в главном доме, обращенном к саду, играя в го или цветочные карты. Время от времени случалось, что старуха жена раз пять-шесть подряд обыгрывала его, и тогда он вскипал и сердился. Старший сын, к которому перешло главенство в семье, с молодой женой — своей двоюродной сестрой — жил в тесном флигеле, сообщавшемся с-главным домом посредством галереи. Сын, принявший для писания хайку псевдоним Бунсицу, был вспыльчивый, несдержанный человек. Не только больная жена и младшие братья, это уж само собой, — его побаивался даже старик инкё. Иногда приходил к нему в гости нищенствующий поэт Сэйгэцу, живший тогда на этой станции. Старший сын почему-то с ним одним обращался приветливо, угощал сакэ, усаживал писать стихи. Сохранились от того времени такие строфы: «На горах еще / Аромат цветов и трав / И кукушки зов» (Сэйгэцу). «Там и сям средь груды скал / Водопадов светлый блеск» (Бунсицу). Было еще два сына: средний ушел зятем в семью родственника-рисоторговца, младший служил у крупного водочного заводчика в городе, расположенном в пяти-шести ри от станции, где они жили. Оба, точно сговорившись, редко показывались в родном доме. Младший сын и жил далеко, и, помимо того, издавпа был не в ладах с главой семьи; средний сын вел разгульную жизнь и даже в семье жены почти не появлялся.
А сад через два-три года запустел еще больше. На поверхности пруда стали покачиваться водоросли. Среди зеленых насаждений появились сухие деревья. Тем временем в жаркое, засушливое лето старик отец умер от удара. Дней за пять до этого, когда он пил свою настойку в «Павильоне омовения сердца», по ту сторону пруда то и дело появлялся какой-то кугэ, весь в белом, — так, по крайней мере, ему померещилось среди дня. На следующий год поздней весной средний сын, захватив деньги своих приемных родителей, бежал с прислужницей из чайного дома. А осенью его жена родила недоношенного мальчика.
После смерти отца старший сын поселился с матерью в главном доме. Освободившийся флигель снял директор местной школы. Директор был приверженцем утилитаризма, теории Фукудзава
376
Юкити, и поэтому постоянно уговаривал старшего сына насадить в саду фруктовые деревья. С тех пор весной в саду среди привычных ив и сосен пестрели цветы финиковых слив, персиков, абрикосов. Прогуливаясь по новому фруктовому саду, директор школы иногда обращался к старшему сыну: «Смотрите, здесь можно отлично любоваться цветами... Одним выстрелом двух зайцев...» Но искусственные холмы, пруд, беседки из-за этого приняли еще более жалкий вид. К естественному разрушению присоединилось еще и разрушение, произведенное, как говорится, руками человеческими.
Осенью на горах за прудом вспыхнул давно уже не случавшийся пожар. С тех пор низвергавшиеся в пруд водопады совершенно пересохли, и сразу вслед за этой бедой заболел с первым снегом сам глава семьи. Как сказал врач, у него открылась по-старому — чахотка, по-нынешнему — туберкулез. Больной то лежал, то вставал и становился все более раздражительным. Дошло до того, что, жестоко поспорив с младшим братом, который пришел поздравить его с Новым годом, он швырнул в него грелкой для рук. С тех пор младший брат больше домой не приходил и даже, когда старший брат умер, не показался. Старший брат прожил еще около года и, окруженный неусыпной заботой жены, скончался под навешенной над постелью сеткой от комаров. «Лягушки кричат... Что с Сэйгэцу?» — были последние его слова. Но Сэйгэцу уже давным-давно, словно ему наскучили виды этой местности, не приходил даже за подаянием.
После того как отметили годовщину смерти старшего сына, младший женился на дочери своего хозяина. И, воспользовавшись тем, что директора начальной школы, снимавшего флигель, перевели в другое место, он с молодой женой перебрался туда. Во флигеле появились черные лаковые комоды, комната украсилась свертками розовой и белой ваты... Но в это время в главном доме заболела жена покойного старшего сына. Болезнь ее была та же, что и у мужа. Лишившийся отца, единственный ребенок Рэнъити, с тех пор как мать стала харкать кровью, всегда спал у бабушки. Бабушка перед сном непременно повязывала голову полотенцем. Тем не менее на запах парши поздней ночью к ней подбирались крысы. Случалось, что она забывала о полотенце, и тогда, конечно, крысы кусали ей голову. К концу года жена покойного старшего брата скончалась тихо, как гаснет лампада. А на другой день после похорон от сильного снегопада рухнула стоявшая у горы «Хижина залетной цапли».
И когда опять наступила весна, весь сад превратился в зеленеющие почками заросли, где только и виднелась у мутного пруда тростниковая кровля «Павильона омовения сердца».
377
Однажды, в сумерки пасмурного дня, на десятый год после своего бегства, средний сын вернулся в отчий дом. Отчий дом, хотя он и назывался так, на самом деле был все равно что дом младшего сына. Младший брат встретил блудного брата как ни в чем не бывало — без особого неудовольствия, но и без особой радости.
С тех пор средний брат в «комнате будд» в главном доме, вытянув на полу свое зараженное дурной болезнью тело, молчаливо и неподвижно следил за огнем очага. В этой комнате в божнице стояли таблички с именами покойных отца и старшего брата. Он задвигал дверцы перед божницей, чтобы не видеть этих табличек. И уж, разумеется, ни с матерью, ни с младшим братом и его женой он, если не считать того, что они три раза в день встречались за общим столом, почти совсем не видался. Лишь сирота Рэнъити иногда заходил к нему в комнату поиграть. Он рисовал мальчику на грифельной доске горы, корабли. И иногда неверной рукой набрасывал смутные обрывки старинной песенки: «Расцвели на Мукодзима вишни. Выйди, нэйсан, из чайного дома...))
И опять наступила весна. В саду среди разросшихся кустов и деревьев скудно цвели персики и абрикосы. В тускло поблескивающем пруду отражался «Павильон омовения сердца». Но средний брат по-прежнему сидел один взаперти у себя в комнате и даже днем большей частью дремал. И вот однажды до его слуха донесся слабый звук сямисэна. И в то же время запел чей-то прерывистый голос: «Тогда случилось так... / В битве при Сува / Мацумото родич, князь / Ёсиэ-сама / У орудий в крепости / Соизволил быть...» Он, все так же лежа, приподнял голову: и пение и сямисэн — это, несомненно, его мать поет в столовой. «Пышен был его наряд. В этот ясный день / Величавой поступью / Вышел на врага / Славный воин и герой. / По всему видать...» Мать все пела, вероятно, внуку шуточные песни с лубочных картинок Оцу. А это была песенка, которая считалась модной лет двадцать — тридцать назад и которой ее покойный муж, этот грубый с виду старик, выучился у какой-то ойран. «Вражья пуля просвистит, / Грудь его пробьет, / Ах, не миновать того — / Жизнь бренная его / У моста Тоё, / Как росинка на траве, / Хоть и пропадет, / До скончания веков / Имя будет жить...» На давно не бритом лице сына удивленно блеснули глаза.
Через два-три дня младший брат обнаружил, что средний брат копает землю у заросшей подбелом искусственной горки. Он, задыхаясь, неумело взмахивал киркой. В его усилиях, на первый взгляд смешных, чувствовалось упорство. «Братец, что вы делаете?» — окликнул его младший брат, подходя сзади с папиросой в зубах.
378
«Я? — Средний брат в замешательстве поднял глаза на младшего. — Хочу провести здесь проток». — «Провести проток — это зачем же?» — «Хочу сделать сад, чтобы он был как раньше». Младший брат усмехнулся и больше ничего не спросил.
Средний брат каждый день, с киркой в руках, усердно работал над протоком. Но для него, истощенного болезнью, это было делом нелегким. Он быстро уставал. От непривычной работы у него появились мозоли, ломались ногти, все тело ныло. Иногда он бросал кирку и как мертвый валился наземь. А вокруг него, среди окутывавших сад испарений, дышали влагой цветы и молодые побеги. Отдохнув несколько минут, он вставал и опять, пошатываясь, упрямо брался за работу.
Но дни шли за днями, а в саду не видно было значительных перемен. В пруду по-прежнему густо зеленели водоросли, среди деревьев и кустов торчали засохшие ветки. Особенно после того, как отцвели фруктовые деревья, сад казался, пожалуй, еще более заглохшим, чем раньше. К тому же в доме ни стар, ни млад не сочувствовали затее среднего брата. Младший брат, одержимый духом спекуляции, был поглощен мыслями о ценах на рис ж на шелковичные коконы. Его жена питала чисто женское отвращение к болезни деверя. Мать... мать боялась, как бы это копанье в земле не повредило его здоровью. И все-таки средний брат, вопреки людям и природе, упорно мало-помалу переделывал сад.
Однажды утром, выйдя после дождя, он увидел, что Рэнъити выкладывает камешками края протока, с которых над водой свешивались листья подбела. «Дядюшка! — Рэнъити весело смотрел на него. — Давайте я вам буду помогать!» — «Что ж, помогай!» Средний брат улыбнулся ему в ответ светлой улыбкой, как давно уже не улыбался. С тех пор Рэнъити неотлучно и горячо помогал дяде. А тот, усевшись перевести дух в тени деревьев, чтобы развлечь племянника, рассказывал ему о разных удивительных вещах — о море, о Токио, о железной дороге. Рэнъити грыз зеленые сливы и слушал его как завороженный.
В этом году в «сезон дождей» дождей выпадало мало. Они — старый инвалид и ребенок, не поддаваясь ни палящим лучам солнца, ни испарениям от зелени, копали пруд, рубили деревья и все расширяли границы своей работы. Однако, хотя внешние препятствия они кое-как преодолевали, с внутренними им было не совладать. Средний брат мог представить себе старый сад лишь смутно, как сквозь сон. Как были рассажены деревья, как были проложены дорожки — стоило ему начать припоминать, и все расплывалось. Иногда в разгаре работ он вдруг опирался на кирку и рассеянно озирался по сторонам. Рэнъити сейчас же подымал на него встревоженные глаза. «В чем дело?» — «Что тут было раньше? —
379
растерянно бормотал про себя вспотевший дядя. — Мне кажется, что этого клена здесь не было». Рэнъити грязными ручонками давил муравьев, и только.
Внутренние препятствия этим не ограничивались. По мере того как лето подходило к концу, у среднего брата, вероятно, от беспрерывной непосильной работы, стало мутиться в голове. Часть пруда, которую он сам же выкопал, он засыпал землей; на то самое место, откуда вырывал сосну, он сажал другую — все это с ним теперь случалось не раз. Особенно рассердило Рэнъити, что на колья для пруда он срубил ивы, росшие у самой воды. «Ведь эти ивы вы сами только недавно посадили!» Рэнъити с досадой глядел на дядю. «Правда? Я стал совсем беспамятным!» И дядя угрюмо смотрел на залитый солнцем пруд.
И все-таки, когда настала осень, заросли подстриженных кустов и трав придали саду очертания, смутно напоминавшие прежние. Конечно, не приходилось сравнивать его с прежним: и «Хижины залетной цапли» больше было не видать, и водопады уже не низвергались с гор. Да и вообще весь созданный знамепитым садоводом дух старинного изящества исчез почти бесследно. Но сад все-таки существовал. В прозрачной воде пруда еще раз отразились искусственные горки. И сосны еще раз величественно распростерли свои ветви перед «Павильоном омовения сердца». Но в то самое время, когда сад был восстановлен, средний сын слег. Жар держался день за днем, все суставы ломило. «Зря усердствовал!» — снова и снова причитала мать, сидевшая у его изголовья. Но он был счастлив. Конечно, в саду оставались места, которые ему еще хотелось подправить. Однако с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, он потрудился недаром. И он чувствовал себя удовлетворенным. Десятилетний труд научил его покорности судьбе, покорность судьбе спасла его.
В конце осени средний брат незаметно для всех испустил последний вздох. Обнаружил это Рэнъити. Он с громким криком побежал по галерее к флигелю. Сейчас же к покойнику с испуганными лицами собралась вся семья. «Посмотри, братец как будто улыбается!» — обернулся младший брат к матери, «О, сегодня дверца божницы открыта!» — заметила его жена, не глядя на покойника.
После похорон дяди Рэнъити часто сиживал один у «Павильона омовения сердца». Всегда, словно в недоумении, глядя на осенние деревья и воды...
То был сад старинной семьи Накамура, управителей дома для знатных проезжих при почтовой станции. Не прошло и десяти лет с тех пор, как был восстановлен его прежний вид, и сад погиб
380
опять, на этот раз вместе со всей семьей. На месте погибшего сада выстроили железнодорожную станцию, перед станцией открылся маленький ресторан.
Из семьи Накамура к этому времени здесь никого не осталось. Мать, конечно, уже давным-давно присоединилась к отошедшим. Младший брат, разорившись, уехал куда-то в Осака.
Поезда каждый день приходили и уходили. На станции за большим столом сидел молодой начальник. На необременительной службе в свободные от дела часы он смотрел на голубые горы, разговаривал с местными служащими. В этих разговорах о семье Накамура никогда не упоминалось. А что на том самом месте, где они сейчас стоят, когда-то были беседки и искусственные горки, — об этом тем более никто и не думал.
А в это время Рэнъити сидел за мольбертом в студии европейской живописи в Акасака, в Токио. Свет, падавший через стеклянный потолок, запах масляных красок, натурщица в прическе «мо-моварэ» — вся обстановка студии не имела ничего общего с родным домом его детства. Но иногда, когда он водил кистью по холсту, в его душе всплывало грустное стариковское лицо. И это лицо, улыбаясь, говорило ему, усталому от беспрерывной работы: «Ты еще ребенком помогал мне. Давай теперь я помогу тебе!»
Рэнъити и теперь, в бедности, по-прежнему пишет картины. О младшем брате никто ничего не слыхал.
Июнь 1922 z.
1
Отец барышни Рокуномия происходил из древнего знатного рода. Но, будучи человеком старого склада, отсталым от века, он по чипу не пошел дальше звания хёбунодайю. Барышня жила с отцом и матерью в невысоком доме недалеко от Рокуномия, и прозвали ее барышней Рокуномия, по названию этой местности.
Родители баловали ее. Однако, тоже по старому обычаю, никому не показывали. Они только горячо надеялись, что кто-нибудь посватается к их дочери. И барышня проводила свои дни чинно, скромно, как учили ее отец с матерью. То было существование без всяких горестей, зато и без всяких радостей. Но барышня, совсем не знавшая жизни, не чувствовала себя неудовлетворенной. «Только бы отец с матерью были здоровы!» — думала она.
381
Вишни, склонявшиеся над самым прудом, год за годом скудно покрывались цветами. Между тем красота барышни как-то сразу приобрела оттенок зрелости. Отец, ее опора, пристрастившись в старости к сакэ, внезапно скончался. Через полгода от непрестанных сетований по невозвратному за ним последовала и мать. Барышня не так опечалилась, как растерялась. В самом деле, у нее, взлелеянной дочери, на всем свете не осталось, кроме кормилицы, ни одной близкой души.
Кормилица мужественно, не щадя своих сил, трудилась ради барышни. Но хранившиеся из рода в род перламутровые шкатулки и серебряные курильницы одна за другой исчезали из дома. В то же время стали уходить слуги и прислужницы. Барышня тоже мало-помалу начала понимать трудности жизни. Но помочь делу ей было не под силу. И в унылых покоях барышня, совсем как в былые времена, проводила время все за теми же однообразными развлечениями — играла на кото, слагала танка.
И вот однажды осенью, в сумерки, кормилица подошла к барышне и медленно, с расстановкой, сказала ей так:
— Просил меня мой племянник-монах: говорит, что некий благородный человек, прежний правитель провинции Тамба, просит дозволения повидаться с вами. Собой он хорош, и душа у него добрая, и отец его чином высок, а родом он из близкой ко двору знати — так не соизволите ли свидеться с ним? Все лучше, чем жить в таком стеснении...
Барышня тихонько заплакала. Отдаться этому человеку — все равно что продать свое тело ради спасения от постылой нужды. Конечно, она знала, что на свете и это часто случается. Но когда так сложилось у нее самой, печаль ее была велика. И, сидя против кормилицы, барышня под свист ветра, проносящегося в листьях пуэрарии, долго прикрывала лицо рукавом...
2
Все же она стала каждую ночь встречаться с этим кавалером. Кавалер, как и говорила кормилица, обладал мягким правом. И лицом и осанкой он был изящен, как ему и приличествовало быть. А кроме того, почти всем было ясно, что ради красоты барышни он забывал обо всем на свете. Барышня, конечно, тоже не питала к нему неприязни. По временам она даже думала о нем как о своей опоре. Но когда, жмурясь от света светильников, она лежала с ним ночью на ложе за ширмой с бабочками и цветами, она ни разу не чувствовала радости.
Тем временем в доме мало-помалу становилось веселей. По-
382
явились новые черные лаковые полки и бамбуковые шторы; прибавилось слуг; кормилица, разумеется, вела хозяйство бодрее, чем раньше. Но, даже видя все эти перемены, барышня только грустила.
Однажды в дождливую ночь, сидя с барышней за сакэ, кавалер рассказал ей страшную историю, случившуюся, по его словам, в провинции Тамба. Некие путники по дороге из столицы в Идзу-модзи заночевали у подножья горы Оэяма. Жена хозяина гостиницы как раз в ту ночь благополучно родила девочку. И вот путники увидали, как из комнаты роженицы быстрыми шагами вышел какой-то никому не ведомый мужчина. Проронив только: «От роду восьми лет... наложит на себя руки...» — он вдруг исчез. Через восемь лет путники, на этот раз по дороге в Киото, заночевали в том же доме. И что же? В самом деле оказалось, что девочка в возрасте восьми лет погибла странной смертью. Падая с дерева, она наткнулась горлом на серп. Вот о чем рассказал кавалер.
Услыхав этот рассказ, барышня ужаснулась тщете человеческой жизни. По сравнению с судьбой той девочки — жить, имея опорой кавалера, без сомнения, было еще счастьем. «Надо все предоставить судьбе — что мне еще остается?» Думая так, она пленительно улыбалась.
Ветви нависших над кровлей сосен не раз сгибались под тяжестью снега. Барышня днем, как в былые времена, перебирала струны кото или играла в сугороку, а по ночам, разделяя ложе с кавалером, слушала, как утки садятся на пруд. То было время почти без горестей, зато почти и без радостей. Но барышне такой унылый покой по-прежнему приносил призрачное удовлетворение.
Однако и этому покою нежданно быстро пришел конец. Однажды ночью ранней весною кавалер, оставшись с барышней наедине, с усилием промолвил:
— Встречаюсь я с вами последнюю ночь.
Его отец получил новое назначение правителем провинции Муцу. И кавалер тоже должен был уехать с отцом в эту снежную глушь. Конечно, расставаться с барышней ему было тяжелее всего. Но так как он сделал ее своей женой тайно от отца, то теперь открыться ему было не время. Он долго-долго говорил ей об этом, перемежая слова вздохами.
— Но через пять лет срок службы истечет. Ждите, не тоскуя. Барышня лежала ничком и плакала. Расстаться с кавалером,
о котором она думала хотя и без любви, но как о своей опоре, было ей несказанно горестно. Кавалер, гладя барышню но спине, утешал ее и ободрял. Но у него самого на каждом втором слове голос дрожал от слез.383
Тут ничего не подозревающая кормилица в сопровождении молодой служанки принесла подносы и кувшинчики с сакэ. Принесла, рассказывая о том, что на вишнях, склонившихся над старым прудом, распустились почки...
3
Прошло пять лет, и снова наступила весна. Но кавалер, уехавший в северные края, так и не вернулся в Киото. За это время слуги все до единого разбрелись кто куда, а покои, в которых жила барышня, как-то раз во время бури рухнули. С тех пор жилищем барышни, а с ней вместе и кормилицы, стала боковая пристройка для слуг. Хотя пристройка называлась жилищем, но была тесна и запущена и лишь кое-как служила защитой от дождя и росы. Когда они перебрались в эту пристройку, кормилица от жалости не могла смотреть на барышню без слез. Но бывало и так, что она беспричинно сердилась.
Жилось им, конечно, тяжело. Резные шкафчики давным-давно исчезли, зато бывали у них овощи и рис. Теперь и из одежды у бат рышни не оставалось ничего, кроме того, что было надето на ней. Случалось даже, что, когда не хватало дров, кормилица отрывала доску у полусгнившего дома. Но барышня, как в былые времена, отдыхала душой за кото и танка и неустанно ждала кавалера.
И вот осенью того же года в лунный вечер кормилица подошла к барышне и медленно, с расстановкой, сказала ей так:
— Его светлость, наверное, не вернется. Что, если бы вы соизволили позабыть его светлость? Кстати, некий младший управитель лекарского приказа не дает мне проходу, домогаясь встречи с вами...
Слушая эти слова, барышня вспомнила то, что произошло шесть лет назад. Шесть лет назад ей было так грустно, что, сколько она ни плакала, никак не могла наплакаться. Но теперь и телом и душой она слишком устала. «Лишь бы спокойно состариться...» — больше она не думала ни о чем. Выслушав кормилицу, она подняла исхудалое лицо к белой луне и скорбно покачала головой:
— Мне больше ничего не нужно. Жить ли, умереть ли — мне все равно.
* * *
Как раз в этот же час кавалер в далекой провинции Хитати пил сакэ с новой женой. Жена пришлась отцу по нраву: она была дочь правителя этой провинции.
384
— Что это, слышишь? — сказал кавалер, вдруг испуганно подняв взгляд к карнизу крыши, залитому ровным лунным светом В эту минуту перед глазами у него почему-то ясно встал образ барышни.
— Должно быть, каштан упал.
Ответив так, жена из Хитати неуклюже наклонила над чаркой кувшинчик с сакэ.
Кавалер вернулся в Киото через девять лет поздней осенью. По дороге в Авадзу он с женой из Хитати и ее родней, чтобы переждать неблагоприятный по приметам день, несколько задержался. В Киото они намеренно прибыли в сумерки, чтобы не привлекать внимания людей. Живя в глуши, кавалер раза два-три посылал киотоской жене нежные письма. Но один гонец не являлся обратно, другой возвращался, не найдя барышни, и кавалер ни разу не получил ответа. Поэтому, когда он приехал в Киото, любовь его разгорелась еще сильней. Едва препроводив благополучно жену во дворец отца, он в тот же час, даже не переодевшись с дороги, отправился к Рокуномия.
Когда он пришел к Рокуномия, он увидел, что и ворота на четырех столбах, и дом, крытый корой дерева хиноки, и покои барышни — все исчезло, осталась лишь груда обломков. Кавалер стоял по колено в траве и растерянно обводил взором то место, где когда-то был сад. Там в полузасыпанном пруду появилось немного осоки. В сиянии молодого месяца осока тихо шелестела.
Неподалеку от бывшего помещения дворецкого он заметил покосившийся дощатый домик. Когда он подошел ближе, там как будто мелькнула чья-то тень. Вглядываясь в темноту, он тихо позвал. Тогда на лунный свет, пошатываясь, вышла старая монахиня, показавшаяся ему как будто знакомой.
Когда кавалер назвал себя, монахиня долго плакала, не говоря ни слова. Потом прерывающимся голосом она рассказала ему о барышне.
— Ваша милость, верно, меня позабыли. Я мать женщины, что была в услужении у госпожи. Дочь прислуживала еще пять лет после того, как ваша милость изволили отбыть из Киото. А тут сошлось так, что она с мужем поехала в Тадзима, и я тогда попросила отпустить меня вместе с дочерью. Но недавно я забеспокоилась, что теперь с барышней, и одна поехала в Киото. И что ж, как изволите видеть — ведь даже дом и тот пропал. Где теперь барышня, я, право, давно уже не знаю, что и думать. Ваша милость,
13 Акутагава Рюноскэ
385
вероятно, не знает, что, когда дочь моя была в услужении, барышне жилось так худо, что и сказать нельзя...
Выслушав все, кавалер сиял одну из своих нижних одежд и отдал этой согбенной монахине. И затем, понурив голову, молча зашагал прочь.
5
Начиная с утра следующего дня кавалер в поисках барышни исходил всю столицу. Но ни где барышня, ни что с ней, ему так и не удалось узнать.
И вот несколько дней спустя под вечер он стоял, укрываясь от струя дождя, под навесом Западной галереи перед воротами Судзакумон. Кроме него, там пережидал дождь еще какой-то монах, похожий на нищего. Дождь печально накрапывал сквозь просвет покрытых лаком ворот. Поглядывая уголком глаз на монаха, кавалер, стараясь рассеять досаду, ходил взад и вперед по каменным плитам. Вдруг слух его уловил, что за решеткой полутемного окна галереи кто-то есть. Он равнодушно кинул взгляд в окно.
Там монахиня, оправляя дырявые циновки, ухаживала за больной женщиной. Даже в слабом свете сумерек лицо женщины казалось до ужаса изможденным. Но довольно было одного взгляда, чтобы узнать в ней барышню. Кавалер хотел с ней заговорить. Но так жалок был ее облик, что голос его оборвался. А она, не зная о том, что он рядом, ворочаясь на дырявой циновке, с мучительным усилием произнесла такую танка:
| У изголовья
Со свистом дует в щели Холодный ветер. А ты все стерпишь, тело, Игрушка бренной жизни... |
Услыхав этот голос, кавалер невольно произнес имя барышни. Барышня подняла голову. Но едва она увидела кавалера, как со слабым криком снова упала ничком на циновку. Монахиня — ее верная кормилица — вместе с вбежавшим кавалером испуганно бросилась ее поднимать. Но когда, поддерживая ее за плечи, они приподняли ее и взглянули ей в лицо, не только кормилица, но и кавалер испугались еще больше.
Кормилица, точно обезумев, кинулась к нищему монаху и попросила его прочесть молитвы над умирающей. Монах согласился и сел у изголовья барышни. Но вместо того, чтобы читать молитвы, он обратился к ней с такими словами:
— Жизнь и смерть не во власти человека. Не щадя сил, прививай будду Амида.
386
Поддерживаемая кавалером, барышня стала чуть слышно возглашать имя будды. Но сейчас же испуганно устремила глаза на темный потолок.
— Ах, там огненная колесница!
— Не бойся! Молись будде, и снизойдет на тебя благо. Монах слегка возвысил голос. Немного погодя барышня, словно грезя наяву, пробормотала:
— Я вижу золотой лотос. Огромный лотос, похожий на священный зонт.
Монах хотел что-то сказать, но не успел. Барышня прерывающимся голосом проговорила:
— Уже не вижу лотоса. Теперь темно, только ветер свистит во тьме.
— Всем сердцем призывай будду. Отчего не призываешь ты будду?
Монах говорил почти гневно. Но барышня, словно при последнем издыхании, повторяла все то же:
— Ничего... ничего не вижу. Темно... Только ветер... только холодный ветер свистит во тьме.
Кавалер и кормилица, глотая слезы, поминали вполголоса имя Амида. Монах, набожно сложив руки, помогал барышне молиться. И так, при словах молитвы, мешавшихся с шумом дождя, на дырявой циновке барышня мало-помалу отошла в царство смерти...
6
Через несколько дней в лунную ночь оборванный монах, призывавший барышню молиться, опять сидел, обхватив колени, в Западной галерее перед воротами Судзакумон. По освещенной луной дороге, беспечно что-то напевая, шел самурай. Увидев монаха, он остановился и равнодушно сказал:
— Говорят, с недавних пор здесь у ворот слышится женский плач?
Не поднимаясь с каменных плит, монах ответил одним словом:
— Слушай.
Самурай прислушался. Но, кроме елабого шороха сверчков, не слышно было ничего. В ночном воздухе разносился лишь смолистый запах сосен. Самурай хотел заговорить. Но не успел он произнести и слова, как вдруг откуда-то донесся тихий-тихий женский стон.
Самурай схватился за меч. Но голос, оставив за собой долгий, протяжный отзвук, где-то бесследно затих.
— Молись будде! — Монах поднял лицо к луне. — То дух никчемной женщины, не ведающей ни рая, ни ада. Молись будде!
13*
387
Но самурай, не отвечая, всматривался в лицо монаха. И вдруг, изумленно шагнув к нему, схватил его за руки.
— Ведь вы— преподобный Найки? Почему в таком месте...
Тот, кого назвали «преподобный Найки», в миру Ёсисигэ Ясу-танэ, был благочестивейший буддийский монах, достославный даже среди учеников преподобного Куя.
Июль 1922 г.
Это было в послеполуденные часы четырнадцатого мая первого года Мэйдзи, в те послеполуденные часы, когда вышел приказ: «Завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда сёгитан в монастыре Тоэйдзан. Всем проживающим в районе Уэно предлагается незамедлительно выселиться куда угодно». В галантерейной лавке во втором квартале улицы Ситая после ухода хозяина Когая Масабэя оставался один только большой трехцветный кот: он тихонько лежал, свернувшись клубком, в углу кухни, у раковины аваби.
В доме с наглухо закрытыми дверьми, разумеется, было совершенно темно даже днем. Не слышно было ни шагов, ни голосов. До слуха доносился только шум дождя, лившего уже несколько дней подряд. Дождь время от времени вдруг потоками проливался на невидимые крыши и опять удалялся в пространство. Всякий раз, когда дождь усиливался, кот округлял свои янтарные глаза. Тогда в кухне, где нельзя было разглядеть даже очага, на миг появлялись два зловещих фосфорических огонька. Но, почувствовав, что кругом пичего не меняется, кот, так и не пошевельнувшись, снова сощуривал глаза в узкие щелки.
Так повторялось много раз, и наконец кот, уже, видимо, засыпая, больше не открывал глаза. Но дождь по-прежнему то вдруг усиливался, то стихал. Восемь... Восемь без половины... Время шло, и под шум дождя день понемногу клонился к вечеру.
И вот уже близко к семи часам кот, чем-то обеспокоенный, неожиданно широко раскрыл глаза. И в то же время как будто насторожил уши. Дождь уже не лил так сильно. Раздались голоса носильщиков паланкина, пробежавших по улице. Больше ничего не было слышно. Но после нескольких секунд тишины в темной кухне вдруг стало как-то светлеть. Дощатый настил возле очага, блеск воды в кувшине без крышки, сосенка бога кухонного очага, шнур от окошка в потолке — все это одно за другим вырисовывалось из мрака. С беспокойством поглядывая на водосток, кот медленно поднялся во весь свой рост.
388
В это время дверцу водостока открыл, — нет, не только дверцу, в конце концов и сёдви отодвинул, — какой-то до костей промокший бродяга. Просунув в кухню голову, повязанную старым полотенцем, он некоторое время настороженно прислушивался к тишине, царящей в доме. Удостоверившись, что никого не слышно, он потихоньку вошел в кухню в своем рогожном плаще, на котором темнели мокрые пятна. Кот, прижав уши, слегка попятился. Но бродяга, не обращая на него внимания, задвинул за собой сёдзи и медленно снял с головы полотенце. На лице, заросшем волосами и сплошь покрытом грязью, в нескольких местах были налеплены пластыри. Однако сами черты были вполне обыкновенными.
Выжимая воду из волос и отирая капли с лица, бродяга тихим голосом позвал кота по имени:
— Микз, Микэ!
Кот, оттого что голос был ему знаком, снова поднял прижатые было уши. Однако с места не трогался и время от времени с опаской поглядывал на пришедшего. Бродяга тем временем снял свой рогожный плащ и уселся перед котом на пол, скрестив босые ноги, настолько грязные, что из-за грязи не видно было кожи.
— Ну что, Микэшка? Я вижу, никого тут нет, выходит, одного тебя не выселили.
Бродяга засмеялся и своей большой рукой погладил кота по голове. Кот весь напрягся, словно приготовился бежать. Но — только и всего: он не отскочил, а наоборот, опять сел, как прежде, и понемногу даже стал щурить глаза. Погладив кота, бродяга, отогнув кверху полу своего старого кимоно, вытащил из-за пазухи масляно поблескивающий пистолет и при тусклом свете стал осматривать курок. Какой-то бродяга с пистолетом в кухне всеми покинутого дома, в котором царила атмосфера войны, — это была, несомненно, картина необычная, какая бывает в романах... Но кот, сощуря глаза и по-прежнему выгибая спину, сидел спокойно, словно знал все тайны.
— А завтра, Микэшка, тут всюду дождем будут падать пули. Попадет в тебя — тут тебе и крышка. Так что завтра спрячься под пол и сиди там весь день, что бы ни происходило...
Осматривая свой пистолет, бродяга время от времени заговаривал с котом.
— Мы с тобой старые знакомые. Но сегодня мы распрощаемся. Завтра и для тебя злой день, и я, может быть, завтра умру. А если не умру и останусь жив, все же по-прежнему рыться с тобой в помойках я не намерен. Ты, вероятно, будешь очень доволен?
В это время шум дождя снова усилился. Тучи нависли низконизко над самой крышей, окутывая мглой черепицу. Тусклый
389
свет, разлитый по кухне, стал еще слабее. Однако бродяга, не поднимая головы, закончил осмотр пистолета и тщательно зарядил его.
— И все же тебе жаль будет со мной расстаться? Впрочем, коты, как говорят, не помнят добра. Поэтому ждать от тебя нечего. Ну да это все равно. Только вот, когда тут меня не будет...
Бродяга вдруг замолчал: ему показалось, что снаружи кто-то подошел к водостоку.
Спрятать пистолет и обернуться — для бродяги это было делом одного мгновения. Но и сёдзи у водостока со стуком раздвинулись в то же мгновение. Моментально приняв оборонительную позу, бродяга взглянул прямо в глаза пришельцу.
Но этот кто-то, раздвинувший сёдзи, увидев бродягу, слегка вскрикнул, как бы, в свою очередь, пораженный неожиданностью. Это была еще совсем молодая женщина, босая, с большим зонтом в руках. В безотчетном страхе она чуть не выскочила обратно под дождь. Но испуг прошел, к ней вернулось мужество, и она стала всматриваться в лицо бродяги, пронизывая взглядом полутьму кухни.
Бродяга, тоже, видно, ошеломленный, сидел неподвижно, приподняв одно колено и не спуская с нее глаз. Выражение у него было уже не такое настороженное, как раньше. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.
— Что такое? Это ты, Синко? — будто несколько успокоенная, обратилась женщина к бродяге. Бродяга, улыбаясь, закивал головой.
— Извини, пожалуйста. Так льет сегодня, вот я и забрался сюда в отсутствие хозяев. Только ты не подумай, что я променял свою веру на занятие домушника.
— Напугал! В самом деле... Хоть ты и говоришь, что забрался сюда не как вор, но всякому нахальству есть предел. — Стряхивая с зонта капли, женщина сердито добавила: — Ну, а теперь уходи. Я хочу войти.
— Ладно, уйду, не гони, сам уйду. А ты что, еще не выселилась?
— Выселилась. Выселилась, да только... Ну, не все ли тебе равно?
— Забыла что-нибудь? Да проходи же сюда, ведь на тебя дождь льет.
Не отвечая на эти слова бродяги, женщина, все еще раздосадованная, опустилась на дощатый настил водостока. Затем протянула к водостоку грязные ноги и принялась мыть их, поливая водой из черпака. Бродяга, спокойно сидевший со скрещенными ногами, пристально глядел на нее, почесывая щетинистый подбо-
390
родок. Женщина эта была молодая, со смуглым лицом, с веснушками у носа, на вид — простая деревенская девушка. И одета она была, как служанка, в одно только легкое, бумажное кимоно с дешевым поясом. Но в живых чертах и во всей ее плотной фигуре была какая-то красота, вызывавшая в представлении свежий персик или грушу.
— Когда среди такой сумятицы возвращаются, значит, забыто что-то очень важное. Что же ты тут забыла, а, о-Томи-сан? — продолжал свои расспросы Синко.
— Не все ли тебе равно что. Лучше ступай отсюда. — О-Томи ответила раздраженно. Но вдруг, словно вспомнив о чем-то, повернулась к Синко и серьезно спросила: — Синко, ты не видел нашего Микэ?
— Микэ? Микэ только что тут был. Куда ж он девался?
Бродяга огляделся кругом. Оказалось, что кот забрался на
полку и свернулся там клубком между ступкой и сковородкой. Его одновременно с Синко вдруг увидела и о-Томи. Она бросила черпак и, словно забыв о самом существовании бродяги, поднялась с настила. Светло улыбаясь, она стала звать лежавшего на полке кота.Синко изумленно перевел глаза с кота, лежавшего в полутьме, на о-Томи.
— Кошка? Так ты забыла кошку?
— Хоть и кошку! Что ж тут плохого? Микэ, Микэ, поди сюда!
Синко вдруг расхохотался. В шуме дождя его смех прозвучал
почти зловеще. О-Томи, покраснев от гнева, опять накинулась на Синко:— Что тут смешного? Забыли кота, а хозяйка совсем с ума сходит. Все время заливается слезами: что, если кота убьют? Мне самой стало жалко, вот я и вернулась сюда в этот дождь...
— Ладно, не буду. — Синко прервал ее, все еще смеясь. — Больше не смеюсь. Но все-таки подумай сама. Завтра начнется сражение. А тут всего-навсего кошка, одна там или две — все равно, ведь это смешно. Хоть не мне говорить тебе об этом, но такой безголовой нюни, как твоя хозяйка, я не видывал. Из-за этого Микэшки...
— Замолчи! Не желаю слушать, как поносят мою хозяйку!
Q-Томи чуть не топнула ногой. Однако бродяга сверх ожидания не испугался ее гневного вида. Более того, он, не стесняясь, разглядывал фигуру женщины. И правда, в этот момент она была полна какой-то дикой красоты. Мокрые от дождя кимоно и набедренная повязка плотно прилипли к коже и явственно обрисовывали ее тело, молодое нетронутое девичье тело. Не сводя глав с о-Томи, Синко продолжал со смехом:
391
— Я понимаю, тебя послали за Микэшкой. Разве не так? А ведь сейчас во всем Уэно нет ни одного дома, из которого жители не выселились бы. Выходит, что хоть тут дома и стоят, а все равно что безлюдная пустыня. Положим, волки сюда не забредут, но попасть в беду всегда можно. Вот что я хотел тебе сказать,
— Как-нибудь обойдусь без твоих забот! Лучше бы снял с полки кота. От этого и сражение не начнется, и беды никакой не случится.
— Брось шутки! Когда женщине опасно ходить одной, если не в такое время? Скажу тебе коротко: нас тут только двое — ты да я. А вдруг мне что-нибудь взбредет в голову, что ты станешь делать?
Тон у Синко был какой-то непонятный — не то шутливый, не то серьезный. Однако в ясных глазах о-Томи не мелькнуло и тени страха, только щеки запылали еще сильнее.
— Что такое? Уж не собираешься ли ты угрожать мне?
О-Томи сама с грозным видом шагнула к Синко.
— Угрожать? Если только это, тогда еще ничего. В наше время дурных людей много даже среди тех, кто нацепил на плечи парчовые нашивки. Что же говорить о таком, как я, бродяге? Угрозы угрозами, а вдруг мне и вправду что-нибудь на ум взбредет?
Синко не договорил — на его голову обрушился удар. О-Томи стояла перед ним с поднятым зонтом.
— Я тебе покажу, как дерзить!
Она опять изо всей силы ударила зонтом, целясь в голову Синко. Синко хотел отстраниться, но зонт все же угодил ему в плечо, прикрытое старым кимоно. Перепуганный шумом кот, сбив сковородку, спрыгнул на полочку бога кухонного очага. На Синко свалились и сосенка, и масляный светильник. Прежде чем он успел вскочить на ноги, ему пришлось не раз почувствовать на себе зонт о-Томи.
— Ах ты скотина, скотина!
О-Томи продолжала взмахивать зонтом. Однако Синко, осыпаемый ударами, все же в конце концов вырвал у нее зонт. Отшвырнув зонт в сторону, он яростно бросился на о-Томи. Некоторое время они боролись на узком дощатом настиле. В самый разгар этой борьбы дождь снова забарабанил по крыше кухни. По мере того как шум дождя усиливался, сумрак в кухне сгущался. Синко, осыпаемый ударами, исцарапанный, старался повалить о-Томи. Но после нескольких неудачных попыток он, думая, что наконец-то удалось схватить ее, вдруг, наоборот, словно отброшенный пружиной, сам отлетел к водостоку.
— Чертовка!
Упираясь спиной в сёдзи, Синко смотрел на о-Томи. О-Томи
392
с растрепанными волосами сидела на настиле и сжимала в руке бритву, которая, видимо, была спрятана у нее за поясом. Она была полна дикой ярости и в то же время удивительной прелести. Чем-то она напоминала сейчас кота, стоявшего с выгнутой спиной на полочке бога кухонного очага. Оба в полном молчании следили глазами друг за другом. Но через мгновение Синко с нарочито холодной усмешкой вынул из-за пазухи пистолет.
— Ну, попробуй теперь повернуться.
Дуло пистолета медленно обратилось в сторону о-Томи. Однако она только раздраженно глядела на Синко и не раскрыла рта. Увидев, что она не испугалась, Синко под влиянием какой-то мысли повернул пистолет дулом вверх. Там в темноте сверкали янтарные глаза кота.
— Ну как, а, о-Томи-сан? — Как бы дразня ее, Синко проговорил это тоном, в котором слышался смех. — Грохнет этот пистолет, и твой кот кувырком слетит оттуда. И с тобой будет то же. Как тебе это понравится?
Курок уже готов был спуститься.
— Синко! — вдруг заговорила о-Томи. — Не надо, не стреляй!
Синко перевел взгляд на о-Томи. Однако дуло пистолета было по-прежнему направлено на кота.
— Известно, что не надо!
— Жалко его убивать! Пощади хоть Микэ.
У о-Томи было теперь совсем другое лицо — обеспокоенное, дрожащие губы ее слегка приоткрылись, показывая ряд мелких зубов. Глядя на нее полунасмешливо, полуподозрительно, Синко наконец опустил пистолет. В тот же миг на лице о-Томи отразилось облегчение.
— Кота я пощажу. Но взамен... — Синко произнес с ударением: — Взамен я возьму тебя.
О-Томи чуть отвела взор. Казалось, в ее душе на мгновение вспыхнули одновременно и злоба, и гнев, и отвращение, и печаль, и многие другие чувства. Не переставая внимательно следить за этими переменами в девушке, Синко зашел сбоку ей за спину и раздвинул сёдзи в комнату за кухней. Там, разумеется, было еще темнее, чем в кухне. Но в ней можно было разглядеть шкафчик и большое хибати, брошенные при выселении. Синко перевел взгляд на ворот кимоно о-Томи, влажный от пота. Видимо, о-Томи почувствовала этот взгляд и, вся сжавшись, оглянулась на стоявшего позади Синко. На ее щеках уже снова появился прежний румянец. Но Синко как-то странно мигнул, словно заколебавшись, и вдруг снова прицелился в кота.
— Не надо! Не надо, говорят тебе!
О-Томи удержала его и в этот момент выронила бритву.
393
По лицу Синко пробежала легкая усмешка.
— А не надо, так иди туда.
— Противно! — с отвращением пробормотала о-Томи. Но внезапно она встала и, будто на все махнув рукой, прошла в комнату за кухней. Синко, казалось, был несколько удивлен тем, как легко она примирилась со своей участью. Дождь в это время притих. Сквозь облака, видимо, пробивались лучи вечернего солнца, отчего в кухне понемногу становилось светлее. Стоя в кухне, Синко прислушивался к тому, что делается в комнате рядом. Вот она развязывает пояс. Вот ложится на циновку. Затем все стихло.
Поколебавшись, Синко шагнул в полутемную комнату. Там посередине, закрыв лицо руками, лежала на спине о-Томи... Синко, едва взглянув на нее, тут же, словно убегая от чего-то, вернулся в кухню. На его лице было какое-то странное, непередаваемое выражение: не то злость, не то стыд. Он снова вышел на дощатый настил и все так же, стоя спиной к той комнате, вдруг горько рассмеялся.
— Я пошутил, слышишь, о-Томи-сан? Пошутил. Иди сюда.
...Через несколько минут о-Томи с котом за пазухой и с зонтом в руках о чем-то беззаботно разговаривала с Синко, который стелил на полу свою рваную циновку.
— Послушай, я хотел бы спросить тебя об одной вещи.
Все еще чувствуя некоторую неловкость, Синко старался не смотреть на о-Томи.
— О чем?
— Ни о чем особенно... Ведь отдаться мужчине для женщины важнейшая вещь в жизни. А ты была готова на это, чтобы спасти жизнь какой-то кошки... Не слишком ли это много? — Синко замолчал. Но о-Томи только улыбнулась и погладила кота у себя за пазухой. — Ты так любишь этого кота?
— Люблю и Микэ. — О-Томи ответила уклончиво.
— Ты слывешь очень преданной своим хозяевам. Может быть, ты боялась остаться виноватой перед хозяйкой, если Микэ убьют?
— Ну да, я и Микэ люблю, и хозяйки боюсь. Но только...
О-Томи, склонив голову набок, как бы всматривалась куда-то вдаль.
— Как бы это сказать? Поступи я сейчас иначе, у меня сердце было бы не на месте...
Еще через несколько минут Синко, оставшись один, сидел в кухне, обхватив руками колени, покрытые старым кимоно. Вечерние тени под шорох редкого дождя все больше и больше заполняли комнату. Шнур от окна в потолке, кувшин с водой у водостока — все одно за другим исчезало во мраке. И вот в дождевых тучах прокатились один за другим тяжелые удары храмового ко-
394
локола в Уэно. Синко, как будто пробужденный этими звуками, окинул взглядом затихшую комнату. Затем, нащупав черпак, зачерпнул воды.
— Мураками Синдзабуро... Минамото-но Сигэмицу! Сегодня ты проиграл!
* * *
Двадцать шестого марта двадцать третьего года Мэйдзи о-Томи с мужем и тремя детьми проходила через площадь Уэно.
В этот день на Такэнодай открывалась Третья всеяпонская выставка, вдобавок у ворот Курамон уже зацвели вишни, поэтому площадь кишела народом. Сюда же со стороны Уэно беспрерывной вереницей двигались экипажи и коляски рикш. Маэда Масада, Тагути Укити, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Окакура Какудзо, Гэдзё Macao... В этих экипажах и колясках сидели и такие люди.
Муж с пятилетним малышом на руках и со старшим сынишкой, уцепившимся за его рукав, сторонясь толпы, то и дело с беспокойством оглядывался на о-Томи с дочерью, шедших позади. О-Томи всякий раз отвечала ему своей светлой улыбкой. Разумеется, двадцать лет принесли ей старость. Однако ясное сияние ее глаз не совсем померкло. В четвертом или пятом году Мэйдзи она вышла замуж за хозяйского племянника Когая Масабэя. Муж ее тогда имел маленькую часовую мастерскую в Иокогама, теперь — на Гипдза.
Вдруг о-Томи подняла глаза. В пароконном экипаже, проезжавшем мимо нее как раз в эту минуту, покоилась фигура Синко. Да, Синко. Правда, теперешний Синко был весь покрыт знаками отличия — тут были и плюмаж из страусовых перьев, и внушительные нашивки из золотого позумента, и несколько больших и малых орденов. Но обращенное в сторону о-Томи красноватое лицо с седеющими усами и бородой было, несомненно, лицом бродяги минувших времен. О-Томи невольно замедлила шаг. Однако, как ни странно, она не удивилась. Синко не был простым бродягой. Почему-то она это знала. По лицу ли, по его речи или по пистолету, который у него имелся? Так или иначе, она это знала. О-Томи, не шевельнув и бровью, пристально смотрела на Синко. И Синко, намеренно ли или случайно, тоже смотрел на нее. Воспоминание о дождливом дне двадцать лет назад в это мгновение с необычайной ясностью всплыло в душе о-Томи. В тот день она была готова без колебания отдаться Синко, чтобы спасти кошку. Что тогда руководило ею? Этого она не знала. И Синко тогда не захотел пальцем коснуться тела, которое она ему отдавала. Что тогда руководило им? И этого она не знала. Но хоть она ничего и не знала, все равно то, что произошло, было для о-Томи более чем
395
естественно. Отступая, чтобы дать дорогу экипажу, она почувствовала, что на сердце у нее стало как-то легко.
Когда экипаж Синко проехал, муж снова обернулся из толпы к о-Томи. Встретившись с ним глазами, о-Томи как ни в чем не бывало улыбнулась ему. Ясно, радостно...
Август 1922 г.
То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй— было это, во всяком случае, в глубокую старину.
В те времена стоило приявшим святое учение господа обнаружить свою веру, как их ждал костер или распятие. Но казалось, что чем яростней гонения, тем милостивей «господь всеведущий» простирает на верующих округи свою благую защиту. Случалось, что вместе с сиянием вечерней зари деревни вокруг Нагасаки навещали ангелы и святые. И шла молва, что даже сам Сан-Дзёан Батиста явился однажды верующему Мигэру Яхэю на его водя-ной мельнице в Ураками. А в то же время, чтобы помешать спасению верующих, и дьявол не раз появлялся в тех деревнях то в облике невиданного арапа, то в виде иноземного зелья или повозки с плетеньем адзиро. И даже мыши, донимавшие Мигэру-Яхэя в подземной темнице, где не отличить дня от ночи, были на самом деле, как говорят, лишь оборотнями злых духов. Осенью восьмого года Гэнна Яхэя вместе с одиннадцатью другими верующими сожгли на костре. То ли в годы Гэнна, то ли в годы Канъэй — было это, во всяком случае, в глубокую старину.
В той же горной деревне Ураками жила девушка по имени о-Гин. Родители о-Гин перебрались в Нагасаки издалека, из Осака. Но раньше, чем успели они обжиться на новом месте, оба скончались, оставив о-Гин одну. Конечно, они, жители другой округи, знать святое учение не могли. Верой их был буддизм, учение Сакья Муни. По словам некоего французского иезуита, Сакья Муни, от природы преисполненный коварства, обошел все области Китая, проповедуя учение будды Амида. А потом перебрался за тем же в Японию. По учению Сакья Муни, наша анима, в зависимости от того, тяжки или легки, велики или малы наши грехи, воплощается либо в быка, либо в дерево. Мало того, Сакья Муни при рождении убил свою мать. Что учение Сакья Муни нелепо — это само собой понятно, но что оно, кроме того, дурно, тоже очевидно.
1 Искаженное Miguel (португ.).
396
Однако мать и отец о-Гин, как уже упоминалось, знать этого не могли. Даше после того, как от них отлетело дыхание, они продолжали верить в учение Сакья Муни. И в тени сосен печального кладбища, не ведая, что их ждет инфэруно, грезили об эфемерном рае.
Но юную о-Гин, к счастью, не запятнало невежество родителей. Сострадательный Дзёан-Магосити, крестьянин, проживавший в той же горной деревушке, давно уже, окропив чело святой водой, нарек ее Мария. О-Гин не верила в то, что Сакья Муни при рождении, указуя перстом на небо и землю, возгласил гласом великим: «На небе вверху, под небом внизу — я один свят». Зато она верила, что «преблагостная, великосердная, сладчайшая дева Сайта Мария-сама» зачала без греха. Верила, что «умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу», похороненный глубоко под землею Дзэсусу через три дня воскрес. Верила, что, когда протрубит труба Страшного суда, «господь в великой славе, в великой силе снизойдет с небес, воссоединит ставшее прахом тело людей с прежней их анима, вернув им душу, воскресит их, и праведники познают небесное блаженство, а грешники с бесами низринутся в ад». Особенно верила она в высокое сагурамэнто, когда «силою божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, претворяются в тело и кровь господни». Душа о-Гин не была, подобно душе ее родителей, бесплодной пустыней, над которой проносятся жаркие ветры. Она была плодоносной нивой, взращивающей и злаки, и чистые полевые розы. Потеряв родителей, о-Гин сделалась приемной дочерью Дзёан-Магосити. Жена Магосити, Дзёанна-о-Суми, тоже была женщиной доброго сердца; о-Гин вместе с приемными родителями ходила за скотом, жала ячмень и проводила дни в мире. Но при таком существовании не забывали они, так, чтобы это не бросалось в глаза односельчанам, блюсти посты и читать молитвы. В тени смоковницы у колодца, глядя ввысь на молодой месяц, о-Гин часто жарко молилась. Молитва этой девушки с распущенными волосами была проста: «Благодарю тебя, милосердная матерь! Изгнанное дитя праматери Эва взывает к тебе! Склони милосердный взор твой на жалкую обитель слез. Аминь».
И вот однажды в ночь натара дьявол вместе со стражами внезапно вошел в дом Магосити. В доме Магосити в большом очаге пылал «колыбельный огонь». И на закопченной стене на одну эту ночь был повешен крест. В довершение всего, когда стражи пошли в хлев позади дома, то обнаружили в кормушке воду для омовения новорожденного Дзэсусу-сама. Стражи, кивнув друг другу, набросили веревку на Магосити и его жену. О-Гин тоже связали. Но все трое не выказывали признаков страха. Для спасения своей
397
анима они готовы были на любые муки. Господь, конечно, дарует им свою защиту. И разве то, что их схватили в ночь натара, не есть вернейшее доказательство небесной благодати? Так, точно сговорившись, твердо верили все они. Связанных, стражи повели их во дворец наместника. Но и по дороге, под ночным ветром, они не переставая твердили рождественские молитвы: «О, Вакагими-сама, родившийся в стране Бэрэн, где ты ныне? Славься!»
Дьявол, видя, что они схвачены, захлопал в ладоши и радостно засмеялся. Но их мужество немало сердило его. Оставшись один, дьявол плюнул и тут же превратился в большую каменную ступку. И, с грохотом покатившись во тьму, исчез.
Дзёана-Магосити, Дзёанну-о-Суми и Марию-о-Гин бросили в подземную темницу и подвергли всяческим пыткам, чтобы заставить отречься от святого учения. Но ни под пыткой водой, ни под пыткой огнем решимость их не поколебалась. Пусть горят кожа и мясо, еще вздох, и они попадут в парайсо.
Стоило подумать о милости господней, как мрачная темница преисполнялась великолепия парайсо! Вдобавок не то во сне, не то наяву светлые ангелы и святые не раз слетали утешать их. Особенно удостаивалась этого счастья о-Гин. Случалось, что о-Гин видела, как Сан-Дзёан Батиста протягивает ей в обеих руках пригоршни акрид, говоря: «Ешь». Случалось, что она видела, как архангел Габурпэру, сложив свои белые крылья, предлагает ей воду в красивой золотой чаше.
Так как наместник, конечно, не знал святого учения, не знал и учения будды, он никак не мог уразуметь, почему заключенные так упорствуют. Он даже подумывал, не сошли ли все трое с ума. Когда же он понял, что они не сумасшедшие, они стали казаться ему не то исполинскими удавами, не то единорогами, во всяком случае — эверями, не имеющими ничего общего с человеческим родом. Оставить таких зверей живыми не только противоречило бы законам, но грозило бы спокойствию всей страны. Протомив заключенных в темнице месяц, он наконец решил сжечь их. (По правде говоря, наместник, как и все обыкновенные люди, почти не думал о том, грозит ли их существование спокойствию страны: во-первых, имелись законы, во-вторых, имелась мораль народа, поэтому не стоило над этим особо задумываться.)
Даже по пути к месту казни на краю деревни трое верующих, во главе о Двёаном-Магосити, не обнаруживали никаких признаков страха. Местом казни был избран каменистый пустырь рядом с кладбищем. Их привели туда, прочитали им, в чем состоят их преступления, и привязали к толстым четырехугольным столбам. Затем столбы укрепили в середине пустыря, поставив справа Дзё-анну-о-Суми, в середине Дзёана-Магосити и слева Марию-о-Гин.
398
О-Суми от продолжительных пыток казалась постаревшей. И у Магосити на заросших щеках не было ни кровинки. А о-Гин? О-Гин по сравнению с ними обоими не так уж сильно изменилась. Но у всех троих, стоявших на хворосте, лица были спокойны.
Вокруг места казни давно уже собралась толпа зевак. А там, позади зрителей, несколько кладбищенских сосен распростерли в небе свои ветви, похожие на священные балдахины.
Когда все приготовления были окончены, один из стражей торжественно выступил вперед, стал перед приговоренными и сказал, что им дается время одуматься и отречься от святого учения.
— Подумайте хорошенько, если отречетесь от святого учения, веревки сейчас же развяжут.
Но приговоренные не отвечали. Они смотрели в высокое небо, и на губах у них даже блуждала улыбка.
И наступила небывалая тишина. Не только стражи, но даже зрители затихли в эти минуты. Глаза всех, не мигая, устремились на лица приговоренных. Но не от волнения все затаили дыхание. Зрители ждали, что вот-вот загорится огонь, а стражам так наскучило ждать казни, что даже не хотелось разговаривать.
И вдруг все присутствующие отчетливо услышали:
— Я отрекаюсь от святого учения. Голос принадлежал о-Гин.
Зрители зашумели. Но гул голосов сразу же опять сменился тишиной. Магосити, обернувшись к о-Гин, горестно произнес угасающим голосом:
— О-Гин! Тебя завлек дьявол! Если ты еще каплю потерпишь, ты узришь лик господа.
Не успел он договорить, как, собрав последние силы, словно издалека, подала голос о-Суми:
— О-Гин! О-Гин! В тебя вселился дьявол! Молись!
Но о-Гин не отвечала. Только глаза ее смотрели туда, где позади толпы кладбищенские сосны распростерли свои ветви, похожие на священные балдахины. Тем временем другой страж приказал развязать о-Гин.
Увидев это, Дзёан-Магосити закрыл глаза, словно покоряясь судьбе.
— Всемогущий господь, да будет воля твоя!
Освобожденная от веревок, о-Гин некоторое время стояла, растерянно глядя перед собой. Но, взглянув на Магосити и о-Суми, она вдруг упала перед ними на колени и, ни слова не говоря, залилась слезами. Магосити не открывал глаза. О-Суми отвернулась, даже не взглянув на о-Гин.
— О отец, о мать, прошу вас, простите меня! — заговорила наконец о-Гин. — Я отреклась от святого учения. Это оттого, что я
399
вдруг заметила вон там ветви сосен, похожие на священные балдахины. Мои родители, покоящиеся под сенью этих кладбищенских сосен, не знали святого господнего учения и, наверно, низвергнуты в инфэруно. И если бы теперь я одна вошла во врата парайсо, не было бы мне родительского прощенья. Я последую за родителями в ад. О отец, о мать, идите к Дзэсусу-сама и Мария-сама. А я, отрекшаяся от святого учения, не могу больше жить.
Проговорив все это прерывающимся голосом, о-Гин зарыдала. Тогда и из глаз Дзёанны-о-Суми прямо на груду хвороста под ее ногами покатились слезы. Разумеется, готовясь войти в парайсо, бесплодно вздыхать — это верующим никак не пристало. Дзёан-Магосити, с горестью обернувшись к привязанной рядом жене, гневно крикнул пронзительным голосом:
— И тебя увлек дьявол? Если хочешь отречься от святого: учения, сделай милость, отрекайся сколько угодно. Я один сгорю у вас на глазах.
— Нет, я умру с тобой! Но это... — глотая слезы, выкрикнула о-Суми, — но это не потому, что я хочу попасть в парайсо. Я только хочу с тобой... всегда быть с тобой.
Магосити долго молчал. Лицо его то бледнело, то снова разливалась по нему кровь. На лбу каплями выступил пот. Магосити духовным взором видел сейчас свою анима. Видел ангела и дьявола, борющихся за его душу. Если бы в эту минуту о-Гин, рыдавшая у его ног, не подняла голову... Но нет, лицо о-Гин уже было обращено к нему. И со странным блеском в глазах, полных слез, она пристально посмотрела на Магосити. В ее взоре сияла не только невинная девичья душа. В нем сияла душа человека — душа «изгнанной дочери Эва».
— Отец! Пойдем в ад! И мать, и меня, и того отца, и ту мать — всех нас унесет дьявол.
И Магосити пал.
Из столь многих в нашей стране преданий о мучениях ревнителей веры этот рассказ дошел до нас как пример самого постыдного падения. Да, когда они все трое отреклись от святой веры, даже зрители — старые и молодые, мужчины и женщины — все их осудили. Может быть, от досады, что не удалось увидеть сожжение на костре, ради которого они собрались. И, как говорит предание, дьявол от чрезмерной радости всю ночь, обратившись огромной книгой, летал над местом казни. Впрочем, был ли это успех, достойный столь безрассудного ликования, автор сильно сомневается.
Август 1922 г.
400
| Вот из ящика вышли.-
Разве ваши лица могла я забыть? Пара праздничных кукол. Бусон1 |
Обещание продать куклы-хпна американцу из Иокогама было дано в ноябре. Наш дом, родоначальником которого был Ки-но Куний, из поколения в поколение вел ссудное дело, доставляя деньги феодальным князьям, а мой дед Ситику был большим знатоком всяких изысков, так что куклы-хина, хоть и принадлежали мне, девочке, были все же очень хороши. К примеру, взять императора и императрицу — в ее венце красовались кораллы, а у него на кожаном, лакированном оби, разукрашенном яшмой, агатом и агальматолитом, были вперемешку вышиты гербы, постоянный и временный, — вот какие это были куклы.
Если даже их решили продать, можно представить себе, как туго пришлось тогда моему отцу Ихэю, человеку из двенадцатого поколения потомков Ки-но Куния. Со времен падения Бакуфу и общего краха вернуть долг способны были только Касю-сама. Однако из трех тысяч рё они изволили отдать всего лишь сто. Должны были нам еще Инсю-сама, но они в залог наших чатырехста рё прислали всего-то тушечницу из Акамагасэки. Вдобавок у нас несколько раз случался пожар, и в лавке зонтиков, которую мы держали, дела шли плохо, так что в то время почти все наши ценные вещи одна за другой шли на продажу, чтобы было на что жить.
И тут антиквар Маруса, явившийся уговорить отца продать куклы... он давно уже умер... это был лысый человек, и не было ничего более странного, чем его лысина: в самой ее середине, точно черный пластырь, красовалась татуировка. Он сам рассказывал, что в молодости сделал ее, чтобы скрыть показавшуюся плешь, но, к несчастью, потом вся голова у него облысела и на макушке осталось только черное пятно татуировки. Как бы там ни было, отец, видимо, жалел меня, — мне было тогда пятнадцать лет, — и хотя Маруса не раз его уговаривал, все не решался расстаться с куклами.
В конце концов продал их мой брат Эйкити... его тоже уже нет в живых, а тогда ему было только восемнадцать, и он был очень
1 Перевод В. Марковой.
401
вспыльчивый. Эйкити был просвещенным молодым человеком, не выпускал из рук английских книжек и интересовался политикой. Когда зашел разговор о куклах-хина, он стал насмехаться, что праздник кукол — устаревший обычай, что незачем сохранять такие ни на что не нужные вещи и все такое. Сколько раз он из-за этого спорил с матерью, женщиной старого склада. Но если расстаться с хина, то можно будет справить конец года, поэтому, наверное, мать, помня, как трудно приходится отцу, не слишком настойчиво возражала брату. Итак, продажа наших кукол американцу из Иокогама была назначена на середину ноября. А что же я? Мало было от меня толку. Пустая была девчонка. И не очень-то огорчалась, — ведь отец обещал купить мне новый оби из лилового атласа.
На другой вечер после этой договоренности Маруса пришел к нам, предварительно съездив в Иокогама.
После третьего пожара мы больше не строились... Просто кое-как оборудовали под жилье оставшуюся часть дома да сделали временную пристройку под лавку. Мы тогда держали модную в ту пору аптеку, — в ней над шкафчиками с разными китайскими пилюлями и снадобьями красовались таблички с выведенными золотом названиями. Там горел и незатухающий светильник... Может быть, это название вам непонятно. Это был светильник старого образца, в котором вместо керосина употреблялось гарное масло. До сих пор при запахе китайских лекарств — мандариновой цедры или кольчатого ревеня — я невольно вспоминаю этот светильник. Забавно, правда? И в тот вечер от светильника, смешиваясь с запахом лекарств, струился тусклый свет.
Лысый антиквар Маруса и отец — с подстриженными спутанными волосами — сидели под лампой.
— Итак, вот половина суммы... пожалуйста, пересчитайте...
Это была пачка кредиток, которую, покончив с полагающимися приветствиями, достал Маруса. Было условлено, что в этот день отец получит задаток. Отец протянул руку и, ни слова не промолвив, поклонился. И вот... По приказанию матери я как раз вошла, чтобы подать чай. Но когда я хотела поставить чашки, Маруса вдруг громко произнес: «Так не годится!» Подумав, что он говорит о чае, я остолбенела, но, взглянув на антиквара, увидела, что перед ним лежит еще одна тщательно завернутая пачка денег.
— Это просто пустяк, но в знак благодарности...
— Нет, благодарности мне уже довольно, пожалуйста, возь-мите назад.
— Что вы... не стыдите меня...
— Вы шутите, это вы меня стыдите. Вы же для меня не чужой человек, еще вашему батюшке Маруса столько обязан. Не
402
держитесь так сухо, и покончим с этим... Милая барышня, как сегодня у вас красиво уложены волосы!
Равнодушно выслушав эти пререкания, я ушла в жилую часть дома.
Размером она была примерно в двадцать дзё. Довольно просторное помещение, но там стоял и комод, и продолговатое хиба-ти, и длинный сундук, и полки для разных вещей, так что в общем казалось тесно. Среди всей этой обстановки больше всего обращали на себя внимание около тридцати деревянных ящиков из павлонии. Незачем вам и говорить, что это были они: ящички для кукол. Они были составлены под окном уже приготовленные для продажи. Поскольку светильник был унесен в лавку, в комнате горел фонарь. При свете этого старинного фонаря мать шила мешочки для лекарств, а брат за стареньким столом копался в своих английских книгах. Все было как обычно. Но, взглянув на мать, я вдруг увидела, что под опущенными веками глаза у нее были полны слез.
Подав чай, я ожидала, — может быть, немного преувеличенно говоря, — похвал от матери, а она плачет? Я не столько огорчилась, сколько растерялась и, стараясь не смотреть на мать, уселась возле брата. И тут брат вдруг поднял глаза. Подозрительно переведя несколько раз глаза с меня на мать, он вдруг как-то странно засмеялся и опять принялся за чтение поперечных строчек. Никогда еще я не чувствовала такой ненависти к брату, сующему мне под нос свое просвещение, как в эту минуту. Смеется над матерью — так я подумала. И изо всей силы ударила его по спине.
— Это еще что такое? — спросил он, сердито взглянув на меня.
— И буду бить! — И я со слезами еще раз замахнулась на него. В эту минуту я совсем забыла о его вспыльчивости. Но не успела еще моя рука опуститься, как он влепил мне пощечину.
— Дуреха!
Разумеется, я расплакалась. И как раз в это время на брата свалился железный арпшн. Он в негодовании набросился на мать. Но это матери не понравилось, и она дрожащим тихим голосом его побранила.
Я все еще жалобно плакала. До тех пор пока, проводив антиквара Маруса, не вернулся отец с светильником в руках... Не только я, но и брат при виде его лица тут же примолкли. Брат — обо мне уж и говорить нечего — никого так не боялся, как нашего молчаливого отца.
В этот вечер было решено, что в конце месяца, после получения второй половины денег, куклы будут переданы американцу
403
из Иокогама. За сколько? Как подумаешь теперь, кажется смехотворным, — как мне помнится, за тридцать иен. Но по тогдашним ценам это, без сомнения, было очень дорого.
Тем временем понемногу приближался день, когда предстояло расстаться с куклами. Как я уже говорила, я не особенно огорчалась. Хотя я и была еще ребенком, но уж тогда понимала, что когда-нибудь расстанусь с куклами. Мне только хотелось, прежде чем отдавать их в чужие руки, еще раз как следует на них поглядеть. Еще раз полюбоваться в этой комнате на императора и императрицу, на пять оркестрантов, на вишню справа и цитрус-та-бибана слева, на фонари, на ширмы и лаковые, обсыпанные золотой пылью столики и шкафчики. Но сколько раз я ни просила, упрямый отец ни разу мне этого не позволил. «Раз я получил задаток, это уже чужая вещь. Вертеть в руках чужие вещи не полагается», — говорил он.
Был ветреный день близко к концу месяца. Мать то ли от проотуды, то ли оттого, что у нее распухла нижняя губа, чувствовала себя плохо и даже не стала завтракать. Прибрав вместе со мной в кухне, она уселась у хибати, подпирая опущенную голову рукой. Около полудня, когда она подняла голову, я увидела, что опухоль на губе у нее стала больше, точно красная картофелина, а по лихорадочно блестевшим глазам видно было, что у ней сильный жар. Я перепугалась и не помня себя бросилась в лавку к отцу.
— Папа! Папа! С мамой худо!
Отец, а с отцом и брат, который оказался там же, пошли в комнату. Страшное лицо матери их ошеломило. Даже отец, никогда попусту не волновавшийся, стоял как остолбенелый и не мог произнести ни слова. Но мать, собрав силы, с улыбкой сказала:
— Ничего страшного нет. Просто я поцарапала опухоль... Сейчас приготовлю еду.
Отец почти сердито перебил ее:
— Эйкити! Пойди позови Хомма-сан!
Брат со всех ног бросился на улицу прямо под порывы страшного ветра.
Хомма-сан — врач, специалист по китайской медицине, которого брат всегда насмешливо называл знахарем, он тоже, увидев мать, в замешательстве скрестил руки. Опухоль матери называлась карбункул... Конечно, если прибегнуть к операции, карбункул не так уж страшен, но, к несчастью, в то время об операции и не думали, — только давали пить отвары да ставили пиявки, в этом и состояло все лечение. Отец каждый день у постели готовил матери отвар из лекарств Хомма-сан, а брат каждый день ходил
404
покупать на пятнадцать сэн пиявок. А я... я потихоньку от брата ходила в ближайший храм Инари-сама и совершала стократный обход. При таких обстоятельствах уже никак нельзя было заговорить о куклах. И никто, начиная с меня, и взгляда не кидал на составленные у стены тридцать ящичков из павлонии.
И вот 29 ноября, накануне того дня, когда предстояло расстаться с куклами-хина, при мысли, что сегодня я последний день с ними, мне так захотелось еще хоть раз открыть эти ящички, что я места себе не находила. Как отца ни проси, он не разрешит. Поговорить с матерью — у меня мелькнула эта мысль, но в это время матери сделалось еще хуже. Она могла только глотать питье, больше ничего в рот не проходило, к тому же во рту у ней стал скапливаться гной с кровью. Хотя мне было только пятнадцать лет, но с такой больной матерью заговаривать о том, чтоб вынуть куклы, и у меня духу не хватало. С утра я сидела у ее постели, следила за тем, как она себя чувствует, и до восьми часов не сказала ни слова.
Но перед глазами у меня все время под окном, затянутым металлической сеткой, высились сложенные горкой ящички из павлонии. И эти ящички с хина, когда пройдет ночь, перейдут в дом иностранца в далекой Иокогама... а может быть, отправятся в Америку. При этой мысли терпение мое истощилось. Воспользовавшись тем, что мать уснула, я тихонько вышла в лавку. Хотя она не была солнечной, но, хотя бы потому, что из нее было видно уличное движение, в ней по сравнению с жилой комнатой казалось веселее. Отец проверял счета, а брат тщательно клал в аптечную ступку лакричник.
— Папа, прошу тебя ради всего святого...
И, глядя на отца, я высказала свою всегдашнюю просьбу. Но отец не только не дал согласия, но даже, видимо, не желал разговаривать со мной.
— Разве время говорить об этом?.. Эй, Эйкити! Сегодня, пока не стемнело, сходи-ка к Маруса.
— К Маруса? Сходить к нему?
— Да, сходи за лампой. Принеси ее оттуда.
— Но ведь у Маруса нет лампы? Отец, усмехнувшись, взглянул на меня.
— Не подсвечник же у него. Я просил его купить лампу. Это вернее, чем купить самому.
— Значит, светильника у нас больше не будет?
— Ему уже пора в отставку.
— Многое из старого надо выбросить. Во-первых, с лампой и маме будет веселее.
405
И отец опять принялся щелкать на счетах. Но чем меньше он обращал на меня внимания, тем сильнее становилось мое желание. Я еще раз сзади потрясла отца за плечо.
— Ну, папа...
— Отстань! — сердито, не оборачиваясь, отозвался отец. Да и брат косился на меня с досадой. Совсем поникнув духом, я тихонько вернулась в комнату. Мать, проснувшись, смотрела лихорадочными глазами на свою приподнятую руку. Увидев меня, она ясным голосом произнесла:
— За что отец на тебя рассердился?
Я не знала, что ей ответить.
— Опять сказала что-то, чего не следует?
Она пристально смотрела на меня, но на этот раз говорила с трудом:
— Ты видишь, как я больна... Что бы отец ни делал, ты должна слушаться. Пусть соседская девочка то и дело ходит в театр.
— Не нужно мне никакого театра, только...
— Не один ведь театр, и красивые шпильки, и нарядные воротнички, мало ли чего тебе хочется...
Пока она говорила, меня охватила такая жалость, такая грусть, что я расплакалась.
— Нет, мама... я ничего... мне ничего не надо, только, прежде чем продать куклы...
— Куклы? Прежде чем продать куклы? — Мать широко раскрыла глаза.
Я запнулась. В эту минуту за моей спиной вдруг оказался брат Эйкити. Глядя на меня с высоты своего роста, он сухо произнес:
— Дуреха! Опять о куклах? Забыла, как отец на тебя рассердился?
— Перестань злиться.
Мать устало закрыла глаза. Но брат, точно не слыша, продолжал ругать меня:
— Тебе уже пятнадцать лет, а разума не нажила! Нашла чем дорожить — куклами!
— А тебе что за дело? Не твои ведь! — возразила я, не сдаваясь. И пошло и пошло. Слово за слово — пока брат не схватил меля за шиворот и не бросил на пол.
— Вертихвостка!
Если бы мать не вмешалась, он бы меня еще и пристукнул. Но она, приподняв голову с подушки, задыхаясь, сердито сказала:
— О-Цуру ничего плохого не сделала... нельзя так с ней обращаться.
406
— Да ведь ей сколько ни говори, она не слушает.
— Нет, ты не любишь не только о-Цуру, ты и меня... и меня... — С глазами, полными слез, мать жалобно запиналась. — Ты и меня не любишь? Иначе почему ж ты теперь, когда я больна, решился продать... продать куклы, почему ж ты набросился на ни в чем не повинную о-Цуру? Почему ты все это делаешь? Значит, ты меня не любишь...
— Мама! — вдруг воскликнул Эйкити и прикрыл лицо локтем. И брат, который, даже когда умирали отец и мать, не пролил ни слезинки, который всю жизнь занимался политикой и, пока не попал в психиатрическую больницу, ни разу не выказал ни в чем слабости, — мой брат громко заплакал. Это поразило даже разволновавшуюся мать. Глубоко вздохнув, не произнеся то, что собиралась сказать, она откинулась на подушку.
Прошло около часа. Появился давно уже не заходивший в лавку рыбник Токудзо. Нет, не рыбник, он был рыбником раньше, а потом стал возчиком-рикшей, совсем недавно. О нем ходило много всяких забавных рассказов. До сих пор помню рассказ о фамилии. После революции Токудзо тоже захотел иметь фамилию, но уж если иметь, то шикарную, и он решил взять фамилию Токугава. Однако, когда он подал заявление, его выругали, да и не могли не выругать. По его словам, они грозились даже снести ему голову. Он подъехал ко входу в лавку, таща свою коляску, разукрашенную китайскими картинками пионов и львов. Оказалось, что, так как у него не было сегодня работы, он хотел бы прокатить барышню в Айдзуцубара и по улицам с каменными домами, — так он сказал.
— Ну как, о-Цуру?
Отец серьезно взглянул на меня, когда я вышла в лавку, чтобы посмотреть на рикшу. Теперь-то для детей покататься на рикше не такое уж удовольствие. Но для меня тогда это была самая большая радость. Но поехать просто так, когда мать больна, и сразу после той сцены — было нехорошо, и я, все еще совершенно потерянная, ответила еле слышно: «Хочу».
— Ну так пойди спроси мать. Токудзо ведь специально подъехал.
Мать, как я и думала, не раскрывая глаз, с улыбкой сказала: «Прекрасно!» Моего злого брата, к счастью, не было дома, — он ушел к Маруса. Я, позабыв о слезах, быстро вскочила в коляску и прикрыла колени красным шерстяным одеялом... Колеса загрохотали, я поехала...
Нет надобности рассказывать вам о том, что представляли собой тогда виды города. Расскажу только о недовольстве Токудзо. Не успел он выехать на улицу с каменными домами, как
407
столкнулся с конным экипажем, в котором сидела европеянка. Кое-как обошлось, и, щелкнув языком, Токудзо сказал:
— Эх, неладно вышло. Барышня слишком легонькая, вот ноги у меня, самое главное, и не ступают твердо... барышня. Жалко возчика-рикшу. Моложе, чем двадцатилетних, не следует катать...
С этой улицы рикша свернул в переулок к нам домой. И вдруг нам повстречался Эйкити. Он торопливо шел куда-то, держа в руках большую лампу с закопченной бамбуковой рукояткой. Увидев меня, он сделал знак «Подожди!» — и поднес мне лампу. Токудзо как раз, повернув оглобли, подкатил коляску прямо к нему.
— Спасибо, Току-сан. Куда вы едете?
— Сегодня показываю барышне Эдо.
Брат, насмешливо улыбаясь, подошел поближе.
— О-Цуру, отвези эту лампу. Я зайду за керосином.
Помня о недавней ссоре, я ничего не ответила, только взяла лампу. Брат сделал несколько шагов, но вдруг опять обернулся ко мне и, положив руку на защитный щиток коляски, сказал:
— О-Цуру, не говори больше с отцом о куклах.
Я по-прежнему молчала. Так он давеча меня мучил, а теперь опять за то же. Но брат, не обращая внимания, тихо продолжал:
— Отец не позволяет тебе их посмотреть не только потому, что получил задаток. Если на них смотреть, всем станет жалко, — ты об этом не подумала? Поняла? Если поняла, то не говори больше о том, что хочешь их видеть.
В голосе брата мне послышалось небывалое для него чувство. Но он был странный человек. Только что мне показалось, что его голос звучит с грустью, а он уже, точно запугивая меня, говорил:
— Если не скажешь, то и от меня тебе больше не попадет.
Раздраженно бросив эти слова, он, не попрощавшись с Токудзо, поспешно ушел.
Вечером мы вчетвером сидели за ужином вокруг стола. Правда, мать лежала в постели, так что ее нельзя было включать в число сидящих за столом. Но за ужином в этот вечер было веселее, чем обычно. Незачем и говорить отчего. Вместо тусклого светильника в этот вечер кругом разливался свет новой лампы. И я и брат за едой время от времени смотрели на лампу — на красивую диковинную лампу со стеклянным сосудом, в котором просвечивал налитый в нем керосин, с немигающим ярким пламенем.
— Светло, точно днем, — сказал довольным тоном отец, обращаясь к матери.
— Она почти ослепляет, — с легкой тревогой ответила мать.
408
— Потому что ты привыкла к светильнику... Но если раз зажжешь лампу, потом уж светильник не станешь зажигать.
— Все сначала ослепляет, и лампа, и европейская наука. Больше всех радовался брат.
— А все-таки когда привыкнешь, будет то же самое. Наверно, скоро придет время, когда и эта лампа покажется темной.
— Может быть, и так, кто знает... О-Цуру, приготовила ты матери рисовый отвар?
— У нас на сегодня уже довольно, — ответила я как ни в чем не бывало, повторяя то, что мне сказала мать.
— Чего ж так? Совсем не хочется есть? В ответ на вопрос отца мать вздохнула.
— Этот запах керосина... вот доказательство, что я человек старого склада.
До тех пор мы почти молча только шевелили нашими хаси. Но мать, как будто вспомнив, стала время от времени хвалить яркий свет лампы. И на ее вспухших губах даже показалось что-то вроде улыбки.
В этот вечер мы легли спать после одиннадцати. Но я, хоть и закрыла глаза, никак не могла уснуть. Брат два раза предупреждал меня о куклах. И я уже смирилась с тем, что не могу вынуть их посмотреть. Но сделать это мне хотелось так же, как раньше. Завтра куклам-хина конец, завтра их увезут далеко, — при этой мысли глаза у меня наполнялись слезами. А что, если сейчас, пока все спят, тихонько достать их? Или взять один из ящичков и где-нибудь спрятать. Но вдруг меня на этом застигнут?! Я заколебалась. Честно говоря, я не помню, чтобы хоть когда-нибудь у меня были такие ужасные мысли, как в ту ночь. Ах, если б этой ночью произошел пожар! Тогда куклы не попали бы в чужие руки, а сгорели бы. Или хорошо бы, чтобы и американец, и лысый антиквар Маруса заболели холерой. Тогда можно было бы куклы никому не отдавать, а хранить дома, — такие мечты мелькали у меня в голове. Но что ни говори, я ведь была еще ребенок, и не прошло и часа, как я незаметно уснула.
Не знаю, через сколько времени, но я вдруг проснулась, услышав, что при слабом свете фонаря кто-то в комнате движется. Крыса? Или вор? Или уже рассвет? Теряясь в догадках, я робко приоткрыла глаза. И увидела, что возле моей постели в ночном кимоно сидит отец, повернувшись ко мне в профиль. Отец!.. Но меня поразил не только вид отца. Перед отцом были расставлены мои куклы — мои хина, которые я не видела со дня праздника кукол!
Был ли это сон? Затаив дыхание, я уставилась на это чудо. При тусклом свете фонаря я смотрела на императора со скипет-
409
ром из слоновой кости в руке, на императрицу с коралловым венцом, на цитрус-татибана справа и вишню слева, на пажа, держащего раскрытый солнечный зонтик с длинной ручкой, на фрейлину с подносом в руках, на лаковый с золотыми узорами туалетный столик и лаковый комодик, на кукольные ширмы, разукрашенные ракушками, на столики, чашки, на расписной фонарь, на шары из цветных ниток, я смотрела на профиль отца...
Был ли это сон? Я уже это вам говорила. Но были ли куклы этой ночи действительно сном? Или это было видение, созданное обуревавшим меня желанием? До сих пор я сама не могу найти ответа.
Но этой поздней ночью я видела, как мой старый отец смотрит на кукол. Это я знаю твердо. Поэтому пусть это был только сои, я не жалею. Во всяком случае, я видела отца, ничем не отличавшегося от меня, женственного... и все же строгого отца.
* * *
Рассказ «Куклы-хина» я стал писать не помню, сколько лет назад. Сейчас я принялся за него снова не только по предложению г-на Такита, а потому, что в это время, на днях, в гостиной одного англичанина в Иокогама увидел рыжеволосую девочку, которая играла головой старой куклы-хина. Может быть, и куклы, о которых говорится в этом рассказе, сейчас тоже подверглись горькой участи лежать в одной коробке с резиновыми куклами и свинцовыми солдатиками.
Февраль 1923 г.
Однажды в зимний день, под вечер, Ясукити сидел в маленьком грязном ресторанчике на втором этаже и жевал пропахшие несвежим жиром гренки. Напротив его столика, на растрескавшейся белой стене, криво висела узкая длинная полоска бумаги. На ней была надпись: «Всегда хотто (горячие) сандвичи». (Один из его приятелей прочел: «облегченные1 (горячие) сандвичи» — и всерьез удивился.) Слева от столика — лестница, которая вела
1 Непереводимая игра слов: «хотто» — «горячий», от английского «hot» — «горячий». Есть японское слово «хотто» — «испытывать чувство
410
вниз, справа — застекленное окно. Жуя гренки, он рассеянно поглядывал в окно. На противоположной стороне улицы виднелась лавка старьевщика, в которой висели синие рабочие тужурки, плащи цвета хаки.
Английский вечер на курсах начнется в половине седьмого. Он должен там быть, и, поскольку он приезжий, ему не оставалось ничего другого, как торчать здесь после занятий до половины седьмого, хотя это и не доставляло ему никакого удовольствия. Помнится, в стихотворении Токи Дзэнмаро (если ошибаюсь, прошу меня простить) говорится: «Я уехал далеко, должен есть бифштекс дерьмовый — люблю тебя, жена, люблю». Эти стихи приходили ему на память каждый раз, когда он приезжал сюда. Правда, женой, которую нужно было любить, он еще не обзавелся. Когда он, то поглядывая в окно на лавку старьевщика, то на «хотто (горячие) сандвичи», жевал пропахшие несвежим жиром гренки, слова «люблю тебя, жена, люблю» сами срывались с губ.
Вдруг Ясукити обратил внимание на двух морских офицеров, пивших пиво. Один из них был интендантом военной школы, где преподавал Ясукити. Они были мало знакомы, и Ясукити не знал его имени. Да и не только имени. Не знал даже, младший он лейтенант или лейтенант. Словом, знал его постольку, поскольку ежемесячно получал у него жалованье. Требуя все новые порции пива, эти офицеры не находили других слов, кроме «эй» или «послушай». И официантка, никак не выражая своего неудовольствия, со стаканами в руках сновала по лестнице вверх и вниз. Потому-то она все не несла Ясукити чай, который он заказал. Так случалось с ним не только здесь. То же бывало во всех других кафе и ресторанах этого города.
Они пили пиво и громко разговаривали. Ясукити, разумеется, не прислушивался к их разговору. Но неожиданно его удивили слова: «А ну, погавкай». Он не любил собак. Он был из тех, кто радовался, что среди писателей, не любивших собак, были Гете и Стриндберг. Услышав эти слова, он представил себе огромного пса, которого здесь держат. И ему стало как-то не по себе при мысли, что собака бродит у него за спиной. Он украдкой оглянулся. Но там был все тот же ухмыляющийся интендант, который глядел в окно. Ясукити предположил, что пес под окном. Но это показалось ему несколько странным. А интендант снова повторил: «Погавкай. Ну, погавкай». Ясукити, слегка наклонившись, глянул вниз. Первое, что бросилось в глаза, — еще не зажженный у входа фонарь, служивший одновременно и рекламой сакэ «Масамунэ». Потом — поднятая штора. Потом — носки, сушившиеся на краю кадки для дождевой воды, точнее, пустой пивной бочки, и забытые там. Потом — лужа на дороге. Потом — ну что ты скажешь,
411
собаки нигде не было видно. Вместо нее он заметил нищего лет двенадцати — тринадцати, который стоял на холоде, запрокинув голову и глядя на окно второго этажа.
— Погавкай! Ну, погавкай же! — опять закричал интендант.
В этих словах была какая-то магическая сила, притягивавшая нищего. Точно сомнамбула, неотрывно глядя вверх, нищий сделал два-три шага и подошел под самое окно. Тут-то Ясукити и увидел, в чем состояла проделка гнусного интенданта. Проделка? А может быть, совсем не проделка. И если нет, то, значит, это был эксперимент. Эксперимент, который должен был выявить: как низко может пасть человек, принося в жертву собственное достоинство ради того, чтобы набить брюхо. Ясукити считал, что это вопрос решенный и не нуждается в подобных экспериментах. Исав ради печеного мяса отказался от права первородства. Сам Ясукити ради хлеба стал учителем. Фактов как будто вполне достаточно. Но, видимо, их было недостаточно для психолога-экспериментатора, жаждущего опыта. В общем, De gustibus поп est! disputandum \— только сегодня он говорил это своим учениками Кому что нравится. Хочешь экспериментировать — экспериментируй. Думая так, Ясукити продолжал смотреть на нищего под окном.
Интендант замолчал. А нищий стал с беспокойством озираться по сторонам. Он уже готов был изобразить собаку, и единственное, что его смущало, — это взгляды прохожих. Глаза его еще продолжали бегать, когда интендант высунул в окно свою красную морду и стал ему что-то показывать.
— Погавкай. Погавкаешь, получишь вот это.
Лицо нищего мгновенно вспыхнуло от жадности. Ясукити временами испытывал к нищим какой-то романтический интерес. Но никогда это не было состраданием или сочувствием. И он считал дураком или лжецом всякого, кто говорил, что испытывает к ним такие чувства. Но сейчас, глядя на этого ребенка-нищего с запрокинутой головой и горящими глазами, он почувствовал что-то вроде жалости. Именно «вроде». Ясукити действительно испытывал не столько жалость, сколько любовался фигуркой нищего, точно выписанной Рембрандтом.
— Не будешь? Ну, погавкай же. Нищий сморщился.
— Гав.
Голос у него был очень тихий,
— Громче.
— Гав, гав.
1 О вкусах не спорят (лат.).
412
Нищий громко пролаял два раза. И тут же из окна полетел апельсин. Дальше можно и не писать. Нищий, конечно, подбежит к апельсину, а интендант, конечно, засмеется.
Не прошло и недели, как Ясукити в день зарплаты пошел в финансовую часть получать жалованье. Интендант с деловым видом раскрывал разные папки, перелистывал в них какие-то документы. Взглянув на Ясукити, он спросил односложно: «Жалованье?» — «Да», — в тон ему ответил Ясукити. Интендант, возможно, был занят и все не выдавал жалованья. В конце концов он просто повернулся к Ясукити спиной, обтянутой военным мундиром, и начал нескончаемое перебрасывание костяшек на счетах.
— Интендант.
Это умоляюще сказал Ясукити, подождав немного. Интендант повернулся к нему. С его губ уже совсем готово было сорваться «сейчас». Но Ясукити опередил его и закончил свою мысль:
— Интендант, может, мне погавкать? А, интендант?
Ясукити был уверен, что голос его, когда он говорил это, был
нежнее, чем у ангела.В этой школе было два иностранца, они обучали разговорному и письменному английскому языку. Один — англичанин Та-ундсенд, другой — американец Столлет.
Таундсенд, лысый добродушный старичок, прекрасно знал японский язык. Издавна повелось, что преподаватели-иностранцы, даже самые необразованные, любят поговорить о Шекспире, о [Гете. Но, к счастью, Таундсенд не претендовал на осведомленность в литературе. Однажды зашла речь о Вордсворте, и он сказал: «Стихи — вот их я совсем не понимаю. Чем хорош этот Вордсворт?»
Ясукити жил с Таундсендом на одной даче и ездил с ним в школу и обратно одним поездом. Дорога отнимала минут двадцать. И они оба, с глазгоскими трубками в зубах, болтали о табаке, о школе, о призраках. Таундсенд, будучи теософом, хотя и оставался равнодушным к Гамлету, тем не менее испытывал интерес к тени его отца. Но как только разговор заходил об occult sciences1, будь то магия или алхимия, он, грустно покачивая головой и в такт ей трубкой, говорил: «Дверь в таинство открыть не так трудно, как думают невежественные люди. Наоборот, страшно то, что трудно ее закрыть. Лучше не касаться таких вещей».
Столлет, совсем еще молодой, был охотником до шуток. Зи-
1 Оккультные науки (англ.).
413
мой он носил темно-зеленое пальто и красный шарф. В отличие от Таундсенда, он время от времени просматривал книжные новинки. Во всяком случае, иногда читал на английских вечерах лекции на тему: «Современные американские писатели». Правда, по его лекциям получалось, что самыми крупными современными американскими писателями были Роберт Луис Стивенсон и ОТенри!
Столлет жил не на одной с Ясукити даче, но по той же дороге в небольшом городке, и поэтому довольно часто они вместе ездили в поезде. Ясукити почти совсем не помнил, о чем они говорили. Осталось в памяти лишь то, как однажды они сидели на вокзале около печки в ожидании поезда. Ясукити говорил, зевая: «До чего же тосклива профессия педагога!» А привлекательный Столлет, в очках без оправы, сделав удивленное лицо, сказал: «Педагог — не профессия. Это скорее дар божий. You know, Socrates and Platon are two great teachers...» Etc1.
Роберт Луис Стивенсон, называй он его янки или кем-либо еще, — это в конце концов не важно. Но он говорил, что Сократ и Платон педагоги — и с тех пор Ясукити проникся к нему симпатией.
(Фантазия)
Ясукити вышел из столовой, расположенной на втором этаже. Преподаватели языка и литературы после обеда шли, как правило, в находившуюся по соседству курительную комнату. Ясукити же решил не заходить сегодня туда и стал спускаться по лестнице во двор. Навстречу ему, точно кузнечик, перепрыгивая через три ступеньки, взбегал унтер-офицер. Увидев Ясукити, он приосанился и отдал честь. Видимо, немного поторопившись, он проскочил мимо Ясукити. Ясукити слегка поклонился пустоте и продолжал спокойно спускаться с лестницы.
Во дворе, между подокарпов и торрей цвели магнолии. Цветы одного вида магнолии почему-то не были обращены к югу, в сторону солнца. А вот у другого вида росшей здесь магнолии цветы были обращены к югу. Ясукити, закуривая сигарету, поздравил магнолию с индивидуальностью. Точно кто-то бросил камешек — рядом села трясогузка. Она его совсем не боялась. И то, что она трясла своим маленьким хвостиком, означало приглашение.
— Сюда! Сюда! Не туда. Сюда! Сюда!
Следуя призывам трясогузки, Ясукити шел по усыпанной гравием дорожке. Но трясогузка — что ей почудилось? — вдруг
1 Ведь Сократ и Платов — два великих педагога... и т. д. (англ.).
414
снова взмыла в небо. И вместо нее на дорожке появился шедший навстречу высокий механик. Ясукити показалось, что ему откуда-то знакомо его лицо. Механик отдал честь и быстро прошел мимо. А Ясукити, дымя сигаретой, продолжал думать, кто же это такой. Два шага, три шага, пять шагов — на десятом он вспомнил. Это Поль Гоген. Или перевоплощение Гогена. Он, несомненно, возьмет сейчас вместо совка кисть. А позже будет убит сумасшедшим товарищем, который выстрелит ему в спину. Очень жаль, но ничего не поделаешь.
В конце концов Ясукити вышел по дорожке к плацу перед парадным входом. Там, между соснами и бамбуком, стояли две трофейные пушки. Он на миг приложился ухом к стволу — звук был такой, будто пушка дышит. Может быть, и пушки зевают. Он присел под пушкой. Потом закурил вторую сигарету. На гравии, которым были усыпаны дорожки, блестела ящерица. Если у человека оторвать ногу — конец, она никогда больше не вырастет. Если же у ящерицы оторвать хвост, у нее вскоре появится новый. Зажав сигарету в зубах, Ясукити думал, что ящерица-ламаркианка больше, чем сам Ламарк. Он смотрел на нее некоторое время, и ящерица вдруг превратилась в полоску мазута, пролитого на гравий.
Ясукити с трудом поднялся. Он пошел вдоль выкрашенного здания школы, направляясь в противоположный конец двора, и оказался на спортивной площадке, обращенной к морю. На теннисном корте, посыпанном красным песком, самозабвенно состязаются несколько офицеров и преподавателей. В небе над кортом то и дело что-то взрывается. И одновременно то вправо, то влево от сетки мелькает беловатая линия. Это не мяч. Это открывают невидимые бутылки шампанского. И шампанское с удовольствием пьют боги в белых рубахах. Вознося хвалу богам, Ясукити повернул на задний двор.
Задний двор был весь в розовых кустах. Но не распустился еще ни один цветок. Подойдя к кусту, он заметил на ветке, склоненной почти до земли, гусеницу. А вот еще одна ползет по соседнему листку. Гусеницы кивали друг другу, будто разговаривая о нем. Ясукити тихонько остановился и решил послушать.
Первая гусеница. Когда же этот учитель станет наконец бабочкой? Ведь еще со времени наших пра-пра-пра-нрадедов он только и делает, что ползает по земле.
Вторая гусеница. Может быть, люди и не превращаются в бабочек.
Первая гусеница. Нет, кажется, превращаются. Посмотри, видишь, там же ведь кто-то летит.
Вторая гусеница. Действительно, кто-то летит. Но как
415
это отвратительно выглядит! Мне кажется, люди лишены просто чувства прекрасного.
Приложив ладонь козырьком ко лбу, Ясукити стал смотреть на самолет, пролетавший над его головой.
Неизвестно чему радуясь, подошел дьявол, обернувшийся товарищем по работе. Дьявол, учивший в давние времена алхимии, преподавал сейчас прикладную химию. И это существо, ухмыляясь, обратилось к Ясукити:
— Вечерком встретимся?
В ухмылке дьявола Ясукити отчетливо послышались строчки из «Фауста»: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо»1.
Расставшись с дьяволом, он направился к школе. Все классы пусты. По дороге, заглядывая в каждый, Ясукити увидел в одном оставшийся на доске геометрический чертеж. Чертеж, поняв, что его заметили, решил, конечно, что его сотрут. И вдруг, растягиваясь, сжимаясь, произнес:
— На следующем уроке еще понадоблюсь.
Ясукити поднялся по той же лестнице, по которой спускался, и вошел в преподавательскую филологов и математиков. В прей подавательской был только лысый Таундсенд. И этот старый педагог, насвистывая скучнейший мотив, пытался воспроизвести какой-то танец. Ясукити лишь улыбнулся горько и пошел к умывальнику сполоснуть руки. И там, взглянув неожиданно в зеркало, к ужасу своему, обнаружил, что Таундсенд в какой-то миг превратился в прекрасного юношу, а сам Ясукити стал согбенным седоголовым старцем.
Перед тем как идти в класс, Ясукити обязательно просматривал учебник. И не только из чувства долга: раз получаешь жалованье, не имеешь права относиться к работе спустя рукава. Просто в учебнике было множество морских терминов, что объяснялось самим профилем школы. И если их как следует не изучить, в переводе легко допустить грубейшую ошибку. Например, выражение cat's paw может означать «кошачья лапа» и в то же время «бриз».
Однажды с учениками второго курса он читал какую-то небольшую вещицу, в которой рассказывалось о морском путешествии. Она была поразительно плоха. И хотя в мачтах завывал ветер и в люки врывались волны, со страниц не вставали ни эти волны, ни этот ветер. Заставляя учеников читать и переводить, он в первую очередь скучал сам. В такие минуты меньше всего хоте-
1 Перевод Б. Пастернака.
416
лось говорить с учениками об идейных проблемах ежедневной жизни. Преподаватель ведь, в сущности, хочет обучить и тому, что выходит за рамки его предмета. Мораль, интересы, мировоззрение — можно назвать это как угодно. В общем, он хочет научить тому, что ближе его сердцу, чем учебник или грифельная доска. Но, к сожалению, ученики не хотят знать ничего, кроме учебника. Нет, не то чтобы не хотят. Они просто ненавидят учение. Ясукити был в этом убежден, поэтому и на сей раз ему не оставалось ничего другого, как, превозмогая скуку, следить за чтением и переводом.
Но даже в те минуты, когда Ясукити не бывало скучно, когда он, внимательно прислушавшись к тому, как читает и переводит ученик, обстоятельно исправлял ошибки, даже в эти минуты все ему было достаточно противно. Не прошло и половины урока, который длится час, как он прекратил чтение и перевод. Вместо этого он стал сам читать и переводить абзац за абзацем. Морское путешествие в учебнике по-прежнему было невыразимо скучным. Но и его метод обучения ни капли не уступал ему в невыразимой скуке. Подобно паруснику, попавшему в полосу штиля, он неуверенно, то и дело замирая на месте, продвигался вперед, либо путая времена глаголов, либо смешивая относительные местоимения.
И вдруг Ясукити заметил, что до конца того куска, который он подготовил, осталось всего пять-шесть строк. Если он перевалит через них, то попадет в коварное, бушующее море, полное рифов, морской терминологии. Краешком глаза он посмотрел на часы. До трубы, возвещающей перерыв, оставалось еще целых двадцать минут. Со всей возможной тщательностью он перевел подготовленные им последние пять-шесть строк. Но вот перевод уже закончен, а стрелка часов за это время передвинулась всего на три минуты.
Ясукити не знал, что делать. Единственный выход, единственное, что могло спасти его, — вопросы учеников. А если и после этого останется время, тогда только один выход — закончить урок раньше. Откладывая учебник в сторону, он открыл было рот, чтобы сказать: «Вопросы?» И вдруг густо покраснел. Почему же он покраснел? Этого он и сам не смог бы объяснить. Обманывать учеников было для него пустяковым делом, а на этот раз он почему-то покраснел. Ученики ничего, конечно, не подозревая, внимательно смотрели на него. Он снова посмотрел на часы. Потом... Едва взяв в руки учебник, начал как попало читать дальше.
Может быть, и потом морское путешествие в учебнике было скучным. Но в свой метод обучения Ясукити верит и поныне. Ясукити был преисполнен отваги больше, чем парусник, борющийся с тайфуном.
14 Акутагава Рюноскэ
417
В конце осени или в начале зимы — точно не помню. Во всяком случае, это было время, когда в школу ходили в пальто. Все сели за обеденный стол, и один молодой преподаватель — офицер рассказал сидевшему рядом с ним Ясукити о недавнем происшествии.
— Глубокой ночью два-три дня назад несколько вооруженных бандитов пристали на лодке к берегу позади училища. Заметивший их часовой, который нес ночную вахту, попытался в одиночку задержать их. Но после ожесточенной схватки бандитам удалось уплыть обратно в море. Часовой же, промокнув до нитки, кое-как выбрался на берег. А лодка с бандитами в это время скрылась во мраке. Часового зовут Оура. Остался в дураках.
Офицер грустно улыбался, набивая рот хлебом.
Ясукити тоже знал Оура. Часовые, их несколько, сменяясь, сидят в караульной около ворот. И каждый раз, когда входит или выходит преподаватель, независимо от того, военный он или штатский, они отдают честь. Ясукити не любил, чтобы его приветствовали, и сам не любил приветствовать. Поэтому, проходя через караульную, изо всех сил ускорял шаг, чтобы не оставить времени для приветствия. Ему не удавалось усыпить бдительность лишь одного Оура. Сидя в первой караульной, он неотрывно просматривает расстояние в пять-шесть кэнов перед воротами. Поэтому, как только появляется фигура Ясукити, он, не дожидаясь, пока тот подойдет, уже вытягивается в приветствии. Ну что же, от судьбы не уйдешь. В конце концов Ясукити примирился с этим. Нет, не только примирился. Стоило ему увидеть Оура, как он, чувствуя себя, точно заяц перед гремучей змеей, еще издали снимал шляпу.
И вот сейчас Ясукити услышал, что из-за бандитов Оура пришлось искупаться в море. Немного сочувствуя ему, он не мог все же удержаться от улыбки.
Через пять-шесть дней в зале ожиданий на вокзале Ясукити столкнулся с Оура. Увидев его, Оура, хотя место было совсем не подходящее, вытянулся и со своей обычной серьезностью отдал честь. Ясукити даже померещился за ним вход в караульную.
— Ты недавно... — начал после непродолжительного молчания Ясукити.
— Да, не удалось бандитов задержать...
— Трудно пришлось?
— Счастье еще, что не ранили... — С горькой улыбкой, точно насмехаясь над собой, Оура продолжал: — Да что там, если бы я
418
очень захотел, то одного уж наверняка бы задержал. Ну, хорошо, задержал, а дальше что? ;— Как это дальше что?
— Ни награды, ничего бы не получил. Видите ли, в уставе караульной службы нет точного указания, как поступать в таких случаях.
— Даже если погибнешь на посту?
— Все равно, даже если и погибнешь.
Ясукити взглянул на Оура. По его собственным словам выходило, что он и не собирался, как герой, рисковать жизнью. Прикинув, что никакой награды все равно не получишь, он просто-напросто отпустил бандитов, которых должен был задержать. Но Ясукити, вынимая сигарету, сочувственно кивнул:
— Действительно, дурацкое положение. Рисковать задаром нет никакого резона.
Оура понимающе хмыкнул. Выглядел он необычайно мрачным.
— Вот если бы давали награду... Ясукити спросил угрюмо:
— Ну, а если бы давали награду, разве каждый бы стал рисковать? Я что-то сомневаюсь.
На этот раз Оура промолчал. Ясукити взял сигарету в зубы, а Оура сразу же чиркнул спичкой и поднес ее Ясукити. Ясукити, приближая сигарету к красному колышущемуся огоньку, сжал зубы, чтобы подавить невольную улыбку, проскользнувшую у краешка губ.
— Благодарю.
— Ну что вы, пожалуйста.
Произнеся эти ничего не значащие слова, Оура положил спички обратно в карман. Но Ясукити уверен, что в тот день он по-настоящему разгадал тайну этого доблестного часового. Той самой спичкой чиркнул он не только для Ясукити. На самом деле Оура чиркнул ее для богов, которых он призывал в свидетели его верности бусидо.
Апрель 1923 г.
1
Стоял теплый весенний день. Собака по имени Снежок тихонько брела по улице вдоль живой изгороди; на ветках изгороди уже распустились почки, а кое-где попадались и цветущие впш-
14*
419
ни. Но Снежок их не видел: он брел, опустив морду и принюхиваясь к земле.
Когда изгородь кончилась, Снежок свернул в открывшийся переулок. Но не успел он обогнуть угол, как в ужасе замер на месте.
И не удивительно: в переулке в семи-восьми саженях от угла стоял живодер. За спиной он прятал веревку, а глазами следил за маленькой черной собачкой. А та доверчиво ела кусок хлеба, который он сам же ей бросил. Но не живодер сам по себе так испугал Снежка. Если бы дело касалось незнакомой собаки, куда ни шло. Но живодер выслеживал соседскую собаку Кляксу, его лучшего друга Кляксу, с которым Снежок встречался и обнюхивался каждое утро.
Снежок уже готов был крикнуть: «Клякса, берегись!» Но в эту минуту живодер кинул на него грозный взгляд: мол, попробуй только, предупреди! Тебе первому достанется веревка! И Снежок с перепугу забыл, что хотел залаять. Верней, не то что забыл, а побоялся залаять. Он так испугался, что не мог устоять на месте. С опаской поглядывая на живодера, Снежок стал шаг за шагом пятиться за угол. И едва только он исчез из глаз живодера за изгородью, как опрометью пустился бежать.
Должно быть, как раз в эту минуту на бедного Кляксу накинули петлю: раздался его заливистый жалобный вопль. Но Снежок не только не вернулся — какое там, он даже не остановился. Он несся, не оглядываясь назад, не глядя по сторонам, не смотря даже себе под ноги, он с размаху попадал в лужи, расшвыривал камешки, опрокидывал урны... Вот он помчался под гору, — стой! — чуть было не попал под машину. Неужели Снежок от страха потерял рассудок? Нет, он несся сломя голову потому, что в ушах у него неотвязно звенел вопль Кляксы:
— Гав-гав! Спасите! Гав-гав! Спасите!
2
Задыхаясь от бега, Снежок наконец добрался домой. Он проскользнул через собачий лаз в изгороди, пробежал мимо амбара и очутился в садике позади дома, где стояла его собачья будка. Снежок промчался по саду как ветер. Здесь он был в безопасности, здесь он мог не бояться веревки! К тому же — о, счастье! — в саду на зеленой траве играли в мяч его хозяева, девочка и мальчик. Помахивая хвостом, Снежок одним прыжком подскочил к детям.
— Дорогая девочка! Дорогой мальчик! Послушайте только, что сегодня со мной было! Я сейчас встретился с живодером! —
420
сказал Снежок, еще не отдышавшись. (Впрочем, дети не понимали собачьего языка, им казалось, что это просто лай.)
Девочка и мальчик, как будто чем-то удивленные, даже не приласкали его, и Снежок, недоумевая, заговорил снова:
— Девочка, вы знаете, кто такой живодер? Это страшный человек! Я-то спасся, но соседа Кляксу поймали.
Но девочка и мальчик только переглядывались. Хуже того: немного погодя они вдруг обменялись такими странными словами:
— Что это за собака, а, Харуо-сан?
— В самом деле, откуда эта собака, сестричка?
Как что за собака? На этот раз изумился Снежок. (А Снежок прекрасно понимал речь и девочки и мальчика. Мы думаем, что собаки не понимают нас, потому что мы сами не понимаем их языка. А на самом деле собаки выучиваются у людей разным штукам именно потому, что понимают человеческую речь. А вот мы не понимаем их и потому не можем научиться у них ни находить дорогу в темноте, ни различать еле заметный запах, ни многому другому, что они знают лучше нас.)
— Как что за собака? Это я, Снежок!
Но девочка по-прежнему смотрела на него неприязненно.
— Может быть, это брат соседского Кляксы?
— Пожалуй, — рассудительно ответил мальчик. — Эта собака тоже совсем черная.
Снежок почувствовал, как шерсть на спине у него становится дыбом. Совсем черный! Не может быть! Ведь он еще щенком был белый, как молоко. Снежок посмотрел на свои лапы — да, эти лапы, да и не только они — и грудь, и брюхо, и его прекрасный пушистый хвост — все было черное, как дно сковороды. Черное, без единой отметинки черное!
Снежок стал скакать, метаться и громко лаять.
— Ой, Харуо-сан, я боюсь! Эта собака, наверно, бешеная! — жалобно захныкала девочка. Но мальчик был храбрый. Снежок вдруг получил сильный удар в левый бок. И вот уж опять палка свистит над самой его головой. Снежок еле увернулся и сейчас же со всех ног помчался опять к изгороди, туда, где в тени платана стояла выкрашенная в светло-желтый цвет собачья будка. Добежав до будки, Снежок оглянулся на своих маленьких хозяев и еще раз пролаял:
— Девочка! Мальчик! Ведь я ваш Снежок! Пусть я черный, но я все тот же самый Снежок!
Голос у Снежка прерывался от горя и гнева. Но ведь девочка и мальчик не могли его понять. Девочка с досадой топнула ногой, проговорив: «Вот противная собака! Все еще лает!» А мальчик —
421
мальчик подобрал с дорожки несколько камешков и со всей силы кинул их в Снежка.
— Ишь расселась! Вот тебе! Вот тебе!
Камешки так и летели в Снежка. Один камешек попал в ухо и поранил его до крови. Снежок наконец поджал хвост и выскочил за изгородь.
За изгородью весело порхала белая бабочка, искрясь на солнце серебристой пыльцой крыльев.
— Что, брат, ты теперь бездомный пес? — пискнула бабочка. Снежок вздохнул, постоял немного у трамвайного столба и
поплелся куда глаза глядят.3
Прогнанный своими хозяевами, Снежок стал скитаться по городу. Он бродил по улицам, забирался в парки, забегал в переулки, но нигде не мог уйти от одного — от вида своей черной шерсти. То он оказывался перед зеркалами парикмахерской, поставленными у двери, чтобы в них могли смотреться посетители, то он видел себя в луже, в которой голубело проясняющееся после дождя небо, то его черная фигура отражалась в зеркальном стекле нарядной витрины, то непрошеным зеркалом ему служили большие блестящие кружки с черным пивом, стоявшие на столиках в кафе...
Один раз, когда Снежок тихонько брел вдоль решетки парка, к воротам подкатил автомобиль, и в его блестящем лакированном кузове Снежок четко, как в зеркале, увидел и решетку парка, и свешивающиеся над ней зеленеющие ветки, и внизу, у ограды, большую черную собаку — самого себя. Тогда Снежок горестно вздохнул и убежал в парк. Повесив голову, он бродил под деревьями, в молодой листве которых шелестел легкий ветерок. Тишину нарушало только жужжание пчел, роившихся над цветами. И нигде не было ничего похожего на зеркало, кроме маленького пруда, который Снежок старательно обходил. В мирной тишине парка Снежок почти позабыл свое горе. Но недолго наслаждался он покоем. Едва только он вышел на обсаженную цветущими кустами дорожку, как из-за угла до него донесся пронзительный собачий лай:
— Гав-гав! Спасите! Гав-гав! Спасите!
Снежок задрожал. Этот вопль живо напомнил ему ужасный конец Кляксы. Зажмурившись, он повернулся, чтобы убежать. Но это продолжалось буквально одно мгновение. Снежок сразу же испустил громкий лай и повернул обратно.
422
— Гаг-гав! Спасите! Гав-гав! Спасите! — донеслось до него снова.
— Гав-гав! Не трусь! Гав-гав! Не трусь! — отозвался Снежок.
Наклонив голову, он стрелой помчался в сторону крика.
Однако, когда Снежок прибежал, он увидел перед собой вовсе не живодера. Просто несколько мальчиков в форменных костюмчиках, по-видимому, возвращаясь из школы, шумно возились, волоча за шею на веревке рыжего щенка. Щенок изо всех сил упирался лапами и все кричал: «Спасите!» Но дети не обращали на его вопли никакого внимания. Они смеялись, перекрикивались или пинали щенка ногой в бок.
Ни минуты не мешкая, Снежок с лаем накинулся на детей. От неожиданности они перепугались. Да и в самом деле, у Снежка с его горящими глазами и оскаленными клыками был очень грозный вид. Мальчики разбежались во все стороны, а один из них так растерялся, что даже попал на газон. Прогнав их подальше, Снежок вернулся к щенку и полусердито заговорил:
— Пойдем вместе. Я провожу тебя домой.
Снежок побежал к выходу из парка, а щенок радостно трусил за ним вслед, стараясь не отстать, то пробираясь под скамейками, то наступая на цветы. Конец веревки, обвязанный вокруг его шеи, все еще волочился за ним по земле.
* * *
Через час Снежок стоял с рыжим щенком перед дешевым кафе. Даже днем в этом полутемном кафе горел электрический свет и звучал хриплый граммофон. Горделиво помахивая хвостом, щенок рассказывал Снежку:
— Вот эдесь я живу. В этом кафе. А вы где живете, папаша?
— Я? Я?.. Далеко отсюда, на другой улице. — Снежок грустно вздохнул. — Ну, я пойду.
— Погодите, папаша. Хозяин у вас сердитый?
— Хозяин? Почему ты об этом спрашиваешь?
«-У Если ваш хозяин не сердитый, останьтесь у нас на ночь. Тогда моя мама сможет поблагодарить вас за то, что вы спасли мне жизнь. У нас дома есть всякие вкусные вещи —и молоко, и кофе, и бифштексы.
— Спасибо, спасибо. Но у меня еще есть кое-какие дела, отложим угощение на другой раз. Привет твоей маме.
Снежок поднял глаза на небо, вздохнул и повернулся, чтобы идтп.
— Папаша, папаша! — Щенок огорченно дернул носом. —
423
Скажите хоть, как вас зовут. Мое имя Наполеон, а зовут меня попросту Напотян, Напоко. А вас?
— Меня зовут Снежок.
— Снежок? Вот странное имя! Ведь вы же совсем черный. У Снежка перехватило горло.
— А все-таки меня зовут Снежок!
— Ну, буду звать вас папаша Снежок. Папаша Снежок, поскорей приходите к нам, непременно!
— Ну, Напотян, до свиданья.
— Будьте здоровы, папаша Снежок, до свиданья, до свиданья.
4
Что же случилось со Снежком лотом? Собственно говоря, незачем об этом рассказывать — все известно по газетам. Газеты написали самое главное о храброй черной собаке, не раз спасавшей людей от смертельной опасности. Был даже фильм «Собака-герой». Эта черная собака, конечно, и есть Снежок. Но если кто-нибудь не прочел этого в свое время и не видел фильма, то пусть посмотрит приведенные ниже выдержки из газет.
«Токио Нитинити», 18 июля. Вчера в 8 ч. 40 м. утра в то время, как скорый поезд из Оу проходил по переезду близ станции Табати, по недосмотру стрелочника сын служащего фирмы «Таба-та Итинисан кайся» Сибаяма Тэцутаро, четырехлетний Санэхико, оказался на рельсах и чуть не попал под поезд. В эту минуту большая черная собака как молния кинулась на рельсы и благополучно стащила мальчика с полотна, выхватив его из-под самого паровоза. Во время поднявшейся суматохи собака куда-то исчезла, так что ей не удалось повесить на шею медаль за спасение погибающих, чем железнодорожные власти весьма смущены».
«Токио Асахи симбун», 1 августа. У супруги американца Эдварда Барклей, проводящего летний сезон в Каруидзава, была персидская кошка, которую она очень любила. Недавно на дачу забралась огромная змея и набросилась на кошку. Вдруг на помощь кошке выскочила какая-то никому не ведомая черпая собака и после двадцатиминутной борьбы загрызла змею. Храбрая собака после этого скрылась, и м-с Барклей предлагает 50 долларов за указание ее местонахождения».
«Кокумин симбун». Трое учеников 1-й Нормальной школы, пропавшие без вести во время перехода через Японские Альпы, 7 августа благополучно прибыли к горячим источникам Камикоти. Эта группа альпинистов между Хотакаяма и Яригатакэ сбилась с дороги и, застигнутая ураганом и ливнями, не имея пристанища
424
и страдая от голода, находилась на краю смерти. Неожиданно в ущелье, где приютились альпинисты, откуда-то появилась большая черная собака и побежала вперед, как бы зовя их за собой. Следуя за собакой, альпинисты через сутки с лишним наконец добрались до Камикоти. Как только впереди показались крыши курортных зданий, собака издала короткий радостный лай и убежала в заросли бамбука. Альпинисты считают, что появлением собаки они обязаны покровительству богов».
«Дзидзи симпо», 13 сентября. Пожар в Нагоя унес больше десяти жертв, причем городской голова чуть не потерял единственного ребенка. По чьей-то оплошности трехлетний Такэнори остался в пылавшем мезонине, но в то мгновение, когда пламя чуть не перекинулось на ребенка, какая-то черная собака схватила его в зубы и вытащила наружу. Городской голова запретил в пределах города Нагоя убивать бродячих собак».
«Ёмиури симбун». В зверинце Мияги, гастролирующем в Одавара и много дней собиравшем у себя массу публики, 25 октября сибирский волк внезапно сломал крепкие прутья своей клетки, ранил двух сторожей и убежал в сторону Хаконэ. Полицейские власти Одавара поставили на ноги всю полицию и оцепили город. В 4 ч. 30 м. дня вышеозначенный волк появился на улице Дзюдзи и вступил в бой с откуда-то взявшейся черной собакой. Собака боролась изо всех сил и в конце концов, вцепившись в горло своему врагу, повалила его наземь. Тут сбежались полицейские и прикончили волка выстрелами. Этот волк носит название lupus gigantus — и принадлежит к самой свирепой разновидности этой породы. Хозяин зверинца считает убийство волка незаконным и собирается подать в суд на полицейский участок».
И так далее.
5
Стояла осенняя ночь, когда Снежок, уставший и телом и душой, вернулся домой к своим хозяевам.
Девочка и мальчик давно уже легли спать, да и никого уже в доме не было на ногах. Над газоном затихшего сада, над ветвями клена висела серебряная луна. Снежок, мокрый от росы, устало прилег перед своей старой светло-желтой будкой, вытянув передние лапы и, глядя на луну, проговорил:
— О Луна! О Луна! На глазах у меня погиб бедный Клякса, а я ничем ему не помог. Вероятно, за это я и стал сам черный. Но с тех пор, как я расстался с моими хозяевами, с девочкой и мальчиком, я храбро сражался со всякими опасностями. Потому что каждый раз, когда я вижу себя, черного, как копоть, мне
425
делается стыдно за мою трусость. Из отвращения к моей черноте, из желания избавиться от моей черноты я кидался в огонь, бился с змеей, боролся с волком. Но сама смерть при виде меня убегает прочь. Я измучился, у меня нет больше сил. Одно у меня желание — еще раз увидать моих любимых хозяев. Ах, если бы они могли меня узнать! Но это невозможно. Завтра, когда девочка и мальчик меня увидят, они опять примут меня за бродячую собаку. И, может быть, мальчик даже убьет меня своей палкой. Но все равно. Увидеть их — вот мое самое горячее желание. О Луна! Я хочу только одного — еще раз посмотреть в глаза моим любимым хозяевам. Вот почему я этой ночью издалека прибрел сюда. Прошу тебя, Луна, сделай так, чтоб я завтра встретился с девочкой и мальчиком.
Проговорив все это, Снежок уткнул морду в лапы и крепко уснул.
* * *
— Вот чудо-то, Харуо-сан!
— Что такое, сестричка?
Снежок проснулся от звука тоненьких голосов детей; девочка и мальчик удивленно переглядывались, стоя перед собачьей будкой. Снежок опустил глаза на траву. Ведь так же изумились девочка и мальчик, когда он стал черным. Снежок вспомнил об этом, и так грустно ему стало, что он даже пожалел о своем возвращении. И вот в эту самую минуту мальчик вдруг подпрыгнул и громко крикнул:
— Папа! Мама! Снежок вернулся!
Снежок! Снежок вскочил. Он готов был убежать. Но девочка протянула руки и крепко обняла его за шею. Тогда Снежок пристально посмотрел ей в глаза — и в ее черных врачках он увидел четко отражавшуюся в них светло-желтую собачью будку под кленом, а перед будкой крошечную, как зерно риса, белую собаку. Он не мог отвести глаз от этой белой собаки.
— Смотри, Снежок плачет! — сказала девочка, обнимая Снежка, и обернулась к брату. А мальчик — о, какой у него был самодовольный вид!
— А сама? Старшая, а ревешь!
Так Снежок опять стал белым и опять зажил у своих любимых хозяев, девочки и мальчика. Но никогда ни они, да и никто другой не узнал, что Снежок и есть та храбрая черная собака, которая спасла жизнь многим людям и заслужила такую славу. Откуда же я это знаю? — спросите вы. А мне это как-то ночью рассказала та самая Луна.
Июль 1923 г.
426
Ясукити совсем недавно исполнилось тридцать лет. Как и всякий литературный поденщик, он ведет жизнь, суматошную до головокружения, у него едва хватает времени подумать о завтрашнем дне, а о вчерашнем он почти никогда не вспоминает. Но один случай из прошлого отчетливо встает в памяти — идет ли Ясукити по улице, сидит ли за работой, едет ли в электричке. Ясукити знает по опыту, что это результат ассоциации, вызванной знакомыми запахами, точнее говоря — зловонием, этим бедствием городской жизни. Вряд ли кому-нибудь нравится вдыхать, например, паровозную копоть. Но стоило Ясукити ощутить ее запах, как в нем вспыхивало, подобно искрам, вылетающим из трубы, воспоминание об одной встрече, происшедшей лет пять-шесть назад.
Впервые он увидел эту девушку на одной дачной станции, где он жил в то время, вернее, на перроне этой станции. В любую погоду, будь то дождь или ветер, он уезжал утром восьмичасовым поездом, который шел из Токио, а вечером, в четыре двадцать, возвращался домой. Зачем он это делал — в конце концов, не важно. Но если каждый день в одно и то же время ждешь электричку, то, конечно, появляется, по крайней мере, с дюжину знакомых лиц. Одно из этих лиц принадлежало той самой девушке. Он, однако, хорошо помнил, что ни разу не видел ее в предвечерние часы, по крайней мере, с новогодних праздников и примерно до двадцатых чисел марта, а утренним поездом на Токио, которым ездила девушка, Ясукити не пользовался.
Девушке было лет шестнадцать — семнадцать. На ней всегда был неизменный серебристо-серый костюм, точно такая же шляпка, серебристо-серые чулки и туфли на высоком каблуке. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной, особенно стройны были ноги, изящные, как у лани. Ее нельзя было назвать красавицей. Но ведь даже среди героинь современных романов, будь то западных или восточных, Ясукити ни разу не встречал безупречных красавиц. В описании женщин каждый писатель почему-то считал своим долгом оговориться: «Она не была красивой. Однако...»—будто признание красоты могло повредить престижу современного человека. Поэтому не удивительно, что и Ясукити, думая о девушке, мысленно делал такую оговорку. Итак, ее нельзя было назвать красавицей. Она была просто мила, круглолица, с чуть вздернутым носиком.
Девушка то стояла с рассеянным видом в шумной толпе, то, сидя на скамейке, читала что-нибудь, то медленно прогуливалась по платформе. При виде девушки Ясукити не испытывал ни серд-
427
цебиения, ни какого-либо особого волнения, как это бывает в любовных романах. Просто он мысленно отмечал: «А вот и она», — как делал это, заметив командующего военно-морским округом или кошку в лавчонке. Короче говоря, девушка была для него просто знакомым лицом, к которому он питал дружеское расположение. Если случалось, что ее не было на платформе, он ощущал нечто похожее на разочарование, словно ему чего-то не хватало. Примерно такое же чувство он испытал однажды, когда исчезла на несколько дней кошка из лавки. Пожалуй, еще меньше взволновало бы Ясукити известие о смерти командующего военно-морским округом или о другой постигшей его беде.
Это случилось в один из теплых сырых пасмурных дней конца марта. Ясукити, как всегда, ехал с работы в поезде токийского направления, приходившем на станцию в четыре двадцать. Видимо, он сильно устал, потому что в вагоне не читал, как обычно, а сидел, прислонившись к окну, и смотрел на весенние горы и поля. Вдруг он вспомнил, что в одном из европейских романов шум поезда, бегущего по равнине, был передан так: «Тратата, тратата», а стук колес по железнодорожному мосту — «Трарарах-трарарах». Если слушать не очень внимательно, может показаться, что это и в самом деле так. Да, все это Ясукити помнил.
Прошло тридцать томительных минут, и Ясукити наконец сошел с поезда на уже известной читателю дачной платформе. Там стоял поезд из Токио, пришедший немного раньше. Ясукити смешался с толпой и вдруг среди выходивших из этого поезда увидел девушку. Никогда раньше он не встречал ее здесь в это время дня. И вот сейчас она совсем неожиданно появилась перед ним, серебристо-серая, как облако, пронизанное солнечным светом, как ветка серебристой ивы. Ясукити опешил. Кажется, девушка в этот момент тоже вэглянула на него. Он даже был в этом уверен. И тут Ясукити, сам того не ожидая, поклонился ей.
Девушка растерялась. К сожалению, он не помнил, какое у нее было тогда выражение лица, да и не до того ему было. «Что я наделал!»—мелькнуло у него в голове, и он тотчас почувствовал, как горят у него уши. Но он хорошо помнил, что девушка ответила на поклон.
Наконец он вышел со станции, продолжая злиться на себя за свою глупость. Что это он вдруг поклонился? Это получилось непроизвольно. Так человек моргает, когда неожиданно сверкнет молния. А за поступок, совершенный помимо воли, никто не несет ответственности. Но все же что она подумала о нем? Да, ведь она ему кивнула. Быть может, тоже непроизвольно? Быть может, она считает Ясукити скверным мальчишкой? Надо было
428
сразу же извиниться перед ней за дерзость. И то, что ему даже не пришло это в голову...
Не заходя домой, Ясукити пошел на взморье, там было тихо и пустынно. Когда ему становилась постылой его комната, которую он снимал за пять иен в месяц, пятидесятисэновые завтраки и вообще весь мир, он приходил на этот песчаный берег подымить своей трубкой из Глазго. Это случалось с ним довольно часто. Вот и сегодня, глядя на пасмурное море, он прежде всего поднес спичку к трубке. Сделанного не поправишь. Но ведь завтра он снова увидит эту девушку. Как она поведет себя? Быть может, не удостоит даже взглядом? Или снова ответит на поклон, если не считает его скверным мальчишкой? На его поклон? Неужели он — Ясукити Хорикава — намерен как ни в чем не бывало еще раз поклониться этой девушке? Нет, он не сделает этого. Но ведь сегодня он это сделал, и, возможно, при случае он и девушка снова обменяются приветствиями. Допустим, что это так... Ясукити вдруг вспомнил, какие красивые у нее брови...
С тех пор прошло лет семь или восемь, но Ясукити удивительно отчетливо помнит, как спокойно было тогда море. Он долго стоял на берегу, рассеянно глядя на его неподвижную поверхность, трубка давно погасла. Сначала он размышлял о девушке, потом мысли его перешли на задуманный им новый роман. Героем его будет учитель английского языка, проникнутый революционным духом. У него твердый характер, он никогда ни перед кем не склоняет головы... Но вот однажды он нечаянно поклонился одной девушке, которую знал в лицо. Небольшого роста, она все же производила впечатление стройной, особенно стройны ноги в серебристо-серых чулках и туфельках на высоком каблуке. Видимо, девушка не выходила из головы Ясукити.
На следующее утро, без пяти восемь, Ясукити ходил по перрону, заполненному людьми, и в смятении ждал появления девушки. Он был бы рад избежать встречи и в то же время желал ее. Так чувствует себя боксер накануне матча с сильным противником. Ясукити одолевало какое-то странное беспокойство, он боялся, что совершит опрометчивый поступок. Ведь поцеловал же когда-то при всех Жан Ришпен Сару Бернар. Ясукити — японец и на такую дерзость не отважится. Но показать язык или состроить гримасу — на это он способен. Ощущая в сердце холодок страха, он исподтишка посматривал на людей. И наконец увидел девушку, — она неторопливо шла прямо к нему. Ясукити тоже продолжал идти, будто навстречу самой судьбе. Они быстро приближались друг к другу. Десять шагов, пять шагов, три шага — вот они поравнялись. Ясукити посмотрел ей в глаза. Девушка спокойно, даже бесстрастно ответила на его взгляд. Они уже
429
готовы были разминуться, как совершенно незнакомые друг другу люди.
Но в это мгновение Ясукити уловил какое-то движение в глазах девушки, и ему неудержимо захотелось поклониться. Все это произошло буквально в один миг. Похожая на серебристое облако, пронизанное солнцем, на ветку серебристой ивы, девушка медленно прошла мимо, а он, мысленно ахнув, остался на месте...
Минут двадцать спустя Ясукити, с английской трубкой в зубах, трясся в поезде. У девушки были красивы не только брови, но и глаза, черные и ясные... И чуть вздернутый нос... Неужели это любовь? Он не помнит, как ответил тогда сам себе на этот вопрос. Помнит лишь ощущение охватившей его смутной тоски. Следя за струйкой дыма, поднимавшейся из трубки, он с грустью неотрывно думал о девушке. А поезд несся и несся по ущелью в горах, освещенных утренним солнцем.
«Тратата, тратата, тратата, трарарах».
Сентябрь 1923
Ясукити знал хозяина этой лавки очень давно.
Очень давно, — кажется, с того самого дня, когда его перевели сюда в морской корпус. Он случайно зашел купить коробку спичек. В лавке была маленькая витрина; за стеклом, вокруг модели крейсера «Микаса» с адмиральским вымпелом, стояли бутылки Кюрасао, банки какао и коробки с изюмом. Но над входом висела вывеска с красной надписью «Табак», значит, конечно, должны быть в продаже и спички. Ясукити заглянул в лавку и сказал: «Дайте коробку спичек». Неподалеку от входа за высокой конторкой стоял со скучающим видом косоглазый молодой человек. При виде посетителя он, не отодвигая счетов, не улыбнувшись, ответил:
— Возьмите вот это. Спички, к сожалению, все вышли. «Вот это» было крошечной коробочкой, какие дают в приложение к папиросам.
— Мне, право, неудобно... Тогда дайте пачку «Асахи».
— Ничего. Берите.
— Нет уж, дайте пачку «Асахи».
— Берите же, если она вам годится. Незачем покупать то, что не нужно.
Слова косоглазого были, несомненно, вполне любезны. Но его тон и лицо выражали удивительную неприветливость. И попросту ужасно не хотелось у него что-либо брать. А повернуться и
430
уйти было как-то неловко. Ясукити волей-неволей положил на конторку медную монетку в один сэн.
— Ну, так дайте две таких коробочки.
— Пожалуйста, хоть две, хоть три. Только платить не надо.
К счастью, в эту минуту из-за рекламы «Кинсэн-сайда», висевшей у двери, показался приказчик — прыщеватый малый с неопределенным выражением лица.
— Спички здесь, хозяин.
Внутренне торжествуя, Ясукити купил коробку спичек нормального размера. Стоили они, разумеется, один сэн. Но никогда еще спички не казались ему такими красивыми. А торговая марка — парусник на треугольных волнах — была так хороша, что хоть вставляй в рамку. Бережно опустив спички в карман брюк, Ясукити с чувством одержанной победы вышел из лавки.
С тех пор в течение полугода Ясукити по пути в корпус и обратно часто захаживал в эту лавку. И теперь еще, закрыв глаза, он мог отчетливо ее себе представить. С потолочной балки свешивается камакурская ветчина. Через окно в мелком переплете падает на оштукатуренную стену зеленоватый солнечный свет. Бумажки, валяющиеся на дощатом полу, — это рекламы сгущенного молока. На столбе прямо напротив входа висит под часами большой календарь. И остальное — крейсер «Микаса» на витрине, реклама «Кинсэн-сайда», стул, телефон, велосипед, шотландское виски, американский изюм, манильские сигары, египетские папиросы, копченая сельдь, жаренная в сое говядина, — почти все сохранилось в памяти. Особенно выставлявшаяся из-за высокой конторки надутая физиономия хозяина, на которого он насмотрелся до отвращения. Не только насмотрелся. Он знал до мелочей все его привычки и повадки, как он кашляет, как отдает распоряжения приказчику, как уговаривает покупателя, зашедшего за банкой какао. «Возьмите лучше не «Фрай», а это. Это голландское «Дрост». Знать все это было неплохо. Но, уж конечно, очень скучно. И иногда, когда Ясукити заходил в эту лавку, ему начинало казаться, что он служит учителем уже давным-давно. На самом же деле он не прослужил еще и года.
Но всесильные перемены не обошли и этой лавки. Как-то утром в начале лета Ясукити зашел купить папирос. В лавке все было как обычно, все так же на обрызганном полу валялись рекламы сгущенного молока. Но вместо косоглазого хозяина за конторкой сидела женщина, причесанная по-европейски. Лет ей было, вероятно, девятнадцать. En face она походила на кошечку. На белую кошечку, которая щурится на солнце. Изумляясь, Ясукити подошел к конторке.
— Две пачки «Асахи».
431
— Сейчас.
Женщина ответила смущенно. Вдобавок подала она ему не «Асахи»: обе пачки были «Микаса» с изображением восходящего солнца на оборотной стороне. Ясукити невольно перевел взгляд с пачек на личико женщины. И сейчас же представил себе, что у нее под носиком торчат длинные кошачьи усы.
— Я просил «Асахи», а это «Микаса».
— Ох, в самом деле! Извините, пожалуйста.
Кошечка — нет, женщина — покраснела. Это ее душевное движение было чисто девическим. И не таким, как у современной барышни. Это была девушка во вкусе «Кэнъюся», каких нет уже лет пять-шесть. Шаря в кармане в поисках мелочи, Ясукити вспоминал «Сверстников», свертки в двухцветных фуросики, ирисы, квартал Рёгоку, Кабураги Киёката и многое другое. Тем временем женщина старательно искала под конторкой «Асахи».
Тут из внутренней двери показался прежний косоглазый хозяин. Увидев «Микаса», он с первого взгляда уяснил себе положение. С обычным своим кислым выражением лица он опустил руку под конторку и протянул Ясукити две пачки «Асахи». Но в глазах у него, хоть и едва заметно, теплилось что-то похожее на улыбку.
— Спичек?
Глаза женщины томно сощурились, точно у кошечки, готовой замурлыкать. Хозяин, не отвечая, только слегка кивнул, женщина моментально положила на конторку маленькую коробочку спичек. Потом еще раз смущенно засмеялась.
— Извините, пожалуйста...
Извинялась она не только за то, что дала «Микаса» вместо «Асахи». Переводя взгляд с нее на хозяина, Ясукити почувствовал, что улыбается сам.
С тех пор, когда бы он ни пришел, женщина сидела за конторкой. Впрочем, она уже не была причесана по-европейски, как в первый раз. Теперь волосы у нее были уложены в большой узел марумагэ с аккуратно продетой красной лентой. Но с покупателями она обращалась все так же неумело. Мешкала с ответом. Путала товары. Вдобавок по временам краснела. Она совсем не была похожа на хозяйку. Ясукити понемногу начал питать к ней симпатию. Это не значило, что он влюбился. Просто ему нравилась ее застенчивость.
Как-то в томительный зной, под вечер, Ясукити по пути из корпуса зашел в лавку за банкой какао. Женщина и на этот раз сидела за конторкой, читая журнал «Кодан-курабу». Ясукити спросил прыщеватого приказчика, нет ли какао марки «Ван Гутен».
432
— Сейчас есть только такое.
Приказчик протянул ему банку «Фрай». Ясукити окинул взглядом лавку. Среди фруктовых консервов оказалась банка с маркой, изображающей европейскую монахиню.
— А вон там, кажется, есть «Дрост»?
Приказчик оглянулся на указанную полку, и лицо его выразило растерянность.
— Да, это тоже какао.
— Значит, есть не только такое?
— Нет, только такое... Хозяйка, какао у нас только «Фрай»?
Ясукити оглянулся на женщину. Лицо женщины, слегка
сощурившей глаза, было красивого зеленого оттенка. В этом не было ничего удивительного — лучи вечернего солнца падали в лавку через цветные стекла окна в мелком переплете. Не снимая локтя с журнала, женщина, как обычно, с запинкой ответила:— Я думала, что осталось только такое, но...
— Видите ли, в какао «Фрай» иногда попадаются черви, — серьезным тоном заговорил Ясукити. На самом деле ему ни разу не случалось видеть какао с червями: просто он был уверен, что сказать так — верный способ убедиться, имеется ли какао «Ван Гутен». — И попадаются довольно крупные. С мизинец...
Женщина чуть-чуть испуганно перегнулась за конторку.
— А вон там не осталось ли? На задней полке?
— Только красные банки. Здесь других нет.
— Ну, а тут?
Постукивая своими тэта, женщина вышла из-за конторки я принялась с беспокойством искать по лавке. Растерянному приказчику тоже волей-неволей пришлось посмотреть среди консервов. Ясукити, закурив папиросу, с расстановкой говорил для поощрения:
— А если таким червивым какао напоить детей, то у них разболится живот. (Он снимал на даче комнату совершенно один.) Да что там дети — жена тоже раз пострадала. (Никакой жены у него, разумеется, не было.) Так что не подумайте, что я чересчур осторожен...
Ясукити вдруг замолчал. Женщина, вытирая руки передником, в замешательстве смотрела на него.
— Право, не могу найти...
В глазах ее была робость. Губы силились улыбнуться. Особенно забавно было, что на носу у нее выступили капельки пота. Встретившись с ней глазами, Ясукити вдруг почувствовал, что в него вселился злой бес. Эта женщина была точь-в-точь как мимоза. На каждое раздражение она реагировала именно так, как он ожидал. И раздражение это могло быть совсем простым. До-
433
статочно было пристально посмотреть ей в лицо или тронуть ее кончиком пальца. Одного этого было бы довольно, чтобы она поняла, чего хочет Ясукити. Как бы она поступила, поняв, чего он хочет, это, разумеется, оставалось неизвестным. А вдруг она не даст отпора?.. Нет, кошку можно у себя держать. Но ради женщины, похожей на кошечку, отдавать душу во власть злого беса не очень-то разумно. Ясукити выбросил недокуренную папиросу и вышвырнул вселившегося в него беса. Бес от неожиданности перекувырнулся и попал в нос приказчику — и приказчик, не успев увернуться, несколько раз подряд громко чихнул.
— Ничего не поделаешь. Дайте банку «Дрост».
Ясукити с кривой улыбкой стал шарить в кармане, ища мелочь.
После этого у Ясукити с ней не раз повторялся тот же разговор. К счастью, сколько он помнил, это был единственный раз, когда в него вселился бео. Более того, как-то раз Ясукити даже почувствовал, что на него слетел ангел.
Однажды поздней осенью Ясукити, зайдя под вечер за папиросами, решил заодно воспользоваться в лавке телефоном. Перед лавкой на самом солнце хозяин возился с велосипедом, накачивая шину. Приказчик, по-видимому, ушел по поручениям. Женщина, сидя, как обычно, за конторкой, приводила в порядок какие-то счета. Во всей этой неизменной обстановке лавки не было ничего неприятного. Все здесь дышало мирным счастьем, как жанровая картина голландской школы. Стоя позади женщины с телефонной трубкой у уха, Ясукити вспомнил свою любимую репродукцию Де Хуга.
Однако, сколько он ни звонил, он никак не мог добиться соединения с нужным номером. Мало того, телефонистка, переспросив раза два: «Номер?» — вдруг совсем замолкла. Ясукити звонил снова и снова. Но в трубке только потрескивало. Тут уж ему стало не до того, чтобы вспоминать Де Хуга. Ясукити вытащил из кармана «Руководство по социализму» Спарго. К счастью, возле телефонного аппарата был ящичек, служивший чем-то вроде подставки для книг. Ясукити положил на него книгу и, пока глаза бегали по строкам, рука его, как только можно было медленно, упорно крутила ручку телефона. Это был его метод войны с упрямой телефонисткой. Как-то, подойдя к телефону-автомату на Гиндза-Овари-тё, он, прежде чем дозвониться, успел прочесть всего «Сабаси Дзингоро». И на этот раз он намеревался не отнимать руки от звонка, пока не добьется ответа телефонистки.
Пока он, основательно разругавшись с телефонисткой, наконец поговорил по телефону, прошло минут двадцать. Желая по-
434
благодарить, Ясукити оглянулся на прилавок. Но за прилавком никого не было. Женщина стояла у дверей и разговаривала с мужем. Хозяин, видимо, все еще возился со своим велосипедом на осеннем солнце. Ясукити направился к выходу, он невольно замедлил шаги. Женщина, стоя спиной к нему, спрашивала мужа:
— Давеча один покупатель хотел купить подменный кофе — что такое подменный кофе?
— Подменный кофе? — Хозяин разговаривал с женой тем же неприветливым тоном, что и с покупателями. — Ты, наверно, ослышалась: ячменный кофе.
— Ячменный кофе? А, кофе из ячменя! То-то я думала — смешно: подменного кофе в бакалее не бывает.
Ясукити стоял в лавке и смотрел на эту сцену. Тут-то он и почувствовал, как слетел ангел. Ангел пролетел под потолком, с которого свешивался окорок, и осенил благословением этих двух ничего не подозревавших людей. Правда, от запаха копченых селедок он слегка поморщился... Ясукити вдруг сообразил, что забыл купить копченых селедок. Их жалкие тушки грудой высились перед самым его носом.
— Послушайте, дайте мне этих селедок.
Женщина сраэу же обернулась. Это было как раз в ту минуту, когда она уразумела, что подменного кофе в бакалее не бывает. Несомненно, она догадалась, что ее разговор был услышан. Не успела она поднять глаз, как ее лицо, похожее на кошачью мордочку, залилось краской смущения. Ясукити, как уже упоминалось, и раньше не раз замечал, что она краснеет. Но такой пунцовой, как сейчас, он еще не видел ее никогда.
— Селедок? — тихо переспросила женщина.
— Да, селедок, — на этот раз особенно почтительным тоном ответил Ясукити.
После этого случая прошло месяца два, был январь следующего года. Женщина вдруг куда-то исчезла. Исчезла не на несколько дней. Когда бы Ясукити ни заходил, в лавке у старой печки со скучающим видом сидел в одиночестве косоглазый хозяин. Ясукити чувствовал, что ему чего-то не хватает, и строил разные догадки о причинах исчезновения хозяйки. Но обратиться к намеренно нелюбезному хозяину с вопросом: «Ваша супруга?..» — он не решался. В самом деле, он не только никогда ни о чем не говорил с хозяином, но даже к этой застенчивой женщине обращался только со словами: «Дайте то-то или то-то».
Тем временем замерзшие дороги начинало то день, то два подряд пригревать солнце. Но женщина все не показывалась. В лавке вокруг хозяина витал дух запустения. Понемногу Ясукити перестал замечать отсутствие хозяйки...
435
Как-то вечером в конце февраля только что закончив урок английского языка, Ясукити, обвеваемый теплым южным ветром, случайно проходил мимо лавки. За витриной, сверкая в электрическом свете, рядами стояли бутылки с европейскими винами и банки с консервами. В этом, разумеется, не было ничего необычного. Но вдруг он заметил, что перед лавкой стоит женщина с младенцем на руках и лепечет какой-то вздор. Из лавки на улицу падала широкая полоса света, и Ясукити сразу узнал, кто эта молодая мать.
— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...
Она прохаживалась перед лавкой и забавляла младенца. Покачивая его, она вдруг встретилась глазами с Ясукити. Ясукити мгновенно представил себе, как в ее глазах появится робость и как, заметно даже в темноте, покраснеет ее лицо. Однако женщина оставалась безмятежной. Глава ее тихо улыбались, на лице не было и тени смущения. Мало того, в следующее мгновение она опустила глаза на младенца и, не стеснясь чужих глаз, повторила:
— А-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-а...
Миновав женщину, Ясукити, сам того не замечая, горько засмеялся. Это уже была не «та женщина». Это была просто обыкновенная добрая мать. Страшная мать, одна из тех матерей, которые, когда дело идет об их ребенке, во все века готовы были на любое злодейство. Разумеется, пусть ей эта перемена принесет всяческое счастье. Но вместо девушки-жены обнаружить наглую мать... Шагая дальше, Ясукити рассеянно смотрел в небо над крышами. На небе, под которым веял южный ветер, слабо серебрилась круглая весенняя луна.
Ноябрь 1923 г,
Когда у о-Суми умер сын, началась пора сбора чая. Скончавшийся Нитаро последние восемь лет был калекой и не поднимался с постели. Смерть такого сына, о которой все кругом говорили «слава богу», для о-Суми была не таким уж горем. И когда она ставила перед гробом Нитаро ароматичную свечу, ей казалось, словно она наконец выбралась из какого-то длинного туннеля на свет.
После похорон Нитаро прежде всего встал вопрос о судьбе невестки о-Тами. У о-Тами был мальчик. Кроме того, почти все полевые работы вместо больного Нитаро лежали на ней. Если ее теперь отпустить, то не только пришлось бы возиться с ребенком, но и вообще трудно было бы даже просуществовать. О-Суми на-
436
деялась, что по истечении сорокадевятидневного траура она подыщет о-Тами мужа и тогда та по-прежнему будет исполнять всю работу, как это было при жизни сына. Ей хотелось взять аятем Ёкити, который приходился Нитаро двоюродным братом.
И поэтому, когда на следующее утро после первых семи дней траура о-Тами занялась уборкой, о-Суми испугалась чрезвычайно. О-Суми в это время играла с внуком Хиродзи на наружной галерее у задней комнаты. Игрушкой служила цветущая ветка вишни, тайком взятая в школе.
— Слушай, о-Тами, может, это плохо, что я до сих пор молчала... Но как же так?.. Ты хочешь оставить меня с ребенком и уйти?
Голос о-Суми звучал скорей жалобой, чем упреком. Однако о-Тами, даже не оглянувшись, весело произнесла:
— Что ты, матушка!
И этого было довольно, чтобы о-Суми вздохнула с облегчением.
— Вот как... Конечно, разве ты можешь так поступить...
О-Суми без конца ворчала, повторяя свои жалобы. Но ее слова звучали все более растроганно. Наконец по ее морщинистым щекам потекли слезы.
— Если ты только хочешь, я готова навсегда остаться в этом доме. Разве уйдешь по доброй воле от такого малыша!
С полными слез глазами о-Тами взяла Хиродзи к себе на колени. Почему-то застеснявшись, ребенок устремил все свое внимание на ветку вишни, упавшую в комнату на старые циновки.
О-Тами продолжала работать совершенно так же, как при жизни Нитаро. Но разговор о зяте оказался гораздо труднее, чем думала о-Суми. О-Тами, по-видимому, не питала никакого интереса к этому делу. О-Суми, конечно, при всяком удобном случае старалась понемногу ее убедить и заводила с ней откровенные разговоры. Однако о-Тами каждый раз отделывалась ответом: «Ладно, до следующего года!» Это, несомненно, и беспокоило о-Суми, и радовало ее. Беспокоясь, что скажут люди, она все же полагалась на слова невестки и ждала следующего года.
Но и в следующем году о-Тами, по-видимому, не думала ни о чем, кроме полевых работ. О-Суми еще раз, и притом более настойчиво, чем в прошлом году, возобновила разговор о ее замужестве. Отчасти потому, что ее огорчали упреки родственников и общие пересуды.
— Слушай, о-Тами, ты такая молодая, тебе нельзя без мужчины.
— Нельзя, да что поделаешь? Представь себе, что у нас в доме будет чужой. И Хиро жалко, и тебе неудобно, а уж мне каково?
437
— Так вот и возьмем Ёкити. Он, говорят, теперь совсем бросил играть в карты.
— Тебе-то он родственник, а для меня — совсем чужой. Ничего, если я терплю...
— Да ведь терпеть-то не год и не два.
— Ладно! Это ведь ради Хиро. Пусть мне теперь трудно, зато землю не придется делить, все перейдет к нему целиком...
— Так-то так, о-Тами (дойдя до этого места, о-Суми всегда многозначительно понижала голос), только очень уж поговаривают кругом. Вот если бы ты все, что мне тут говоришь, сказала другим...
Такие беседы повторялись много раз. Но это только укрепило, а отнюдь не поколебало решения о-Тами. И в самом деле, о-Тами работала еще усерднее, чем раньше; не прибегая к мужской помощи, сажала картофель, жала ячмень. Кроме того, летом она ходила за скотом, косила даже в дождь. Этой усердной работой она как бы выражала свой протест против того, чтобы ввести в дом «чужого». В конце концов о-Суми совсем бросила разговоры о замужестве невестки. Впрочем, нельзя сказать, чтобы это было ей неприятно.
О-Тами возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье. Это, несомненно, делалось с единственной мыслью: ради Хиро. Но в то же время в этой женщине, видимо, глубоко коренилась сила традиций. О-Тами была «чужая», она переселилась в эту местность из суровых горных областей. О-Суми часто приходилось слышать от соседок: «У твоей о-Тами сила не по росту. Вот недавно она таскала но четыре связки рису сразу!»
О-Суми выказывала невестке свою благодарность одним — работой: ухаживала за внуком, играла с ним, смотрела за быком, стряпала, стирала, ходила по соседству за водой — хлопот по дому было немало; но сгорбленная о-Суми делала все с веселым видом.
Однажды осенью о-Тами вернулась поздно вечером с охапкой сосновых веток. В это время о-Суми с внуком Хиродзи на сппне растапливала ванну в узкой каморке с земляным полом.
— Холодно! Что так поздно?
— Сегодня работы было больше.
О-Тами бросила ветки на пол и, не снимая с ног грязных ва-радзи, подошла к очагу. В очаге алым пламенем полыхали корни дуба. О-Суми хотела было сейчас же встать. Но с Хиродзи на спине ей удалось подняться, лишь опершись на край бадьи.
— Иди сейчас же купаться!
— Купаться? Я проголодалась! Лучше сначала поем картошки. Пожарила? А, матушка?..
438
О-Суми неверной походкой направилась к чулану и принесла горшок с обычным блюдом — печеным сладким картофелем.
— Давно готова, — наверно, уж остыла.
Обе нанизали картофель на бамбуковые вертела и протянули к огню.
— Хиро уже крепко спит. Надо бы уложить его в постель.
— Ничего, сегодня ужасный холод, внизу никак нельзя спать. С этими словами о-Тами сунула в рот дымящуюся картошку.
Так едят только крестьяне, уставшие от долгого трудового дня. Картофелина с вертела целиком попадала о-Тами в рот. Ощущая тяжесть слегка посапывавшего Хиродзи, о-Суми по-прежнему держала картофель на огне.
— Проголодаешься от такой работы!
О-Суми время от времени поглядывала на невестку глазами, полными восхищения. Но о-Тами при свете головешки только молча запихивала в рот картофелины, одну за другой.
О-Тами продолжала, не щадя сил, исполнять мужскую работу. Случалось даже, что она полола овощи ночью при свете ручного фонаря. К этой невестке, превосходившей по силам мужчину, о-Суми всегда питала уважение. Нет, скорее не уважение, а страх. Все, кроме работ в поле и в горах, о-Тами переложила на свекровь. Теперь она даже редко стирала себе белье. Но о-Суми, не жалуясь, гнула и так уже сгорбленную спину и трудилась не покладая рук. Больше того, при встречах с соседками она искренне расхваливала невестку: «О-Тами у меня молодец! Хоть бы я и померла, к нам в дом нужда не войдет...»
Но «хозяйственную жажду» о-Тами не так-то легко было утолить. Еще через год она заговорила о том, чтобы взяться за тутовые сады по ту сторону реки. По ее словам, сдавать в аренду участок почти в пять тан всего за десять иен глупо во всех смыслах. Гораздо лучше посадить там тутовые деревья и в свободное время заняться разведением шелковичных червей. Тогда, если только цены на шелк-сырец не изменятся, можно будет наверняка выручать в год по полтораста иен. Но хотя о-Суми и хотелось иметь побольше денег, мысль о новой работе была для нее невыносима. Разговор о разведении шелковичных червей окончательно вывел ее из себя, так как дело это чрезвычайно хлопотливое.
Ворчливым тоном она возразила невестке:
— Смотри, о-Тами! Я, конечно, от тебя не сбегу. Сбежать не сбегу, но подумай: мужских рук у нас нет, в доме маленький ревун. И так уж работы невпроворот. Это ты зря говоришь, где уж
439
тут справиться с шелковичными червями! Подумай немножко и обо мне!
Когда о-Тами увидела, что довела свекровь до слез, настаивать она уже не могла. Однако, отказавшись от мысли разводить шелковичных червей, она из упрямства настояла на устройстве тутового сада.
— Да уж ладно! С садом я ведь сама справлюсь, — насмешливо проворчала она, недовольно глядя на свекровь.
С этого времени о-Суми снова стала подумывать о том, чтобы взять невестке мужа. Она и раньше не раз мечтала о зяте, так как беспокоилась за будущее, и вдобавок ее смущало, что скажут люди. Но теперь на мысль о зяте ее навело желание избавиться от тяжелой работы, которую ей приходилось выполнять все то время, пока невестки не было дома. Поэтому ее желание взять зятя было куда острее, чем раньше.
Когда мандариновые деревья в саду за домом сплошь покрылись цветами, о-Суми, сидя на скамеечке под лампой и глядя поверх очков, которые она надевала по вечерам, осторожно навела речь на этот предмет. Но о-Тами, сидевшая, скрестив ноги, у очага, и жевавшая соленый горох, только уронила:
— Опять ты о муже! Слышать об этом не хочу! — и не обнаружила никакого желания продолжать разговор.
Прежде о-Суми этим бы удовлетворилась. Но теперь — теперь о-Суми упорно принялась ее убеждать:
— Нет, ты так не говори! Вот на завтрашние похороны как раз нашей семье назначено рыть могилу. Тут без мужчины...
— Ладно! Я сама пойду рыть.
— Как? Ты, женщина?!
О-Суми хотела нарочно рассмеяться. Но, взглянув в лицо невестки, не отважилась.
— Матушка, ведь не хочешь же ты сделаться инкё? О-Тами, обняв колени скрещенных ног, насмешливо бросила
эту шпильку. Неожиданно задетая за живое, о-Суми уронила свои большие очки. Но отчего она их уронила — этого она и сама не понимала.— Еще что выдумаешь!
— Забыла, что ты сама говорила, когда умер отец Хиро? «Делить нашу землю — грех перед предками...»
— Да, да! Я это говорила. Но как подумаешь — всему свое время. Тут уж ничего не поделаешь..
О-Суми всеми силами доказывала необходимость иметь в доме работника-мужчину. Но даже для нее самой ее слова звучали неубедительно. Прежде всего потому, что она не могла открыть свои истинные побуждения — желание пожить в покое.
440
Заметив это, о-Тами, не перестававшая жевать соленый горох, напустилась на свекровь. Ей помогала и недоступная о-Суми бойкость языка.
— Тебе-то что! Ты все равно умрешь раньше меня. Ведь и мне невесело так сохнуть. Я не из хвастовства остаюсь вдовой. Иной раз ночью, когда не спится от боли в суставах, так и думаешь, что все это глупое упрямство. Бывает и так, да видишь... Вспомнишь, что все это ради семьи, ради Хиро... а все равно плачешь и плачешь.
О-Суми только молча смотрела на невестку. Она ясно поняла одно: сколько ни старайся, не знать ей покоя, пока она не закроет глаза. Позже, когда невестка выговорилась до конца, она снова надела свои большие очки и почти про себя заключила разговор так:
— Видишь, о-Тами, в жизни не все делается по рассудку, подумай-ка об этом! А я ничего больше не стану тебе говорить.
Минут двадцать спустя кто-то из деревенских парней медленно прошел мимо дома, вполголоса напевая песенку: «Молодая тетушка / Нынче вышла на покос. / Эй, ложись-ка, травушка, / Срежу я тебя серпом». Когда песня замерла вдали, о-Суми еще раз поверх очков кинула взгляд на невестку. Но о-Тами только зевала, вытянув ноги.
— Ну, давай спать! Завтра вставать рано.
С этими словами, захватив еще горсть гороха, она устало поднялась от очага.
После этого о-Суми молча страдала три-четыре года. Это было страдание старой, выбившейся из сил клячи, на которую надели хомут. О-Тами по-прежнему без устали работала в поле. О-Суми по-прежнему не покладая рук исполняла мелкую домашнюю работу. Однако она все время была под страхом невидимого кнута, то и дело выслушивая упреки и выговоры от резкой о-Тами: то за то, что не согрела ванну, то за то, что забыла подсушить ячмень, то за то, что выпустила быка. Но она безропотно терпела. Отчасти по привычке к терпению и покорности, отчасти потому, что ее внук Хиродзи привязался к ней больше, чем к матери.
С виду о-Суми почти не изменилась. А если и изменилась, то лишь в том, что уже не хвалила невестку, как раньше. Но эта ничтожная перемена не привлекала особого внимания. По крайней мере, соседки всегда говорили о ней: «О-Суми? Она, слава богу...»
Однажды в летний солнечный полдень о-Суми судачила с соседками в тени виноградных лоз, закрывавших вход в амбар. Жужжали слепни в хлеву, и больше кругом не слышалось ни звука. За разговором соседка все время курила коротенькие сигареты: это были окурки сына, которые она усердно подбирала.
441
— А что о-Тами? Верно, косит? Такая молодая, а все делает
сама!— Что уж! Для женщины домашняя работа куда лучше.
— Нет, видно, ей больше по душе работа в поле. А моя невестка после свадьбы вот уже семь лет ни разу в поле не выходила, — ну, хоть бы пополоть. Целыми днями только и знает, что на детей стирать да одежду чинить.
— Оно и лучше! Чтобы на детей приятно было посмотреть, да и самой принарядиться — хоть перед людьми не стыдно.
— Да, нынешняя молодежь не любит полевых работ. Ой, что это там грохнуло?
— Это? Это бык стрельнул.
— Бык? Здорово!.. Да, полоть в такую жару да под солнцем и молодой-то трудно.
Так мирно беседовали старухи соседки.
Больше восьми лет после смерти мужа о-Тами одна держала на своих женских плечах всю семью.
За это время ее имя постепенно стало известно за пределами деревни. Она не была уже больше молодой вдовой, которую день и ночь снедает «хозяйственная лихорадка». И, конечно, не была больше для деревенской молодежи «молодой тетушкой». Зато она стала примерной невесткой. Образцом женской добродетели. «Посмотри на о-Тами-сан!» — можно было услышать от всякого, как поговорку. О-Суми не жаловалась на свои страдания даже соседкам. Ей и в голову не приходило жаловаться. Но в глубине души, может быть, и не совсем сознательно, она еще таила какую-то надежду на провидение. Однако и эта надежда таяла, как пена. Теперь ей не на кого было опереться, кроме внука Хиродзи. О-Суми сосредоточила на двенадцатилетнем мальчике всю свою любовь. Но часто ей казалось, что она может лишиться и этой последней опоры.
Однажды в ясный осенний день Хиродзи со связкой книг под мышкой стремглав прибежал из школы. В это время о-Суми, ловко орудуя большим кухонным ножом, готовила перед амбаром финиковые сливы для сушки. Хиродзи легко перепрыгнул через циновку, на которой сушился ячмень, и, сдвинув ноги, почтительно поздоровался с бабушкой. Потом ни с того ни с сего серьезно спросил:
— Слушай, бабушка, моя мама — самый замечательный человек?
О-Суми невольно придержала нож и взглянула на внука.
— Почему?
442
— Это сказал учитель на уроке морали. «Мать Хиродзи — самый замечательный человек во всей округе».
— Учитель?
— Да, учитель. Это правда?
О-Суми сначала смутилась. Даже внука учат в школе такой лжи! Для о-Суми большей неожиданности не могло быть. Но после минутного замешательства, охваченная приступом гнева, о-Суми принялась ругать о-Тами так, что сама на себя стала непохожа.
— Это ложь, это сплошная ложь! Твоя мать до одури работает в поле, вот отчего для других она и замечательная. Но она дурной человек. Она попусту гоняет бабку то туда, то сюда, она грубая.
Хиродзи испуганно смотрел на изменившуюся в лице бабушку. А о-Суми, может быть, испытывая раскаяние, вдруг заплакала.
— Поэтому-то у бабки одна надежда — ты. Ты этого не забывай! Как только тебе будет семнадцать дет, сразу женись, дай бабке вздохнуть! Твоя мать терпелива, она готова ждать, пока ты не отбудешь воинскую повинность. Да разве можно так долго ждать? Ведь правда? Ты позаботься о бабке и за себя и за отца. Если ты так поступишь, и бабка тебе дурного не сделает. Все тебе отдаст.
— Когда сливы поспеют, ты мне их дашь?
Хиродзи перебирал лежавшие в корзине аппетитные плоды.
— Да, да! Как же не дать? Ты хоть годами мал, а все понимаешь. Смотри же, всегда помни, что я тебе сказала...
О-Суми засмеялась сквозь слезы, и смех ее был похож на икоту...
На другой вечер после этого маленького происшествия о-Суми из-за пустяка жестоко поссорилась с о-Тами. Все началось с того, что о-Суми съела картофель, предназначавшийся для невестки. Но, слово за слово, ссора разгорелась, и о-Тами с насмешливой улыбкой сказала: «Раз не хочешь работать, тебе только и остается, что умереть». О-Суми сильно обозлилась — еще больше, чем накануне. Хиродзи в это время как раз крепко спал, склонив голову бабушке на колени. Но о-Суми даже растолкала внука и долго бранилась:
— Хиро, вставай! Хиро, вставай! Послушай, что говорит твоя мать! Твоя мать сказала, что мне пора умирать. Слушай хорошенько: при твоей матери денег у нас немного прибавилось, это правда, но наша земля, целое те и три тан, все это было вспахано в первый раз еще дедом и бабкой. Как же так? Мать говорит, чтобы я помирала, если я хочу на покой. Хорошо, о-Тами, я умру!
443
Я не боюсь смерти! Но тебя, о-Тами, я слушаться не стану! Да, я умру! Конечно, умру! Но после смерти не дам тебе житья...
О-Суми громко бранилась, бранилась и обнимала плачущего внука. Но о-Тами разлеглась на полу у очага с таким видом, будто ничего не слышала.
Однако о-Суми не умерла. Зато на другой год, перед праздником Доё, о-Тами, всегда хваставшаяся своим здоровьем, заразилась брюшным тифом и на восьмой день скончалась. Правда, в то время даже в этой маленькой деревушке было очень много больных тифом. К тому же перед болезнью о-Тами, поскольку настала ее очередь, ходила рыть могилу для кузнеца, тоже погибшего от тифа. В кузнице остался мальчик-ученик, которого в день похорон она отвезла в инфекционную больницу. «Там ты, наверно, и заразилась», — со скрытым упреком говорила о-Суми, когда невестка вернулась от врача с багровым лицом.
В день похорон о-Тами шел дождь. Но в деревне все до единого, во главе со старостой, собрались на похороны. Все жалели безвременно скончавшуюся о-Тами и выражали сочувствие Хирод-зи и о-Суми, потерявшим дорогую кормилицу. А староста сказал, что в скором времени в уезде состоится официальное засвидетельствование заслуг о-Тами. При этих словах о-Суми оставалось только склонить голову. «Что ж, такая судьба, надо примириться. Мы еще с прошлого года стали подавать в уездное управление ходатайства о признании заслуг о-Тами-сан, мы пять раз тратились на железную дорогу, ездили к начальнику уезда, немало потрудились. Что ж делать, мы с этим примирились, примиритесь и вы», — так, по обычаю, говорил о-Суми добрый лысый староста.
В ночь после похорон невестки о-Суми с Хиродзи легли спать под одной сеткой от комаров в углу комнаты, где был домашний алтарь. Обычно они, конечно, спали в полной темноте. Но в эту ночь на алтаре горел свет. Старухе казалось, что старые татами пропитаны непривычным запахом какого-то дезинфицирующего вещества. Может быть, поэтому о-Суми долго не могла заснуть. Смерть о-Тами, безусловно, принесла ей большое счастье. Теперь она могла не работать. Могла не бояться выговоров. Сбережений у нее было три тысячи иен, земли одно те три тан. Теперь они с внуком могли каждый день вволю есть рис. Могли вволю, целыми мешками покупать любимый соленый горох. Такого чувства облегчения о-Суми не помнила за всю свою жизнь. Такого чувства облегчения... Но в памяти ясно встала одна ночь девять лет тому назад. В ту ночь она тоже с облегчением перевела дух, — все было почти так же, как в эту. То была ночь после похорон родного
444
сына. А теперь? Теперь это ночь после похорон невестки, которая родила ей внука.
О-Суми невольно открыла глаза. Внук спал рядом с ней, лежа на спине, так что видно было его невинное личико. Глядя на него, о-Суми постепенно пришла к мысли, что она бессердечный человек. Что и сын Нитаро, так злосчастно женившийся, и невестка о-Тами, — тоже черствые люди. Эта мысль мало-помалу вытеснила накопившиеся за девять лет ненависть и гнев. Больше того, она вытеснила даже утешавшее ее предчувствие будущего счастья. И она, и ее дети, все трое были бессердечные люди. Но она, терпевшая обиды, сама была самой бессердечной из них. «О-Тами, зачем ты умерла?» — не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы...
Только около четырех часов о-Суми, усталая, наконец погрузилась в сон. А в это время над тростниковой крышей дома уже занималась холодная заря...
Декабрь 1923 г.
Я лежу в тростниковом шезлонге. По-видимому, на палубе. Перед глазами перила, а за ними в серых волнах что-то поблескивает, кажется, летающие рыбы. Но зачем я сел на пароход? Этого, как ни странно, я не помню. Еду ли я один или с кем-нибудь — и об этом у меня самое туманное представление.
Туман... Морская даль в тумане, она как бы подернута дымкой. Мне лень шевелиться, но я хочу рассмотреть, что там за этой дымкой. И тут, будто вызванные усилием моей воли, впереди возникают очертания острова. В центре, придавая острову конусообразную форму, сгрудились горы. Довольный результатом, я еще раз напрягаю волю. Но напрасно, я по-прежнему вижу только нечеткие контуры острова. На этот раз воля не помогла.
Тут я услышал справа от себя чей-то смех.
— Ха-ха-ха, не получилось? Воля не подействовала, да? Ха-ха-ха!
Рядом со мной в тростниковом кресле сидит старик, с виду англичанин. Лицо его, хотя и в морщинах, все еще красиво. Старик одет по моде восемнадцатого века, и кажется, будто сошел с картины Хогарта. На нем шляпа с серебряными полями, так называемая cocked hat1, расшитая рубашка и панталоны чуть ниже колен. Волосы ниспадают на плечи, но это не его волосы. Он в парп-
1 Cocked hat — треуголка (англ.).
445
ке цвета конопли, присыпанном какой-то мукой. Я был так поражен, что даже ничего не ответил.
— Возьмите мою подзорную трубу. Через нее хорошо видно. И старик с недоброй усмешкой протянул мне старую подзорную трубу. Похоже, что раньше она была в каком-то музее.
— О-о, тэнкс.
Я непроизвольно перешел на английский. Но старик продолжал говорить на безупречном японском языке, указывая в сторону острова рукой в манжете, из-под которого виднелись похожие на пену кружева.
— Этот остров называется Суссанрап. Как пишется? Извольте: Sussanrap. Его стоит посмотреть. Наш пароход простоит здесь дней пять-шесть, непременно совершите поездку по острову. Там есть и университет и храм. Особенно великолепен остров в базарные дни, когда туда съезжаются многочисленные жители с соседних островов.
Цока старик говорил, я смотрел в подзорную трубу. В поле зрения попал город, расположенный на берегу острова. Видны ряды чистых домиков. Ветер качает верхушки деревьев. Высится храм. Дымка исчезла. Все отчетливо видно. Восхищенный увиденным, я поднял подзорную трубу немного выше... И чуть не вскрикнул от удивления.
В безоблачное небо уходит похожая на Фудзи гора. В этом нет ничего удивительного. Но гора, насколько хватает глаз, покрыта овощами: капустой, помидорами, луком, редькой, репой, морковью, тыквой, огурцами, картофелем, корнями лотоса, имбирем. Самыми различными овощами. Покры... Да нет. Она сложена из них. Удивительная овощная пирамида!
— Это... Это что такое?
Не выпуская из рук подзорной трубы, я оборачиваюсь к старику. Но его уже нет. Только газета лежит на тростниковом кресле... Неожиданно я почувствовал, что кровь отливает от головы, и опять впал в какое-то тяжелое забытье.
* * *
— Ну как, осмотрели остров?
И старик, недобро улыбаясь, сел рядом со мной.
Мы в гостинице. В необычно просторном зале, обставленном в стиле secession.
Я сижу на диване в углу вала и курю первосортную «гавану».
Сверху свисают побеги тыквы, растущей в горшке. Среди закрывающих горшок широких листьев видны распустившиеся желтые цветы.
446
— Да, осмотрел. Сигару?
Но старик покачал головой, как ребенок, и достал старинную табакерку слоновой кости. Я видел такую где-то в музее. Да, стариков, как этот, нет теперь на Западе, не говоря уже о Японии. Хорошо бы познакомить с ним Сато Xapyol Вот бы удивился!
— Как только выходишь за город, начинаются огороды, — продолжал я.
— Большинство населения Суссанрапа выращивает овощи. Этим занимаются и мужчины и женщины.
— Наверное, на овощи большой спрос?
— Они продают их жителям близлежащих островов. Но, конечно, продается не все. Остатки сваливаются в кучу. Вы, наверное, видели гору тысяч в двадцать футов вышиной?
— Неужели это все непроданные остатки, эта овощная пирамида?
Я мог только, глядя на старика, хлопать от удивления глазами. А старик не переставал загадочно улыбаться.
— Да, это все остатки. Причем скопившиеся только за последние три года. А если бы собрать и за прежние годы, овощами можно было бы засыпать Тихий океан. Но жители Суссанрапа продолжают выращивать овощи. Они не знают покоя ни днем, ни ночью. Ха-ха-ха! Вот и сейчас, когда мы с вами разговариваем, они трудятся не покладая рук. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
Невесело посмеиваясь, старик достал пахнущий жасмином носовой платок. Это был не простой смех. Он напоминал смех сатаны, издевающегося над людской глупостью. Я нахмурился и перевел разговор на другую тему.
— Скажите, когда здесь бывает базар?
— В начале каждого месяца. Но это обычные базары. А три раза в год — в январе, апреле и сентябре — устраиваются еще большие базары. Самый большой — в январе.
— Наверное, перед большими базарами на острове царит оживление?
— Да, конечно. Каждый старается к этому времени вырастить свои овощи. Используются фосфатные удобрения и жмыхи, овощи помещают в теплицы, подключают электрический ток... Всего не расскажешь. Бывает и так, что, стремясь как можно скорее вырастить овощи, люди губят их.
— Да, сегодня я тоже видел, как по огороду бегал мужчина с обезумевшим лицом и кричал: «Не успею, не успею».
— Вполне возможно. Ведь скоро новогодний базар. Городские торговцы тоже сбились с ног.
— Городские торговцы?
447
— Да, те, кто занимается торговлей овощами. Торговцы покупают овощи, которые выращивают деревенские жители на своих огородах, а люди, приезжающие с островов, покупают овощи у этих торговцев. Таков эдешний порядок.
— Наверное, это и был торговец. Толстый мужчина с черным портфелем в руках. Все приговаривал: «Плохо дело, плохо дело». А какие овощи здесь самые ходкие?
— На то воля божья. Точно сказать трудно. Каждый год положение меняется, а почему — неизвестно.
— Но, видимо, те, что лучше качеством, лучше и расходятся?
— Да как вам сказать. Здесь ведь качество обычно определяют калеки.
— Почему же калеки?
— Очень просто. Калеки в огородах не работают, стало быть, овощей не выращивают и потому при определении их качества могут быть беспристрастными. Как в японской пословице: кто смотрит с холма, видит в восемь глаз.
— Значит, то был один из таких калек. Я слышал, какой-то бородатый слепец, поглаживая не очищенный от земли клубень ямса, говорил: «Цвет этого овоща неописуемо красив. В нем совмещаются цвета розы и ясного неба».
— Да, наверно. Слепой — это, конечно, неплохо. Но идеальным считается полный калека — человек, который не видит, не слышит, лишен обоняния, не имеет ни рук, ни ног, ни зубов, ни языка. Если удастся найти такого, он становится arbiter elegantia-rum1. Нынешний фаворит вполне удовлетворяет этим требованиям, у него сохранилось только обоняние. Говорят, что недавно ему залили ноздри жидким каучуком, но он все же немного различает запахи.
— Ну, а что же происходит потом, когда калеки определяют, какие овощи хорошие и какие нет?
— Ничего. Сколько бы калеки ни ругали какой-нибудь овощ, его как покупали, так и покупают.
— Стало быть, все зависит от вкуса торговцев?
— Торговцы покупают только овощи, на которые, они предполагают, будет спрос. Но пользуются ли спросом именно хорошие овощи...
— Подождите. Если так, то тогда ведь нельзя полагаться на мнение калек?
— Так, в сущности, и поступают те, кто выращивает овощи. Но и у них нет единого мнения о качестве овощей. Одни, напри-
1 Знаток всего изящного (лаг.). — Так в древнем Риме называли Петрония. Употребляется в значении «законодатель хорошего вкуса».
448

«Лук»
мер, считают, что качество овощей определяется их питательностью. По мнению других, качество зависит только от вкуса. Но я это не все.
— Как, дело обстоит еще сложнее?!
— Да, разногласия заходят еще дальше. Считают, например, что овощи без витаминов не питательны или что питательны только те, что содержат масла, что вкус моркови не годится или что приемлем только вкус редьки, и так далее.
— Значит, есть два критерия, и в каждом из них имеются различные вариации. Не так ли?
— Совсем не так. Вот вам пример. По мнению некоторых, существует цветовой критерий. Это деление цветов на теплые и холодные, о чем говорится во введениях в эстетику. Сторонники этого критерия требуют признания овощей теплых цветов — красных и желтых. А на овощи холодного зеленого цвета они смотреть не хотят. Их лозунг — умрем или заменим все овощи помидорами.
— В самом деле, я слышал это от героического вида мужчины, который в одной рубашке держал речь перед грудой овощей.
— Вот-вот. Эти овощи теплых цветов называют пролетарскими.
— Но в куче перед ним были навалены одни огурцы и дыни...
— Стало быть, он дальтоник. Они только ему кажутся красными.
— А как же овощи холодных цветов?
— Некоторые жители считают, что только овощи холодных цветов и можно считать овощами. Правда, эти люди лишь насмехаются, речей они не произносят. Но в душе все они ненавидят овощи теплых цветов.
— Им мешает малодушие?
— Нет, они не столько не хотят, сколько не могут произносить речей. От пьянства или сифилиса у них прогнили языки.
— Да-да, недалеко от героя в одной рубашке я видел умника в узких брюках, который, собирая тыквы, насмешливо повторял: «Опять эти речи».
— Собирая зеленые тыквы, не так ли? Овощи таких холодных цветов называют буржуазными.
— Что же получается? По мнению тех, кто выращивает овощи...
— По мнению тех, кто выращивает овощи, все, что похоже на овощи, которые выращивает он сам, хорошо, а что не похоже — плохо. Во всяком случае, в этом они твердо уверены.
— Но есть ведь университет? Говорят, что профессора читают лекции об овощах, так что отличить хорошие овощи от плохих не так уж трудно.
15 Акутагава Рюноскэ
449
— Видите ли, профессора университета, когда речь заходит о суссанрапских овощах, не могут отличить гороха от диких бобов. Впрочем, сведения о местных овощах до первого века все же проникают в лекции.
— Какие же овощи им известны?
— Английские, французские, итальянские, русские... Особой популярностью среди студентов, говорят, пользуются лекции по русской овощелогии. Непременно сходите разок в университет. Когда я в прошлый раз приезжал сюда, я был на такой лекции. Профессор в пенсне, показывая заспиртованный в банке старый русский огурец, изливал поток красноречия: «Взгляните на суссанрапские огурцы. Все они зеленые. А вот огурцы великой России не имеют этого примитивного цвета. Их цвет совершенен, он подобен цвету жизни. О-о, огурцы великой России...» От избытка впечатлений я полмесяца пролежал в постели.
— Стало быть... Стало быть, как вы и говорите, вывод может быть один: есть ли спрос на тот или иной овощ — на то воля божья.
— Да, иного вывода быть не может. Но должен вам сказать, население этого острова поклоняется Бабраббаде.
— Что это такое, Баббураббу или как его там?
— Бабраббада. Пишется: Babrabbada. Разве вы не видели? Там, в храме...
— А-а, изображение ящерицы с головой свиньи?
— Это не ящерица. Это правящий вселенной Хамелеон. Сегодня тоже у его изображения многие люди отвешивали поклоны. Молящиеся просили, чтобы их овощи лучше продавались. Ведь, судя по газетам, все универмаги Нью-Йорка начинают подготовку к новому сезону только после получения пророчества Хамелеона. Можно даже сказать, что в мире больше не верят ни в Иегову, ни в Аллаха. Человечество пришло к Хамелеону.
— В храме перед алтарем были навалены овощи...
— Это все жертвоприношения. Суссанрапскому Хамелеону приносят овощи, на которые был спрос в прошлом году.
— Но в Японии...
— Извините, вас зовут.
Я прислушался. Действительно, меня звали. Это был гнусавый голос моего племянника, последнее время страдающего полипами. Я неохотно поднялся и протянул старику руку.
— Позвольте мне откланяться.
— Ну что же. Буду рад побеседовать с вами еще. Вот моя визитная карточка.
Пожав мою руку, старик спокойно протянул мне визитную карточку. Посредине карточки четкими буквами было напечатано: «Лэмуэль Гулливер». С открытым от удивления ртом я уставился
450
на старика. Его лицо с правильными чертами, обрамленное локонами цвета конопли, улыбалось вечной иронической улыбкой. Но это длилось какое-то мгновение. На месте лица старика возникло лицо моего пятнадцатилетнего сорванца-племянника.
— Просят рукопись. Вставай. Пришли за рукописью.
Племянник будил меня. Я проспал минут тридцать, пригревшись у котацу. А на котацу лежала книга «Gulliver's Travel»1, которую я начал было читать.
— Пришли за рукописью? За какой рукописью?
— За очерком.
— Очерком? — И я непроизвольно сказал вслух: — Похоже, что на овощном базаре Суссанрапа будет продаваться и сорная трава.
Декабрь 1923 г.
«1. В год мятежа Исида Дзибусё, то бишь в пятом году эры Кэйтё, в седьмой месяц, десятого дня, родитель мой Ная Сайдзаэ-мон явился в усадьбу князей Хосокава, что в городе Осака, в квартале Тамадзукури, дабы преподнести госпоже Сюрин десяток птиц, именуемых канарейки. Госпожа издавна превыше всего ценила разные заморские диковины из южных варварских стран, а посему обрадовалась необычайно, и заодно я тоже попала в милость. И то сказать, у госпожи имелось множество подделок; но таких бесспорно чужеземных, как оные канарейки, доселе не было ни единой. В ту пору отец сказал мне: «Осенью, когда подует прохладный ветер, ты распростишься с госпожой Сюрин, — надобно выдавать тебя замуж». Я находилась в услужении у госпожи Сюрин полных три года, однако госпожа ни в малой степени не жаловала меня своей лаской, за главное почитая изображать из себя мудрую, ученую даму, так что, повседневно ей прислуживая, я ни разу не удостоилась услышать какое-нибудь интересное, веселое слово и находилась постоянно в чрезвычайном стеснении; а потому так обрадовалась словам отца, словно предо мной открылись небеса. Вот и в тот день госпожа Сюрин опять изволила говорить,
1 «Путешествие Гулливера» (англ.).
15*
451
что японские женщины скудны умом оттого, что не умеют читать заморские книги; не иначе как уготовано госпоже в будущей жизни стать супругой какого-нибудь иноземного князя...
2. Одиннадцатого дня пред очи госпожи явилась монахиня по имени Тёкон. Сия монахиня без всяких церемоний бывает нынче в Осакском замке и почитается особой весьма влиятельной, хотя в прошлом, оставшись вдовой простого ткача в Киото, слыла распутницей, сменившей, по слухам, чуть ли ие шестерых мужей. Сия Тёкон была мне до того противна, что, как только завижу ее, тошнота подступает к горлу; госпожа, однако, заметной неприязни к ней не питала и нередко, толкуя о всякой всячине, проводила в беседах с оной монашкой по полдня, чем поистине изумляла всех нас, девиц ее свиты. Причина такого пристрастия крылась исключительно в том, что госпожа чрезвычайно падка была на лесть. К примеру, Тёкон скажет: «Всегда-то вы так чудесно выглядите! Ни одип благородный господин, увидя вас, ручаюсь, не скажет, что вам больше двадцати лет!» Так, на все лады, с видом полнейшей искренности восхваляла она внешность госпожи Сюрин, хотя в действительности госпожа отнюдь не могла бы почитаться безупречной красоткой, поскольку нос имела несколько крупноватый и к тому же на лице заметны были веснушки. Да и лет госпоже исполнилось уже тридцать восемь, а значит, как ни смотри, в сумерки ли, с дальнего расстояния, все равно — принять ее за особу двадцатилетнюю совершенно невозможно.
3. В тот день Тёкон, по ее словам, явилась от самого господина Дзибусё якобы по тайному его поручению — присоветовать госпоже переехать на жительство из усадьбы в Осакский замок. Госпожа после некоторого раздумья изволила сказать, что даст ответ спустя определенное время, однако, судя по ее виду, пришла в немалое замешательство и никак не могла склониться к какому-либо решению. А когда Тёкон удалилась, принялась читать молитвы, называемые «оратио», перед изображением пресвятой Девы Марии и твердила сии молитвы с усердием и жаром чуть ли не каждый час. Тут, кстати, упомяну, что вышеназванные оратио читались не на языке страны нашей Японии, а на языке южных варваров, именуемом, если не ошибаюсь, «латынью», и нашим ушам слышалось все время одно лишь непонятное слово «носу», «носу» % так что терпеть сию смехотворность и притом не смеяться — изрядная мука.
4. В двенадцатый день никаких особых событий не отмечалось, только с самого утра госпожа пребывала в прескверном расположении духа. Поскольку в такие минуты обходилась она крайне сурово не только с нами, но даже с супругой молодого князя Ёити-
1 Искаженное латинское «noster».
452
ро, непрерывно говоря ей разные колкости и делая замечания, все в доме старались попадаться ей на глаза как можно реже. Вот и сегодня опять выговаривала она супруге господина Ёитиро, что та белится и румянится слишком густо, приводила в назидание притчу о павлине из «Сказаний Эзопа» (так, если не ошибаюсь, именуется сия книга) и долго-долго ее отчитывала, так что все мы от души жалели бедняжку. Эта госпожа доводится младшей сестрой супруге господина Укида, владельца соседней усадьбы, и хотя назвать ее умницей я, пожалуй бы, затруднилась, зато красотой может она поспорить с самой прекрасной куклой, сделанной искусным умельцем.
5. Тринадцатого дня к нам на кухню явились вдвоем самураи Огасавара Сёсай и Кавакита Ивами. В усадьбе Хосокава соблюдалось строгое правило, согласно которому вход на женскую половину возбранялся не только мужчинам, но и детям, а посему издавна повелось, что все вассалы должны были являться на кухню и, о каком бы важном деле ни шла речь, все докладывали госпоже через нас. Возникло сие правило исключительно оттого, что и у князя, и у госпожи Сюрин нрав был чрезвычайно ревнивый; посторонние же правилу сему немало дивились, а господин Морита Тахэй, вассал князя Курода, говорят, даже посмеялся: «Ну и неудобные же порядки у вас в доме!» Однако недаром говорится, что худа без добра не бывает; нам, прислужницам, это правило отнюдь не казалось неудобным.
6. Итак, Ивами и Сёсай вызвали девицу по имени Симо и подробно ей рассказали, что, по слухам, в скором времени будто бы ожидается от господина Дзибусё указание выставить заложников от всех княжеских домов, где главы семейств отбыли на Восток, и хотя пока это всего-навсего недостоверные толки, все-таки им хотелось бы выслушать соображения госпожи Сюрин насчет того, как тут надлежит поступить. Поделившись со мною этими новостями, Симо сказала: «Поистине, как нерасторопны эти самураи, оставленные для охраны усадьбы на время отсутствия князя... Ведь о том же еще позавчера донесла нам Тёкон... Ох-ох, вот так свежая новость, спасибо им за труды!» И в самом деле, удивляться тут нечему — все новости всегда попадали к нам раньше, нежели достигали слуха вассалов, оставленных для охраны усадьбы. Да и то сказать, Сёсай был всего-навсего честный, прямодушный старик, а Ивами — грубый силач, вояка, знавший толк в одном лишь военном деле, так что, по моему разумению, оно и быть не могло иначе. Однако, поскольку сие повторялось очень уж часто, то не только у нас, ближайших прислужниц, но и у всей женской челяди вошло в обычай вместо поговорки «это всему свету известно» говорить: «Это и самураям из охраны известно...»
453
7. Итак, Симо доложила обо всем госпоже Сюрин, и госпожа изволила высказаться так: поскольку, мол, между супругом ее, князем Хосокава и господином Дзибусё давно существует вражда, можно не сомневаться, что, коль скоро начнут брать заложников, первым делом явятся к нам в усадьбу... «Надежды, что пойдут по другим домам, очень мало... А значит, пусть оба самурая, охраняющие усадьбу, сами порешат и рассудят, как надлежит ответить...» Сказав так, госпожа, безусловно, допустила ошибку, ибо самураи Ивами и Сёсай потому-то и приходили, что сами неспособны были принять решение; тем не менее Симо перечить госпоже не посмела и все передала, как было сказано, слово в слово. Когда же Симо направилась на кухню, дабы передать сей ответ, госпожа вновь принялась твердить перед портретом госпожи Марии свои «носу», «носу», отчего девица по имени Умэ, лишь недавно начавшая службу, невольно покатилась со смеху, и госпожа жестоко ее разбранила, обозвав предерзкой девчонкой.
8. Выслушав волю госпожи, Ивами и Сёсай оба пришли в крайнее замешательство, однако вскоре обратились к Симо с такою речью: «Если бы от господина Дзибусё даже и прибыли посланцы с подобными требованиями, все равно — сейчас в усадьбе нет никого, кто мог бы пойти в заложники; ведь оба княжеских сына — и господин Ёитиро, и господин Ёгоро — отбыли на Восток, а третий, младший сын, господин Тадатоси, уже отдан в заложники в город Эдо. Значит, надлежит нам ответить, что выполнить сие требование сейчас никак невозможно. Если же, несмотря на отказ, будут они по-прежнему требовать заложника и настаивать на своем, надобно послать гонца в замок Табэ, что в городе Майдзуру, к отцу князя, старому князю Юсай, и просить его указаний. «А до тех пор обождите!» —так мы их и приветим!» Таким образом, хотя госпо-жа ясно им приказала рассудить самим хорошенько, — в сих словах Ивами и Сёсая рассудительности не содержалось ни капли, ибо не то что старые, опытные вояки, но самые рядовые самураи, обладай они хоть в малой степени здравым смыслом, и то догадались бы прежде всего тайно переправить госпожу в замок Табэ, а сами до конца остались бы при усадьбе, как и подобает самураям, охраняющим дом в отсутствие господина и готовым встретить опасность, пусть смертельную, лицом к лицу. Вот как надлежало им поступить... Ответить же отказом, ссылаясь на то, что сейчас, дескать, некого отдать в заложники, означало бросить открытый вызов и тем самым поставить под удар в первую очередь прислужниц гоо пожи и прочую челядь. Так что жизни нашей поистине угрожала нешуточная опасность.
9. Симо опять отправилась к госпоже и передала вышеизложенное, но госпожа в ответ не промолвила ни единого слова, лишь
454
забормотала свои «носу», «носу» и, только постепенно овладев собою, совершенно спокойно проговорила: «В таком случае, да будет так!» Ясное дело, пока самураи сами не предложили тайно отправить ее прочь из усадьбы, госпоже никак не пристало первой просить: «Спрячьте меня, увезите!» — а посему в душе она, надо думать, весьма гневалась на недогадливость Ивами и Сёсая. С этого дня госпожа все время находилась в отвратительном настроении, по всякому поводу изволила нас бранить и каждый раз читала при сем отрывки из книги, именуемой «Сказания Эзопа», приговаривая: эта девица, мол, и есть та лягушка, а эта, дескать, — тот самый волк, и такое наступило тут для всех нас мучение, что впору добровольно идти в заложницы. Мне больше всех доставалось: я будто и улитка, и ворона, и свинья, и черепаха, и собака, и змея-аспид... Сии обидные поучения и прозвища не забуду я во веки веков, до самой смерти.
10. Четырнадцатого дня в усадьбу снова явилась Тёкон и опять затеяла разговор, что, мол, надобно выслать заложника. На это госпожа изволила заметить, что в отсутствие князя, без княжеского на то разрешения, пойти в заложницы она не согласится. Тёкон в ответ сказала: «Спору нет, вот слова, достойные женщины мудрой, ибо уважать мнение супруга — первейший долг подлинной добродетели. Однако же в данном случае речь идет о делах, имеющих первостепенное значение для судеб всего княжества Хосокава, а потому не следует ли вам все же переехать если не в отдаленный Осакский замок, то хотя бы в соседнюю усадьбу, к господину Уки-да? Ведь супруга господина Укида — свояченица господина Ёити-ро, и, следовательно, сам князь навряд ли укорит вас за подобный поступок. Послушайтесь же моего совета!» — так, говорят, убеждала она госпожу Сюрин. И хоть я терпеть не могла старую барсучиху, должна признать, что Тёкон на сей раз была права, ибо, проследуй госпожа в соседнюю усадьбу, к господину Укида, это и в глазах всего света выглядело бы вполне пристойно, да и мы, слуги, тоже очутились бы в безопасности, так что лучшего плана и не придумать.
11. Госпожа, однако, изволила высказаться так: «Да, верно, господин Укида — наш свойственник, однако нынче он заодно с Дзибусё, я это знаю доподлинно, а потому переехать к нему в усадьбу и означало бы стать заложницей. По сей причине согласиться на такое предложение мне никак невозможно». Тёкон и тут не отступилась и продолжала твердить свое, но госпожа нисколько не внимала уговорам, так что превосходный план Тёкон исчез без следа, как пена морская... При этом госпожа Сюрин вновь ссылалась то на Конфуция, то на Эзопа, то на принцессу Татибана, то на Христа, цитировала сочинения не только японские и китайские,
455
но даже заморские, из южных варварских стран, так что сама Тё-коп и та, похоже, была посрамлена красноречием госпожи.
12. В тот же день в сумерки Симо привиделось, будто на вершину сосны, что растет в саду перед покоями госпожи, спустился с неба золотой крест; в страхе она приступила ко мне с расспросами, какое несчастье сулит сей знак. Правда, Симо подслеповата и вдобавок известная трусиха, за что ее вечно все дразнят, а посему весьма может статься, что по ошибке посчитала она Утреннюю звезду золотым крестом. Утверждать что-либо определенное на сей счет затрудняюсь.
13. Пятнадцатого дня снова явилась Тёкон и повторила свои давешние советы, но госпожа отвечала: «Сколько бы раз ты ни твердила одно и то же, решение мое останется неизменным!» Тут уж и Тёкон, как видно, разозлилась изрядно, ибо, удаляясь, сказала: «По всему видать, ох, и нелегко у вас на сердце! То-то и выглядите вы сегодня постарше сорокалетней!» Госпожа тоже, надо думать, разгневалась не на шутку, потому что изволила приказать, чтобы впредь Тёкон к ней на глаза не являлась. И снова принялась, что ни час, читать вышеназванные оратио, однако у всех на душе было тревожно, ибо мы знали, что тайные эти переговоры окончились полным разрывом, так что на сей раз даже Умэ было не до смеха.
14. В тот же день услыхали мы, что Ивами и Сёсай снова пререкались с самураем Инатоми Ига. Этот Инатоми Ига известен как мастер стрельбы из пушек, у него множество учеников даже среди вассалов других княжеств, кругом заслужил он добрую славу, а потому ходят слухи, что Ивами и Сёсай будто бы завидуют Ига и оттого чуть что заводят с ним ссоры.
15. Нынче ночью Симо приснилось, будто в усадьбу ворвались воины Дзибусё, она ужасно перепугалась, закричала, вскочила спросонья и с криком побежала по галерее.
16. Шестнадцатого дня в десять часов утра вновь явились Ивами и Сёсай, вызвали Симо и наказали: «Передай госпоже, что сегодня утром был посланец от господина Дзибусё, требовал непременно выдать в заложницы госпожу и грозился, что в случае отказа нагрянут и заберут ее силой... Мы же ответили на сии дерзкие речи, что скорее сделаем себе харакири, чем выдадим госпожу... Поэтому скажи, что надлежит ей, со своей стороны, приготовиться к худшему!» По словам Симо, в тот день у Сёсая, как на грех, разболелись зубы, и потому держать речь он поручил Ивами, однако же Ивами так пылал гневом, что Симо боялась, как бы от чрезмерной ярости он по ошибке и ее не прикончил. Об этом впоследствии говорила мне Симо.
456
17. Выслушав от Симо, как обстоят дела, госпожа Сюрин тотчас пригласила к себе супругу господина Ёитиро на тайный совет. Впоследствии я узнала, что она склоняла бедняжку вместе с ней покончить жизнь самоубийством. Все это весьма и весьма прискорбно! Хотя жизнь наша во власти неба — виной всему, во-первых, безрассудство самураев, оставленных для охраны усадьбы, а во-вторых, упрямый нрав самой госпожи Сюрин, из-за коего она сама ускорила свою погибель. Вдобавок, коль скоро советовала она супруге господина Ёитиро тоже лишить себя жизни с ней вместе, кто поручился бы, что она, чего доброго, и нам не прикажет сопровождать ее в царство мертвых? Сие опасение томило нас все сильнее с каждой минутой, так что, когда госпожа наконец повелела нам явиться в ее покои, все чрезвычайно обеспокоились, тревожась, какое сейчас последует приказание.
18. Когда же мы предстали пред госпожой, она обратилась к нам с такими словами: «Вот наконец настал мой черед отправиться в рай, именуемый «парайсо», и радость моя по сей причине безмерна!» Однако лицо у нее побледнело и голос слегка дрожал, так что я тотчас же догадалась, что ее слова неискренни. И еще госпожа соизволила молвить, что единственная тяжесть, которая лежит у нее на сердце, мешая спокойно закрыть глаза, это забота о нашем будущем... «Если помыслы ваши погрязнут в скверне и не обратитесь вы в христианскую веру, то со временем все попадете в ад, именуемый «инферуно», и навеки станете добычей дьявола. А посему сегодня же очистите свои сердца и примите учение царя небесного. В противном случае вы все до единой должны сопровождать меня на тот свет и вместе со мной покинуть сию земную юдоль, исполненную греха. Тогда я самолично вознесу за вас моленья архангелу, архангел, в свою очередь, вознесет мольбу царю небесному Дзэсусу Кирисито, дабы все мы вместе узрели сияющий чертог парайсо...» При сих словах все мы, глубоко растроганные, прослезились от умиления и тут же на месте, без малейшего колебания, дружно, как один человек, провозгласили, что немедленно обращаемся в христианство, отчего госпожа пришла в прекрасное расположение духа и соизволила объявить, что теперь ничто более не тяготит ее сердца и она сможет умереть в мире, по каковой причине сопровождать ее на тот свет нам ненадобно.
19. Далее, госпожа Сюрин вручила Симо прощальные письма князю и молодому господину Ёитиро, после чего написала еще одно послание заморскими письменами некоему патэрэну, именуемому Грегорио, и оное письмо передала мне. Сие послание содержало всего пять или шесть строк, однако для написания его госпоже потребовалось более часа. Тут кстати присовокуплю, что, когда я в свое время вручала сие послание оному Грегорио, слу-
457
чившийся поблизости послушник-японец весьма сурово объявил мне, что христианская вера запрещает любое самоубийство, по каковой причине госпожа Сюрин никак не сможет вознестись в парайсо, а отправится в ад, но, впрочем, сие зло можно предотвратить, если отслужить молебствие, именуемое «месса», ибо благость оной молитвы беспредельна. А потому, коли хочу я, чтобы была отслужена сия месса, надобно дать ему серебряную монету...
20. Ожидалось, что мятежники нагрянут в усадьбу около десяти часов вечера. Охрану главных ворот взял на себя Ивами, бокового входа — Инатоми Ига, а женскую половину решил защищать Сёсай. Бдва заслышав приближение врагов, госпожа послала Умэ кликнуть супругу господина Ёитиро, но та, как видно, уже успела куда-то скрыться, потому что в комнате у нее было пусто, хоть шаром покати, а самой молодой госпожи и след простыл, каковое известие всех нас весьма обрадовало. Зато госпожа Сюрин разгневалась чрезвычайно и, обратившись к нам, изволила заявить, что рождена она от благородного полководца Корэто, спорившего о царстве с самим Хидэёси в битве при Ямадзаки, ныне же, в смертный час, уповает она на матерь божью Марию, пребывающую в парайсо... И вот ей, столь благородной, осмелилась теперь нанести оскорбление дочь какого-то жалкого худородного дворянина! Сколь дерзостен сей поступок!.. Вид у госпожи при этом был такой, что и поныне она будто стоит у меня перед глазами.
21. Вскоре в соседний покой явился Огасавара Сёсай в синей кольчуге, с коротким мечом, дабы сослужить госпоже службу «посредника». У него все еще сильно болели зубы, левая щека вспухла, от чего несколько пострадал воинственный вид, подобающий! самураю. Сёсай сказал, что не смеет переступить порог покоя госпожи, а посему окажет «последнюю услугу» через порог, после чего и сам совершит «харакири вслед». Обязанность свидетелей возложили на меня и на Симо, ибо к этому времени все куда-то исчезли и подле госпожи оставались только мы двое. Госпожа взглянула на Сёсая и молвила: «Спасибо, что пришел сослужить мне последнюю службу 1» С тех самых пор, как она невестой вошла в дом Хосокава, Сёсай был первым мужчиной, которого она лицезрела; за все эти годы ни разу не видела она мужского лица, ко-вечно, не считая супруга, сыновей и отца... — так впоследствии пояснила мне Симо. Сёсай опустился на пол в соседнем покое, уперся руками в циновки и произнес: «Последний час наступил!» Правда, поскольку щека у него распухла, говорил он очень невнятно, и госпожа, как видно, не разобрав его слов, повелела: «Говори громче!»
22. В эту минуту какой-то неизвестный молодой воин в светло-зеленых доспехах, с мечом, вбежал в соседний покой с криком:
458
«Инатоми Ига нас предал, враги лавиной хлынули в боковые ворота! Скорей кончайте!» Госпожа Сюрин, высоко приподняв правой рукой волосы над затылком, казалось, совсем приготовилась к смерти, но при виде молодого человека, наверное, застыдилась, потому что лицо ее внезапно до самых ушей залилось краской. Никогда еще не казалась мне госпожа такой красивой, как в это мгновение.
23. Когда мы выбрались за ворота, в усадьбе уже рвались к небу языки пламени, на улице в отблеске зарева толпился народ. Правда, то оказались не враги, а люди, сбежавшиеся поглазеть на пожар. Узнали мы также, что мятежники, захватив с собой Инатоми Ига, покинули усадьбу еще прежде, чем покончила с собой госпожа, но все это выяснилось впоследствии. Пока же наскоро излагаю лишь те обстоятельства, что непосредственно сопутствовали кончине госпожи Сюрин».
Декабрь 1923 г.
Это случилось на четвертом году Бунсэй, в декабре. Вассал князя Харунага, властителя Kara, охранник Хосои Санэмон, получавший на княжеской службе шестьсот коку риса в год, убил юного Кадзума, младшего сына Кинугаса Тахэя, такого же охранника, как и сам Санэмон. Причем убил не в честном поединке, — однажды, когда Санэмон, возвращаясь с поэтического собрания, проходил в начале часа Пса мимо конского ристалища, Каздума набросился на него с мечом, однако сам же и пал от его руки.
Весть о происшествии дошла до князя, и Харунага приказал Санэмону явиться пред княжеские очи. Подобное приказание никого не удивило.
Во-первых, князь Харунага известен был как человек мудрый. А следовательно, все важные решения принимал сам, не допуская к тому своих вассалов. Пока не вникнет в суть дела, пока сам как следует не рассудит, до тех пор не успокоится... Вот, к примеру, история двух его сокольничих: одного князь наградил, другого покарал. Из истории этой отчасти видно, что за человек был Харунага, а потому будет нелишним вкратце изложить ее здесь.
Как-то раз один из сокольничих, в обязанность коему вменялось следить за перелетными птицами для княжеской соколиной охоты, доставил известие, что на рисовые поля деревни Итикава в уезде Исикава опустилась стая красноклювых журавлей, о чем и было через старшего самурая незамедлительно доложено князю.
459
Его светлость чрезвычайно обрадовался сему известию. Назавтра же все приготовления были закончены, и княжеская охота ни свет ни заря отбыла в деревню Итикава. Из ловчих птиц взяли лучшего сокола Фудзи-Цукаса, пожалованного князю самим сегуном, и вдобавок еще двух больших соколов и двух малых. Сокольничим при Фудзи-Цукаса состоял самурай Аимото Кидзаэмон, однако в тот день его светлость пожелал собственноручно нести сокола. На беду, тропинка между заливными полями была скользкой после недавнего ливня, его светлость ненароком оступился, сокол сорвался с руки князя, взмыл вверх, и красноклювые журавли в тот же миг снялись с места всей стаей и скрылись в небе. При виде сего Кидзаэмон, не помня себя от бешенства, разразился бранью:
— Что натворил, болван!..
Однако тотчас опамятовался, уразумел, что перед ним — его светлость, и упал на колени, обливаясь холодным потом, в ожидании удара княжеского меча. Его светлость, однако, изволил весело рассмеяться и молвил:
— Моя вина! Я виноват, прости!
По возвращении же в замок, тронутый верной службой и прямодушием Кидзаэмона, пожаловал ему вновь распаханной целины на сто коку риса и сверх того произвел в ловчие, поставив над всеми своими сокольничими.
С той поры ухаживать за Фудзи-Цукаса назначили самурая Янаса Сэйхати, и вот случись однажды, что на сокола напала какая-то хворь. Как-то раз его светлость вызвал Сэйхати и осведомился:
— Ну, как Фудзи-Цукаса?
К этому времени сокол стал уже поправляться, а посему Сэйхати отвечал:
— Совершенно здоров! Настолько здоров, что и человека закогтить не оплошает!
Видимо, его светлости не по душе пришлось подобное хвастовство, потому что князь соизволил молвить:
— Отлично! В таком случае, покажешь нам, как он справится с человеком!
Делать нечего, с того дня стал Сэйхати класть на голову сыну своему Сэйтаро куски рыбы или дичи и другую приманку и целыми днями обучал Фудзи-Цукаса, так что сокол постепенно привык садиться на голову человеку. Тогда Сэйхати, не долго думая, доложил через старшего ловчего, что готов показать соколиную охоту на человека, на что его светлость изволил молвить:
— Любопытно! Завтра же все вместе отправимся на Южное ристалище, и пусть сокол поймает старшего самурая, ведающего чайно» церемонией, Оба Дзюгэна!
460
Наутро, в ранний час, его светлость прибыл на Южное ристалище, приказал поставить Оба Дзюгэна посреди поля и повелел:
— Пускай сокола, Сэйхати!
— Слушаюсь, ваша светлость! — тотчас же отозвался Сэйхати, выпустил сокола, и птица, прочертив линию, ровную, как иероглиф «единица», камнем упала прямо на голову Оба Дзюгэна.
— Есть! — торжествующе закричал Сэйхати, выхватил малый меч, коим охотники вырезают птичью печенку, и подскочил к Оба Дзюгэну, готовый поразить его насмерть, но в это мгновение его светлость вскричал:
— Что ты делаешь, Сэйхати!..
Однако Сэйхати не образумился и все пытался поразить мечом Оба Дзюгэна, приговаривая:
— Коли сокол схватил добычу, значит, надо вырезать печень! В этот миг его светлость, внезапно воспылав великим гневом,
приказал:— Подать сюда ружье! — и тут же наповал уложил Сэйхати выстрелом из ружья, в стрельбе из коего был весьма и весьма искусен...
Во-вторых же, Харунага давно уже внимательно приглядывался к Санэмону. Случилось как-то раз, что при усмирении бунтовщиков Санэмон и еще один самурай оказались ранены в голову. У самурая рана пришлась прямо над переносицей, а у Санэмона вздулся лиловый кровоподтек на левом виске. Харунага призвал обоих и подивился:
— Чудеса, да и только! — после чего спросил: — Что, поди, больно? — На что самурай отвечал:
— Удивительное везение! Рана, по счастью, вовсе не причиняет боли!
Санэмон же хмуро пробормотал:
— Еще бы не больно! Такая рана только у мертвого не болит.
С тех пор Харунага уверился, что Санэмон — человек честный и прямодушный. Уж он-то не станет лгать и обманывать. «На кого-кого, а на этого человека я могу положиться!» — думал князь.
Таков был Харунага. Вот и на сей раз он рассудил, что лучший способ выяснить все обстоятельства неожиданного убийства — самолично и подробно расспросить Санэмона.
Получив приказание явиться, Санэмон в трепете душевном предстал перед князем. Однако он отнюдь не выглядел виноватым или раскаивающимся. Худощавое, нервное лицо его, словно застывшее от волнения, выражало скорее даже какую-то внутреннюю решимость.
461
— Санэмон, говорят, будто Кадзума неожиданно напал на тебя из-за угла, — без обиняков начал Харунага. — Очевидно, он питал к тебе вражду. За что?
— Никакой определенной причины для вражды я не знаю. Харунага, немного помедлив, спросил еще раз, как бы стараясь, чтобы Санэмон хорошенько уразумел смысл вопроса:
— Значит, никакой вины ты за собой не помнишь?
— Пожалуй, нет... Есть, правда, одно предположение... Возможно, он гневался на меня из-за этого...
— Из-за чего же?
— Дело было четыре дня назад. В школе фехтования состоялись ежегодные турниры. Вместо господина Ямамото Кодзаэмона, учителя вашей светлости, на этот раз судьей был я. Правда, я судил поединки только тех самураев, которые еще не закончили обучение воинскому искусству. Поединок Кадзума тоже судил я.
— А кто был его партнером?
— Самурай по имени Тамон, сын и наследник вассала вашей светлости господина Хирата Кидаю.
— И Кадзума потерпел поражение?
— Да, ваша светлость. Тамон дважды коснулся запястья Кадзума и один раз — головы. А Кадзума не сделал ни одного укола. Иными словами, во всех трех турах он потерпел полное поражение. И, возможно, затаил в душе обиду на судью, то есть на меня.
— Значит, ты полагаешь, будто Кадзума вообразил, что ты судил небеспристрастно?
— Да, ваша светлость. Но со мною этого не бывает. Да и нет у меня оснований отдавать кому-либо предпочтение. И все же мне почему-то кажется, что Кадзума заподозрил меня в несправедлив вости.
— Ну, а раньше вы не ссорились? Не случалось ли у вас споров? Постарайся припомнить.
— Нет, мы не спорили. Разве что... — Санэмон запнулся. Но вовсе не потому, что колебался, сказать или умолчать; казалось, он подбирает в уме наиболее точные выражения, чтобы получше изложить свою мысль. — Разве что однажды... Накануне состязания Кадзума вдруг ни с того ни с сего попросил у меня прощения за какую-то недавнюю грубость. Я, однако, ничего подобного не помвил и потому спросил, что он имеет в виду. Но Кадзума лишь смущенно улыбнулся вместо ответа. Тогда я сказал, что никакой вины за ним не знаю и, следовательно, прощать его мне и подавно не за что. Очевидно, Кадзума наконец мне поверил, потому что проговорил, на сей раз уже совсем спокойно: «Значит, мне показалось... Прошу вас, выбросьте из головы этот разговор...»
462
И помнится мне, что при этих словах он опять усмехнулся, только уже не смущенно, а скорее злорадно...
— Что же он имел в виду?
— Это мне и самому непонятно. Но похоже, что речь шла о каких-нибудь сущих пустяках... Вот и все, а других столкновений между нами никогда не было...
Снова наступило молчание.
— Ну, а каков был нрав у этого Кадзума? Не замечал ли ты, что он недоверчив, подозрителен?
— Нет, этого я за ним не замечал... Нрав у него был скорее юношески открытый... Он не стыдился откровенно проявлять все свои чувства. Вместе с тем, пожалуй, был вспыльчив... — Санэмон смолк, потом не столько проговорил, сколько тяжело выдохнул: — Но главное — этот поединок с Тамопом был для него крайне важен.
— Крайне важен?.. Почему?
— Кадзума уже выдержал предварительные испытания. Победи он на этот раз, его обучение считалось бы законченным. Правда, это относилось и к Тамону. Оба они — и Тамон и Кадзума — выделялись среди ваших молодых самураев как самые способные фехтовальщики.
Харунага погрузился в молчание, как будто что-то обдумывал. Внезапно, точно сделав новое умозаключение, он перешел к расспросам о событиях той ночи, когда совершилось убийство.
— Кадзума и впрямь подстерегал тебя у ристалища?
— Похоже, что так. В тот холодный вечер я шел один мимо ристалища; на мне не было даже плаща, пришлось открыть зонтик. Внезапно ветер усилился, снег полетел вкось, и я опустил зонтик к левому плечу. Кадзума напал на меня как раз в то мгновение, и потому его меч, не задев меня, разрубил только зонтик.
— Ударил, даже не окликнув тебя?
— Похоже, что так.
— Узнал ты его? Что ты подумал?
— Думать было некогда. Я тотчас отпрыгнул влево. В этот миг последовал второй удар: он рассек рукав моего хаори на добрых пять сун... Я снова отпрыгнул в сторону и, выхватив меч, нанес ответный удар. Очевидно, тут-то я и рассек ему грудь. Он что-то крикнул...
— Что именно?
— Не помню. Просто выкрикнул что-то в пылу схватки... И вдруг я отчетливо понял — это Кадзума!
— Ты хочешь сказать, что узнал его голос?
— Нет, не поэтому.
463
— Как же ты догадался, что это Кадзума? — Харунага в упор посмотрел на Санэмона.
Санэмон молчал, не отвечая на вопрос князя. Харунага повторил вопрос более настойчиво. Но Санэмон по-прежнему молчал, опустив взор и упорно разглядывая свои хакама, словно и не собирался заговорить.
— Итак, Санэмон? — Князя будто подменили, таким стал он величавым и грозным. Подобные мгновенные превращения были частым и излюбленным приемом Харунага. Все так же потупясь, Санэмон разжал наконец плотно сомкнутые уста. Но вырвавшиеся у него слова не были прямым ответом на вопрос князя. К удивлению Харунага, то было смиренное признание своей вины.
— Да, я повинен в тяжком проступке — я понапрасну загубил самурая, состоявшего на драгоценной службе у вашей светлости!
Харунага нахмурился, лицо его выразило некоторое недоумение. Но взгляд, обращенный на Санэмона, оставался величавым и грозным.
— Кадзума имел право ненавидеть меня, — продолжал Санэмон. — Я несправедливо судил его поединок.
Харунага нахмурился еще больше.
— Но минуту назад ты говорил о своей беспристрастности, уверял, что у тебя и в мыслях не было отдавать кому-либо предпочтение.
— Да, это верно. Я готов это повторить... — Санэмон говорил, с усилием подбирая слова, как будто стремился раскрыть всю душу. — Вот в чем моя несправедливость. Я и вправду вовсе не собирался содействовать победе Тамона или поражению Кадзума, все это точно так, как я уже говорил вашей светлости. И все-таки этого еще мало, чтобы утверждать, будто я действовал нелицеприятно. Я заведомо возлагал больше надежд на Кадзума, чем на Тамона. Искусство Тамона суетно. Это порочное искусство, когда все помыслы устремлены только к победе — лишь бы победить, любой ценой победить, не гнушаясь ничем, даже низостью. Не таков Кадзума — его искусство возвышенное, благородное. Это подлинное искусство, честное и прямое, готовое встретить противника лицом к лицу. Я даже думал, что года через два или три Тамоп никак не сможет соперничать с Кадзума...
— Почему же ты присудил этому Кадзума поражение?
— В том-то и дело... По чести, я хотел, чтобы победа досталась не Тамону, а Кадзума. Но ведь я был судьей. А судья должен забыть свои личные симпатии. Когда с веером в руке становишься между противниками, вооруженными бамбуковыми мечами, надо следовать только законам неба. Таково мое убеждение, и потому
464
во время поединка Кадзума и Тамона я помышлял только о высокой справедливости. Но все-таки, как я уже имел честь вам сказать, в душе я желал победы Кадзума. Весы в моем сердце склонялись в его пользу. И вот вышло так, что, стремясь выровнять эти чаши, я опустил маленькую гирю в чашу Тамона... Только потом я понял, что она была лишней, — я был слишком мягок по отношению к Тамону и, напротив, чересчур суров с Кадзума.
Речь Санэмона снова прервалась. Молчал и князь, ожидая продолжения рассказа.
— И вот они встали друг против друга и изготовились, не спуская глаз с кончиков мечей, но никто не начинал первым. И тут, улучив момент, Тамон попытался коснуться головы Кадзума. Издав воинственный клич, Кадзума блестяще отразил этот удар и в то же мгновение коснулся запястья Тамона. Моя несправедливость началась с этой минуты. Я, несомненно, расценил этот удар Кадзума как победу. Но чуть только я мысленно сказал себе: «Это победа!» — как тут же подумал: а не был ли удар слишком слаб?.. Моя решимость притупилась. И я не поднял веер над головой Кадзума, хотя именно так надлежало бы поступить... Противники снова некоторое время стояли неподвижно, следя друг за другом. На этот раз Кадзума сделал выпад, стараясь коснуться мечом запястья Тамона. Тамон отразил удар и, в свою очередь, коснулся руки Кадзума. Удар Тамона был, пожалуй, слабее, чем тот, который нанес ему ранее Кадзума. И, уж во всяком случае, этот удар не мог бы считаться более удачным... Но в ту же секунду я поднял веер над головой Тамона. Иными словами, победа в первой схватке была присуждена Тамону. «Что я наделал!» —пронеслось в моей голове, но в то же время какой-то голос словно шепнул мне: «Нет, судья ошибиться не может. И если сейчас мне кажется, будто я совершил ошибку, то лишь потому, что я слишком благоволю к Кадзума...»
— Что же было дальше? — не без некоторой досады осведомился князь Харунага, потому что Санэмон снова погрузился в молчание.
— Противники опять встали в позицию. На этот раз выдержка была самой долгой. Внезапно Кадзума скрестил свой меч с мечом Тамона и вдруг молниеносным движением коснулся горла противника. Удар был сильным и точным. Но в следующую секунду меч Тамона коснулся головы Кадзума. Я поднял веер совершенно прямо, чтобы провозгласить ничью. Однако в действительности, кто знает, возможно, тут не было настоящей ничьей... Возможно, я затруднился определить, чей выпад был сделан раньше... Но нет —меч коснулся горла, пожалуй, раньше, чем другой меч — головы... Так или иначе, после провозглашения ничьей прв-
465
тивники в третий раз изготовились к схватке и снова встали в позицию, следя друг за другом. И опять первым начал Кадзума. Он попытался еще раз коснуться горла Тамона. Однако на этот раз он слишком высоко поднял кончик меча, и Тамон сделал попытку достать грудь противника, целясь ниже... Еще минут десять после этого продолжался яростный поединок. Но под конец Тамон достал мечом голову Кадзума...
— И этот удар?..
— Был блестящим и точным. Теперь действительно каждый мог ясно видеть преимущество Тамона. Эта неудача распалила Кадзума. Видя его волнение, я стал еще сильнее желать ему победы. Но чем больше я ее хотел, тем сильнее, говоря честно, колебался, не решаясь поднять веер над головой Кадзума. Противники снова обменялись ударами. И вдруг Кадзума, — не могу понять, что он задумал, — попытался придвинуться вплотную к Тамону. Я говорю, что не понял его намерений, потому что обычно Кадзума никогда не применял прием сближения... Я затаил дыхание. И не удивительно — Тамон приоткрыл грудь и в ту же секунду блестящим ударом коснулся головы Кадзума... Этот последний тур был поистине пустым и бесплодным... И в конце концов я в третий раз поднял веер над головой Тамона... В этом и состоит та небеспристрастность, о которой я говорил вам. Возможно, я добавил одну-единственную лишнюю пушинку на чашу моих душевных весов... Но равновесие нарушилось, и Кадзума проиграл столь важный для него поединок. И сейчас мне кажется, что гневался он, в сущности, справедливо...
— Значит, по этой причине ты и догадался, что напал на тебя Кадзума?
— Не уверен, ваша светлость. Но сейчас, перебирая все в памяти, я готов думать, что сознание вины жило где-то в глубине моей души. И теперь, пожалуй, я склонен считать, что именно чувство вины и подсказало мне правильную догадку: это Кадзума!
— Значит, ты сожалеешь о его смерти?
— Да, ваша светлость. А главное, как уже доложил вам, считаю непростительным, что так жестоко отнял жизнь у самурая, вассала вашей светлости... — И Санэмон, оборвав речь, снова опустил повинную голову. На лбу его, несмотря на декабрьскую стужу, выступили капельки пота. Князь Харунага, настроение которого между тем незаметно исправилось, несколько раз энергично кивнул, как бы соглашаясь с собственными мыслями.
— Так, так... Я понимаю, что у тебя на сердце. Возможно, что ты дурно поступил. Но тут уж ничего не поделаешь... Однако впредь смотри, чтобы... — Не договорив, Харунага бросил быстрый взгляд на Санэмона. — Когда ты наносил первый удар, ты
466
уже знал, что перед тобой — Кадзума. Почему же ты все-таки убил его?
В ответ Санэмон решительно вскинул голову. В глазах его, сверкавших на смуглом лице, зажглось прежнее непреклонное выражение.
— Я был обязан убить его! Санэмон — слуга вашей светлости. И, кроме того, самурай. И как ни жаль мне Кадзума, бандита я пожалеть не мог!
Декабрь 1923 г.
Комната для посетителей в одном из женских журналов. Главный редактор. Толстый господин лет сорока. Хорикава Ясукитн. Лет тридцати, очень худой, особенно рядом с толстым редактором; в двух словах его не опишешь. Во всяком случае, бесспорно одно: господином его
назовешь с трудом.Главный редактор. Вы бы не могли в ближайшее время написать для нашего журнала роман? Видите ли, читатель сейчас становится все требовательнее, и обычные любовные романы его уже не удовлетворяют... Я прошу, конечно, чтобы вы написали серьезный любовный роман, глубоко раскрывающий человеческие характеры.
Ясукити. Напишу, разумеется. По правде говоря, у меня задуман роман для женского журнала.
Главный редактор. В самом деле? Это прекрасно. Если вы напишете, мы широко разрекламируем его в газетах. Можно дать, например, такую рекламу: «Принадлежащий перу господина Хорикава любовный роман неисчерпаемой любви и нежности».
Ясукити. «Неисчерпаемой любви и нежности»? Но в моем романе «любовь — превыше всего».
Главный редактор. Значит, он воспевает любовь и нежность. Что же, это еще лучше. Ведь с тех пор, как появилась «Современная любовь» профессора Куриягава, юноши и девушки склоняются к тому, что любовь превыше всего... Вы имеете в виду, конечно, современную любовь?
Ясукити. Это еще вопрос. Современный скепсис, современное воровство, современное обесцвечивание волос — все это действительно существует. Однако любовь, думаю я, не особенно изменилась с древних времен Идзанаги и Идзанами.
467
Главный редактор. Это только так говорится. Ведь любовный треугольник — один из примеров современной любви. Во всяком случае, в японской действительности.
Ясукити. Что, любовный треугольник? В моем романе тоже есть любовный треугольник... Может быть, кратко рассказать содержание?
Главный редактор. Был бы вам весьма признателен.
Ясукити. Героиня — молодая женщина, недавно замужем. Муж — дипломат. Снимают квартиру, разумеется, в Токио, в районе Яманотэ. Она стройная. С прекрасными манерами, волосы всегда... Кстати, какая прическа нравится читателям?
Главный редактор. Видимо, мимикакуси.
Ясукити. Ну что ж, пусть мимикакуси. Итак, прическа мимикакуси, лицо — белое, глаза лучистые, на губах привычная... В общем, в кино такая женщина могла бы играть роли, которые исполняет Курисима Сумико. Муж — дипломат, юрист новой формации и уж никак не похож на болванов, которых выводят в повой драме. Это смуглый красавец, в бытность студентом игравший в бейсбол, ради удовольствия пописывающий рассказики. Молодожены счастливо живут в своей квартире в Яманотэ. Иногда они посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндза...
Главный редактор. До великого землетрясения, разумеется?
Ясукити. Да, задолго до землетрясения... Иногда посещают концерты. Иногда гуляют по Гиндза. Либо сидят под лампой в комнате, обставленной по-европейски, и молча обмениваются улыбками. Героиня называет эту комнату «наше гнездышко». На стенах репродукции Ренуара, Сезанна. Сверкает черным телом рояль. Развесила листья кокосовая пальма в горшке. Все это достаточно изящно, но, вопреки ожиданиям, платят они за квартиру мало.
Главный редактор. Ну, об этом можно и не говорить. Во всяком случае, в самом романе.
Ясукити. Нет, нужно. Ведь жалованье молодого дипломата мизерно.
Главный редактор. В таком случае сделайте его сыном аристократа. Ну, а если он аристократ, то пусть будет графом или виконтом. Почему-то князья и маркизы появляются в романах не особенно часто.
Ясукити. Ну, пусть будет сыном графа. Но хорошо бы оставить комнату, обставленную по-европейски. Дело в том, что и комнату, обставленную по-европейски, и Гиндза, и концерты я ввожу впервые... Однако Таэко — так зовут героиню — после знакомства с музыкантом Тацуо начинает ощущать некоторое беспо-
468
койство. Тацуо любит Таэко — героиня инстинктивно чувствует это. Мало того, беспокойство ее растет день ото дня.
Главный редактор. А что собой представляет этот Тацуо?
Ясукити. Тацуо гениальный музыкант. Его талант под стать таланту Жан-Кристофа, о котором написал Роллан, таланту Даниеля Нотхафта, о котором написал Вассерман. Но иа-за его бедности или еще из-за чего-то никто его не признает. В качестве прототипа я собираюсь взять моего приятеля-музыканта. Мой приятель, правда, красавец, а Тацуо совсем не красив. Лицом он на первый взгляд напоминает дикаря — уроженца северо-востока, похожего на гориллу. И только глаза светятся гениальностью. Его глаза, как пылающий уголь, излучают непреходящий жар. Такие у него глаза.
Главный редактор. Гений — это пойдет.
Ясукити. Но Таэко вполне удовлетворена своим мужем-дипломатом. Нет, она любит мужа еще сильнее, чем раньше. Муж верит Таэко. Это само собой разумеется. Потому-то грусть Таэко становится все сильнее.
Главный редактор. Именно такую любовь я и называю современной.
Ясукити. Ежедневно, как только зажигается свет, Тацуо непременно появляется в комнате, обставленной по-европейски. Когда муж дома, особого беспокойства это не доставляет, но даже если мужа нет и Таэко дома одна, Тацуо все равно приходит. Тогда Таэко не остается ничего другого, как сажать его за рояль. Да и при муже Тацуо обычно сидит за роялем.
Главный редактор. В эти минуты и родилась любовь?
Ясукити. Нет, она полюбила не так просто. Однажды февральским вечером Тацуо начинает неожиданно играть «Сильвию» Шуберта. Песню, вобравшую в себя страсть, точно льющееся пламя. Таэко, сидя под огромными листьями пальмы, задумчиво слушает. Постепенно женщина начинает осознавать, что любит Тацуо. И в то же время начинает осознавать возникшее у нее искушение. Еще пять минут... Нет, если бы прошла еще хоть минута, Таэко, может быть, бросилась бы в объятья Тацуо. Но тут... Как раз, когда должны прозвучать последние аккорды, возвращается муж.
Главный редактор. Ну, а потом?
Ясукити. Потом не прошло и недели, как Таэко, не в силах больше страдать, решает покончить с собой. Но она беременна и поэтому не находит в себе силы осуществить задуманное. Тогда она рассказывает мужу, что ее любит Тацуо. Правда, о своей любви к Тацуо, чтобы не огорчать его, умалчивает.
469
Главный редактор. Потом, значит, дуэль?
Ясукити. Нет, просто в очередной приход Тацуо муж холодно отказывает ему от дома. Тацуо, молча закусив губу, смотрит на рояль. Таэко стоит за дверью и с трудом сдерживает рыдания... Не проходит и двух месяцев, как муж неожиданно получает назначение в Китай, в консульство в Ханькоу и отправляется туда.
Главный редактор. Таэко едет вместе с ним?
Ясукити. Разумеется, едет с ним. Но перед отъездом пишет письмо Тацуо. «В душе я сочувствую Вам. Но сделать ничего не могу. Примиримся — такова судьба». Вот примерно смысл этого письма. С тех пор Таэко ни разу не виделась с Тацуо.
Главный редактор. Этим и заканчивается роман?
Ясукити. Нет, но осталось совсем немного. И после приезда в Ханькоу Таэко часто вспоминает Тацуо. Больше того, начинает в конце концов думать, что на самом деле любит его сильнее, чем мужа. Ясно? Таэко окружает тихий ханькоуский пейзаж. Пейзаж, который воспел поэт Цуй Хао: «Страна прозрачных рек и легких красных сосен, страна душистых трав, цветущих зарослей и попугаев». Наконец, Таэко, — прошел всего лишь год, — снова пишет письмо Тацуо. «Я любила Вас. Люблю Вас и сейчас. Так пожалейте женщину, которая сама себя обманула», — таково содержание письма, которое она пишет. Тацуо, получивший это письмо...
Главный редактор. Немедленно отправляется в Китай.
Ясукити. Этого он никак не может сделать. Дело в том, что Тацуо ради пропитания играет на рояле в одном из кинотеатров Асакуса.
Главный редактор. Фу, какая проза!
Ясукити. Проза, но ничего не поделаешь. Тацуо вскрывает письмо от Таэко за столиком кафе на окраине города. За окном — затуманенное дождем небо. Тацуо, точно мысли его далеко, задумчиво смотрит на письмо. Ему кажется, что между строк проглядывает обставленная по-европейски комната Таэко. Кажется, что проглядывает «наше гнездышко» с отражением лампы на крышке рояля...
Главный редактор. Мне кажется, чего-то здесь недостает, но все равно я убежден, что это шедевр. Обязательно пишите.
Ясукити. По правде говоря, осталось еще немного.
Главный редактор. Как, разве это еще не конец?
Ясукити. Нет. Тут Тацуо начинает смеяться. И вдруг с досадой вопит: «Скотина!»
Главный редактор. Ага, сошел с ума?
Ясукити. Да что вы, просто вышел из себя из-за идиот-
470
ской ситуации. Ему не оставалось ничего иного, как выйти из себя. Дело в том, что Тацуо нисколько не любил Таэко...
Главный редактор. Но тогда...
Ясукити. Тацуо ходил в дом Таэко только ради того, чтобы играть на рояле. Просто он любил рояль. Бедный Тацуо не имел денег, чтобы купить его, — вот в чем дело.
Главный редактор. Ну, знаете, Хорикава-сан.
Ясукити. Но то время, когда Тацуо имел возможность играть на рояле в кинотеатре, было для него еще счастливым. После недавнего землетрясения Тацуо стал полицейским. А когда вспыхнуло движение в защиту конституции, он был избит добродушны-мп токийцами. Лишь совершая обход своего участка в Яманотэ, он в редкие минуты слышит, как из какого-нибудь дома доносятся звуки рояля, и тогда он останавливается и грезит о своем коротком счастье.
Главный редактор. В общем, этот горестный роман...
Ясукити. Ну, послушайте дальше. Таэко и сейчас у себя в Ханькоу по-прежнему думает о Тацуо. Нет, не только в Ханькоу. Каждый раз, когда муж-дипломат получает новое назначение, переезжая с места на место — в Шанхай, Пекин, Тяньцзин, — она по-прежнему думает о Тацуо. К моменту землетрясения у нее было уже много детей. Да... После погодков она родила двойню, и у нее стало сразу четверо. Ко всему еще муж пристрастился к водке. Поэтому разжиревшая, как свинья, Таэко думает, что любил ее один лишь Тацуо. Любовь действительно превыше всего. Иначе просто не удалось бы стать счастливой, как Таэко. Во всяком случае, нельзя не испытывать отвращения к грязи жизни... Ну как вам такой роман?
Главный редактор. Хорикава-сан, вы это серьезно?
Ясукити. Разумеется, серьезно. Посмотрите на светские любовные романы. Героиня если не Мария, то непременно Клеопатра. Разве не так? Но героиня в жизни совсем не обязательно девственница и в то же время не обязательно распутница. Найдите хоть одного серьезного читателя, который бы серьезно воспринимал подобные романы. Конечно, если есть согласие в любви, — это вопрос особый, но в тот день, когда паче чаяния сталкиваются с безответной любовью, идут на дурацкое самопожертвование или же бросаются в еще более дурацкую крайность — в мстительность. И все потому, что, вовлеченные в это, сами преисполняются самодовольством, будто совершают героический поступок. В моем же любовном романе нет ни малейшей тенденции популяризировать подобные дурные примеры. Вдобавок в конце превозносится счастье героини.
471
Главный редактор. Вы, видимо, шутите?.. Во всяком случае, наш журнал этого ни в коем случае не напечатает...
Ясукити. В самом деле? Ничего, напечатают где-нибудь еще. Ведь должен же быть на свете хоть один женский журнал, который согласится с моими рассуждениями.
Доказательством, что Ясукити не ошибся, может служить опубликованная здесь беседа.
Март 1924 г.
Было утро, недавно перестал идти снег. Ясукити сидел в учительской физического отделения и смотрел на огонь в печке. Огонь словно дышал — то ярко вспыхивал желтым пламенем, то прятался в серой золе. Так он непрестанно боролся с холодом, разлитым по комнате. Ясукити вдруг представил себе холод внеземных мировых пространств и почувствовал к докрасна раскаленному углю что-то вроде симпатии.
— Хорикава-кун!
Ясукити поднял глаза на бакалавра естественных наук Мия-мото, стоявшего возле печки. Миямото, в очках для близоруких, с жидкими усиками над верхней губой, стоял, засунув руки в карманы брюк, и добродушно улыбался.
— Хорикава-кун! Ты знаешь, что женщина тоже физическое тело?
— Что женщина — животное, я знаю.
— Не животное, а физическое тело. Это — истина, которую я сам недавно открыл в результате больших трудов.
— Хорикава-сан, разговоры Миямото-сан не следует принимать всерьез.
Это сказал другой преподаватель физики, бакалавр естественных наук Хасэгава. Ясукити оглянулся на него. Хасэгава сидел за столом позади Ясукити, проверяя контрольные работы, по всему его лицу с большим лбом разлита была смущенная улыбка.
— Это странно! Разве мое открытие не должно осчастливить Хасэгава-куна? Хорикава-кун, ты знаешь закон теплообмена?
— Теплообмена? Это что-то о тепле электричества?
— Беда с вами, литераторами.
Миямото подбросил в открытую дверцу печки, озаренную отблесками огня, совок угля.
472
— Когда два тела с разной температурой приходят в соприкосновение, то тепло передается от тела с более высокой температурой к телу с более низкой температурой, пока температура обоих тел не уравняется.
— Так ведь это само собой разумеется!
— Вот это и именуется законом теплообмена. Теперь будем считать, что женщина — физическое тело. Так? Если женщина физическое тело, то и мужчина, конечно, тоже. Тогда любовь будет соответствовать теплу. Когда эти мужчина и женщина приходят в соприкосновение, любовь, как и тепло, передается от более увлеченного мужчины к менее увлеченной женщине, пока она у них обоих не уравняется. Как раз так случилось у Хасэгава-купа.
— Ну, начинается!
Хасэгава почти обрадованно засмеялся, словно от щекотки.
— Пусть Е — количество тепла, проходящее через площадь S за время Т, так? Тогда Н — температура, X — расстояние от источника тепла, К — коэффициент теплообмена, определяемый веществом. Теперь возьмем случай с Хасэгава-куном.
Миямото начал писать на небольшой доске нечто вроде формулы. Но вдруг он обернулся и, словно отчаявшись, отбросил мел.
— Перед таким профаном, как Хорикава-кун, даже не похвастаешься своим открытием. А каких трудов мне оно стоило! Во всяком случае, нареченная Хасэгава-куна, видимо, увлеклась согласно моей формуле.
— Если бы такая формула существовала на самом деле, на свете жилось бы довольно легко...
Ясукити вытянул ноги и стал рассеянно смотреть в окно. Учительская физического отделения помещалась в угловой комнате на втором этаже, поэтому отсюда можно было охватить одним взглядом спортивную площадку с гимнастическими снарядами, сосновую аллею и дальше — красные кирпичные здания. И море — в промежутке между зданиями было видно, как море вздымает пену серых волн.
— Зато литераторы сидят на мели. Ну, как она идет, ваша последняя книга?
— По-прежнему не продается. Видно, между писателями и читателями теплообмена не возникает... Кстати, как у Хасэгава-куна со свадьбой, все еще никак?
— Остался всего месяц. Столько хлопот, что невозможно заниматься, я совсем измучился.
— Так заждался, что невозможно заниматься?
— Я же не Миямото-сан. Прежде всего надо подыскать дом, но нигде ничего не сдается. Я просто из сил выбился. В прошлое
473
воскресенье в поисках исходил весь город. Только присмотришь свободный дом, а он, оказывается, уже сдан другим.
— Ну, а там, где я живу? Конечно, если не тяжело каждый день ездить поездом в училище.
— До вас далековато. Говорят, там можно снять дом, и жена не против, но... Эй, Хорикава-сан! Ботинки сожжете!
По-видимому, ботинки Ясукити на какой-то момент коснулись печки: запахло горелой кожей, и поднялось облачко дыма.
— А ведь здесь тоже действует закон теплообмена.
Протирая стекла очков, Миямото исподлобья, как-то неуверенно поглядел на Ясукити своими близорукими глазами и широко улыбнулся.
Через несколько дней выдалось морозное пасмурное утро. Ясукити торопливо шел по окраине дачной местности, спеша попасть к поезду. Справа от дороги тянулись ячменные поля, слева — железнодорожная насыпь шириной в два кэна. Поля были совершенно безлюдны и полны смутными шорохами. Казалось, кто-то ходит среди ячменя, но это просто ломались сосульки в перепаханной земле.
Тем временем восьмичасовой поезд на Токио с умеренной скоростью прошел по насыпи, издав протяжный гудок. Поезд же из Токио, на который спешил Ясукити, должен был пройти через полчаса. Ясукити взглянул на часы. Они почему-то показывали четверть девятого. Ясукити объяснил себе это расхождение тем, что часы спешат. И, разумеется, подумал: «Сегодня не опоздаю». Поля, тянувшиеся вдоль дороги, постепенно сменились живыми изгородями. Ясукити закурил сигарету и зашагал спокойней.
Это случилось там, где усыпанная шлаком дорога, подымаясь в гору, выводила к переезду; Ясукити подошел к нему как ни в чем не бывало. Он увидел, что по обе стороны переезда толпится народ. К счастью, владельцем велосипеда с поклажей, остановившегося у ограды, оказался знакомый мальчик из мясной. Ясукити хлопнул его по плечу рукой с зажатой в пальцах сигаретой.
— Эй, что случилось?
— Человека переехало! Вот только что, восьмичасовым, — ответил скороговоркой лопоухий мальчик. Лицо его горело от возбуждения.
— Кого переехало?
— Сторожа переезда. Он хотел спасти школьницу, которая чуть не попала под поезд, и его задавило. Знаете книжную лавку Нагаи, перед Хатиман? Вот их девочку чуть не задавило.
474
— Значит, девочку спасли?
— Да, вон она там, плачет, говорят.
«Вон там» — это была толпа по другую сторону переезда. В самом деле, там полицейский расспрашивал о чем-то какую-то девочку. Стоявший возле них мужчина, судя по виду его помощник, время от времени заговаривал с полицейским. Сторож переезда... Ясукити заметил перед будкой сторожа труп, покрытый рогожей. Он вызывал отвращение и вместе с тем возбуждал любопытство — да, это было так. Из-под рогожи даже издали виднелись ноги, — вернее, одни ботинки.
— Труп принесли вон те люди.
Под семафором по эту сторону переезда вокруг маленького костра сидело несколько железнодорожных рабочих. Желтоватое пламя костра не давало ни света, ни дыма, настолько было холодно. Один из рабочих в коротких штанах грел у костра зад.
Ясукити пошел через переезд. Станция была недалеко, поэтому на переезде был целый ряд железнодорожных путей. Шагая через рельсы, Ясукити думал о том, на каком именно пути раздавило сторожа. И вдруг это ему стало ясно. Кровь, еще остававшаяся в одном месте на рельсах, говорила о трагедии, разыгравшейся здесь несколько минут назад. Почти инстинктивно он перевел глаза на ту сторону переезда. Но это не помогло. Яркие алые пятна на холодно блещущем железе в одно мгновение, как выжженные, запечатлелись у него в душе. Мало того, от крови даже подымался легкий пар...
Через десять минут Ясукити беспокойно расхаживал по перрону. Мысли его были полны только что виденным жутким зрелищем. С особой отчетливостью он видел пар, подымавшийся от крови. В эту минуту он вспомнил о процессе теплообмена, о котором они недавно беседовали. Жизненное тепло, содержавшееся в крови, по закону, который ему объяснил Миямото, с непогрешимой правильностью неумолимо переходит в рельсы. Это вторая жизнь, чья бы она ни была — сторожа ли, погибшего на посту, или тяжелого преступника, — с той же неумолимостью передается дальше. Что такие идеи лишены всякого смысла, он и сам понимал. И преданный сын, упав в воду, неизбежно утонет, и целомудренная женщина, попав в огонь, должна сгореть. Так он снова и снова старался мысленно убедить себя самого. Но то, что он видел своими глазами, произвело тяжелое впечатление, не оставлявшее места для логических рассуждений.
Однако, независимо от его настроения, у гулявших на перроне был вид вполне счастливых людей. Ясукити это раздражало. Громкая болтовня морских офицеров была ему физически неприятна. Он закурил вторую сигарету и отошел к краю перрона.
475
Отсюда на расстоянии двух-трех те был виден тот переезд. Толпа по обе его стороны как будто уже разошлась. Только у семафора еще колебалось желтое пламя костра, вокруг которого сидели железнодорожные рабочие.
У Ясукити этот далекий костер вызвал что-то вроде симпатии. Однако то, что рядом был виден переезд, внушало ему беспокойство. Он повернулся спиной к переезду и опять смешался с толпой. Но не прошел он и десяти шагов, как вдруг заметил, что кто-то уронил красную кожаную перчатку. Перчатка упала, когда ее владелец, уходя, снял ее с правой руки, чтобы зажечь сигарету. Ясукити обернулся. Перчатка лежала на краю перрона ладонью вверх. Казалось, что она безмолвно зовет его остановиться.
Под морозным пасмурным небом Ясукити почувствовал душу этой одинокой оставленной перчатки. И вместе с тем ощутил, как в холодный мир тонкими лучами падает теплый солнечный свет.
Апрель 1924 г.
Это был обрывок письма на европейской бумаге, валявшийся под скамейкой в парке Хибпя. Подбирая его, я думал, что он выпал из моего собственного кармана. Но когда взглянул, оказалось, что это письмо одной молодой женщины, посланное другой. Разумеется, такое письмо вызвало у меня любопытство. К тому же место, случайно попавшееся мне на глаза, содержало строчку, которую, не знаю как другим, но мне нельзя было пропустить.
«...но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак!» Как выразился один критик, я «такой скептик, что готов пожертвовать своим совершенством писателя». Причем к собственной глупости отношусь более скептически, чем всякий другой. «Но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак!» — что за болтовня вертихвостки? Стараясь подавить вспыхнувший во мне гнев, я решил все же просмотреть рассуждения этой девицы. Нижеприведенное — переписано из обрывка письма слово в слово.
«Как скучно мое существование, и сказать нельзя. Что поделаешь, глухой угол Кюсю. Театра нет, выставок нет (ты была на выставке Сюнъёкай? Если была, напиши мне. С прошлого года они стали мне нравиться), концертов нет, лекций нет, — словом,
476
некуда пойти. Вдобавок интеллигенция этого городка едва дошла до уровня Токутоми Рока. Вчера я повстречалась с приятельницей со времен женского училища, — и что же? — она только сейчас открыла для себя Арисима Такэо. Подумай, как это ужасно. Поэтому я живу дома бесцельно, как и все, шью, стряпаю, играю на фисгармонии сестренки, перечитываю книги. Ах, выражаясь твоими словами, не жизнь, а сама скука.
Это бы еще полбеды. Но время от времени являются родственники и подымают разговор о замужестве. То сватают старшего сына члена префектурального совета, то племянника владельца рудной шахты, одних фотографий я нагляделась не меньше десяти штук. Да-да, и среди них была фотография сына Накагава, того, что уехал в Токио. Я как-то его тебе показывала — он проходил по коридору в университете то ли с официанткой из кафе, то ли еще с кем-то... А его считают талантливым. Разве это не значит дурачить людей? Вот я и сказала им: «Я не говорю, что не выйду замуж. Но в делах замужества буду полагаться не на суждения других, а на свое собственное. Зато и ответственность за будущее счастье или несчастье ляжет целиком на меня».
Однако в следующем году брат окончит коммерческий институт, сестренка перейдет в четвертый класс женского училища. Как начнешь прикидывать, вот и получается, что не выйти замуж никак нельзя. В Токио дело совсем другое. А в -нашем городке никаких понятий нет, они думают, я не хочу пристроиться, чтобы помешать браку брата и сестры. Слушать такие попреки просто невыносимо.
Конечно, я знаю, что не могу учить музыке, как ты, и мне не остается ничего другого, как выйти замуж. Но разве это значит, что надо выйти за кого попало? А в нашем городке считают, что всему виною «высокие идеалы». «Высокие идеалы»! Само слово «идеал» пожалели бы! Ведь здесь его употребляют не иначе как применительно к кандидатам в мужья. А до чего эти кандидаты хороши! Это я тебе сейчас объясню. Хочешь пример? Сын члена префектурального собрания служит в банке или еще где-то. Он настоящий пуританин. Пуританин — это бы еще куда ни шло, но подумай, он не только не пьет даже сладкого сакэ, он еще и секретарь общества трезвости. Раз уж родился непьющим, не смешно ли вступать в общество трезвости? Тем не менее он вполне серьезно произносит речи о вреде алкоголя.
Правда, не все кандидаты в мужья слабоумны. Инженер из электрической компании, который больше всех пришелся по душе моим родителям, во всяком случае, образованный молодой человек. Я видела его только мельком, но сразу заметила, что лицом он напоминает Крейслера. Этот Ямамото с увлечением изучает
477
общественные проблемы. Но к искусству, к философии у него нет ни малейшего интереса. Вдобавок его развлечение — стрельба из лука и песенки нанивабуси. А я всегда считала, что любить нанивабуси — значит иметь плохой вкус. Раньше я и не заикалась о нанивабуси. Как-то я поставила пластинки Галли Курчи и Карузо, так он спросил: «А нет ли Торамару?» — вот и выдал себя с головой. А случаются вещи и посмешнее: если у нас дома подняться в мезонин, то кажется, будто видна башня храма Сайсёдзи. И будто в дымке, окутывающей башню, блестят девять колец — об этом могла бы написать стихи Ёсано Акико. Когда этот Ямамото как-то пришел к нам в гости, я спросила; «Ямамото-сан, башня видна?» — а он всерьез, вытянув шею: «Да, видна. Сколько в ней метров?» Конечно, он не слабоумный, но с искусством явно не в ладах.
Немало знает мой кузен Фумио. Он читал и Наган Кафу и Танидзаки Дзюнъитиро. Но когда я попробовала с ним поговорить, то убедилась, что он провинциальный знаток и судит о многом неверно. Например, «Перевал Дайбосацу» он считает шедевром. Это еще куда ни шло, но дело в том, что он известный всем повеса. По словам отца, он может попасть под опеку. Поэтому-то родители и не признают кузена кандидатом в женихи. Только его отец — то есть мой дядя — желает видеть меня своей невесткой. Открыто он об этом не говорит и допытывается у меня потихоньку. Послушай только его разговоры: «Если бы ты пришла к нам, его кутежи кончились бы». Может быть, все родители таковы? Все же он ужасный эгоист. По мнению дяди, я не столько гожусь в хозяйки, сколько могу, как он говорит, послужить средством против разгульной жизни кузена. Право, не могу сказать, как опротивело мне это.
Все эти матримониальные сложности навели меня на мысль о том, насколько немощны японские писатели. Я получила образование, духовно выросла, и потому мне тяжело взять в мужья недоучку — но ведь не одна я страдаю из-за этого. Таких в Японии, должно быть, полным-полно. Но разве хоть кто-нибудь из наших писателей изобразил женщину, страдающую из-за этой сложности? Разве указали они, каким путем разрешить такую проблему? Отнюдь не самое лучшее отказаться от замужества, если его не хочешь. Допустим, что девушка не выйдет замуж и ее не будут осыпать глупыми попреками, как у нас в городке, ведь это значит, что ей придется зарабатывать себе на жизнь. Но разве полученное образование дает нам хоть какую-нибудь возможность жить самостоятельно? С нашим знанием иностранных языков и в домашние учителя не возьмут, а с нашим вязаньем не заработаешь даже на плату за комнату. Значит, остается одно — выйти
478
за человека, которого презираешь. Я думаю, это обыденная и в то же время большая трагедия. Но то, что она обыденная, разве это не делает ее еще страшнее? Называется брак, а в сущности проституция.
А ты прекрасно можешь зарабатывать себе на жизнь, не то что я. Ничему я не завидую так, как этому! Да и не только тебе. Вчера мы с мамой пошли за покупками, и я видела, как девушка моложе меня работает на японской пишущей машинке. Даже она — насколько она счастливее меня1 Ах, ты ведь больше всего не любишь сентиментальности. Ну, я кончаю свои вздохи.
Все же я хочу обрушиться на немощность японских писателей. Чтобы найти выход из трудного положения, в которое я попала с моим будущим замужеством, я стала перечитывать некоторые книги. Но нашелся ли хоть один писатель, который говорил бы от нашего имени? Курата Момодзо, Кикути Хироси, Кумэ Macao, Мусякодзи Санэацу, Сатоми Тон, Сато Харуо, Ёсида Гэндзиро, Ногами Яёи — все до последнего слепы. Ну, и пусть их, но когда я взялась за Акутагава Рюноскэ — вот уж дурак! Ты читала рассказ «Барышня Рокуномия»? (Следуя примеру Кёдэна и Самба, я тут должен добавить нечто вроде рекламы: «Барышня Рокуномия» напечатана в сборнике «Весеннее платье» в издательстве Сюнъё-до. — Р. А.) Акутагава в этом рассказе поносит робкую девушку. Право, человек, который не способен страстно желать, презренней преступника. Но как бы страстно ни желали мы, получившие образование, которое не дает нам возможности стать на ноги, все равно средств осуществить желание у нас нет. Так было и с барышней Рокуномия. Самодовольно поносить ее — разве в этом не сказывается низменность автора? Я еще больше стала презирать Акутагава Рюноскэ, когда прочла этот рассказ...»
Женщина, написавшая это письмо, — сентиментальная невежда. Чем марать бумагу такими излияниями, лучше бы она попыталась бежать, чтобы поступить в школу машинисток. Я не принял «дурака» в свой адрес, я сам ее презирал. Но вместе с тем испытывал что-то вроде сочувствия. Сколько бы она ни выражала свое недовольство, все равно выйдет за инженера из электрической компании или кого-нибудь еще. А выйдя замуж, превратится в обыкновенную жену. Начнет слушать и нанивабуси. Забудет башню Сайсёдзи. Будет, как свинья поросят, рожать детей... Я засунул обрывок письма глубоко в ящик стола. Там вместе со старыми письмами желтеют и выцветают и мои мечты.
Апрель 1924 г.
479
Студент Накамура, ощущая под тонким весенним пальто тепло собственного тела, поднимался по сумрачной каменной лестнице на второй этаж музея. Там слева находится отдел пресмыкающихся. Прежде чем войти туда, Накамура взглянул на свои ручные золотые часы. К счастью, стрелки еще не показывали двух. Вопреки его опасениям, ему удалось не опоздать, но, подумав об этом, он ощутил не облегчение, а нечто вроде потери.
В отделе пресмыкающихся тишина. Даже посетителей сегодня нет. Лишь чувствуется холодноватый запах инсектицидов. Накамура оглядел комнату и потянулся, глубоко вздохнув. Потом остановился перед удавом из южных стран, обвившимся вокруг толстого сухого дерева в просторном стеклянном шкафу. Еще прошлым летом они выбрали отдел пресмыкающихся местом своих встреч с Миэко. И дело вовсе не в том, что у них были какие-то нездоровые наклонности. Они были вынуждены предпочесть это место, просто чтобы избежать людских глаз. Парки, кафе, вокзалы — все это лишь смущало таких застенчивых людей, как они. И особенно Миэко: для нее, совсем недавно выросшей из детских платьев, это, наверно, было больше чем просто смущение. Они чувствовали бесчисленные взгляды на своих спинах. Более того, эти взгляды проникали в их сердца. Но когда они приходили в этот отдел — на них некому было смотреть, кроме чучел змей и ящериц. И если они иногда сталкивались с посетителями или служителем, на них смотрели разве что мельком.
Свидание назначено на два часа. В ту же секунду стрелки часов показали ровно два. Не может быть, чтобы и сегодня ему пришлось долго ждать. Накамура прошелся по комнате, разглядывая экспонаты пресмыкающихся. К сожалению, сердце его отнюдь не прыгало от радости. Скорее, оно исполнялось чувством, похожим на некую покорность долгу. Уж не наскучила ли ему Миэко — ведь у мужчин так бывает. Но чтобы родилась скука, нужно все время сталкиваться с одним и тем же. Однако сегодняшняя Миэко, к счастью ли, к несчастью ли, совсем не та, что вчерашняя. Вчерашняя Миэко, обменявшаяся с ним лишь кивком в поезде на линии Яманотэ, была благовоспитанной школьницей. Да что вчерашняя, даже та Миэко, что впервые с ним вместе отправилась на прогулку в парк Инокасира, была еще сущей тихоней...
Накамура снова взглянул на часы. Пять минут третьего. Поколебавшись, он вышел в соседнюю комнату, в отдел птиц. Канарейки, золотые фазаны, колибри, красивые чучела птиц разных
480
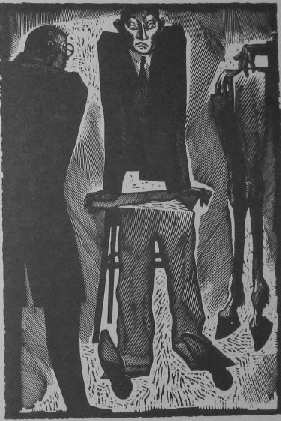
«Лошадиные ноги»
размеров разглядывают его сквозь стекло. И у Миэко остался лишь остов, как у этих птиц, она лишилась красоты души. Он очень хорошо помнит: когда они встретились в прошлый раз, она все время жевала резинку. А еще до этого, во время встречи, не умолкая, напевала оперные арии. Особенно его удивила та Миэко, с которой он встретился с месяц назад. Она очень расшалилась, и в конце концов, пытаясь подбросить подушку до потолка, стала швырять ее ногами — это она называла футболом...
На часах было четверть третьего. Накамура со вздохом вернулся в отдел пресмыкающихся. Но Миэко нигде не было видно. Ощущая облегчение, он «распрощался» с ящерицей, которая оказалась у него перед глазами. Со времен Мэйдзи эта большая ящерица вечно держит во рту маленькую змейку. Вечно, — но он-то не собирается быть здесь вечно. Как только часы покажут полтретьего, он немедленно уйдет. Вишни еще не цветут. Но на ветвях деревьев перед храмом Рёдайси, сквозь которые просвечивает облачное небо, уже появились алые бутоны. А ведь нужно признаться, что пройтись по парку гораздо приятнее, чем идти куда-то с Миэко...
Двадцать минут третьего! Ладно, можно еще десять минут подождать. Подавив в себе желание уйти, он стал переходить от экспоната к экспонату. Ящерицы и змеи, оторванные от тропических лесов, несли на себе печать тлена. Может быть, это был символ. Символ его любви, утерявшей жар. Он был верен Миэко. Но за полгода она превратилась в совершенно неузнаваемую дрянную девчонку. В том, что он утерял свой жар, — полностью виновата сама Миэко. По крайней мере, это произошло потому, что его иллюзии рухнули. А совсем не потому, что она ему наскучила.
Ровно в половине третьего Накамура собрался выйти из отдела пресмыкающихся. Но, не дойдя до двери, резко повернулся на каблуках. Может быть, вот-вот Миэко войдет и они разминутся. Тогда будет жаль ее. Жаль? Нет, не жаль. Он страдает не из сочувствия к ней, а скорее из собственного чувства долга. И чтобы это чувство долга не мучило, надо подождать еще десять минут. Да нет, она все равно не придет. Жди ее или не жди, но сегодняшний вечер он, видно, сможет провести в свое удовольствие...
В отделе пресмыкающихся и теперь по-прежнему тишина. Сюда еще не заглядывал ни один посетитель. И только веет холодноватым запахом инсектицидов. Накамура начал злиться на себя. Миэко все же дрянная девчонка. Но его любовь, наверно, еще не совсем остыла. Иначе он давно бы ушел из музея. И пусть жар его души остыл — влечение, видимо, осталось. Влечение? Но это
16 Акутагава Рюноскэ
481
не влечение. Судя по тому, что сейчас произошло, он и в самом деле любит Миэко. Она подбрасывала ногами подушки. Но ноги у нее очень белые, к тому же пальчики на ногах грациозно согнуты. И особенно ее смех в тот момент — он вспомнил смех склонившей голову Миэко.
Два часа сорок минут.
Два часа сорок пять минут.
Три часа пять минут.
Вот уже десять минут четвертого. Ощущая холод глубоко под весенним пальто, Накамура покинул безлюдный отдел пресмыкающихся и стал спускаться по каменной лестнице. Всегда сумрачной, как при заходе солнца, каменной лестнице.
В тот же день, когда уже зажглись фонари, Накамура в углу кафе разговаривал с приятелем. Приятель его — студент Хорикава, собирающийся стать писателем. За чашкой крепкого чая они спорили об эстетической ценности автомобилей, об экономической ценности Сезанна. Устав и от этого, Накамура, закуривая сигарету с золотым обрезом, рассказал о событиях этого дня, почти как историю о ком-то постороннем.
— Дурак я, правда? — закончив свой рассказ, как бы равнодушно прибавил Накамура.
— Ну, глупее всего считать себя дураком. — Хорикава беспечно улыбнулся. А потом вдруг, будто читая вслух, заговорил: — Ты уходишь. В отделе пресмыкающихся тишина. И вот туда... Времени прошло еще совсем немного, на часах всего четверть четвертого, и вот туда входит бледная школьница. Там, конечно, нет посетителей, нет вообще никого. Она долго неподвижно стоит в окружении змей и ящериц. А здесь так легко расплакаться. Между тем темнеет. Скоро закроют музей. Но школьница стоит все в той же позе... Представить себе все это, и получится новелла. Однако эта новелла тебе не очень понравится. Миэко — тут все ясно, но вот как угораздило ее сделать тебя героем новеллы?
Накамура рассмеялся.
— Миэко, к сожалению, тоже толстая.
— Еще толще тебя?
— Не болтай чепуху! Я вешу восемьдесят восемь килограммов, а Миэко около шестидесяти четырех.
И вот пролетело десять лет. Накамура, кажется, служит сейчас в берлинском отделении Мицуи. Миэко в конце концов вышла замуж. Как-то писатель Хорикава Ясукити случайно обнаружил
482
ее на обложке новогоднего номера одного женского журнала. На фотографии она с тремя детьми стоит у рояля и счастливо улыбается. И вес ее — то, чего Ясукити втайне боялся, — вес ее, видимо, уже перевалил за семьдесят пять килограммов...
Январь 1925 г.
Героя этого рассказа зовут Осино Хандзабуро. К сожалению, человек он ничем не замечательный. Он служащий пекинского отделения компании «Мицубиси», лет ему около тридцати. Через месяц после окончания коммерческого училища Хандзабуро получил место в Пекине. Товарищи и начальство отзывались о нем не то чтобы хорошо, но и нельзя сказать, что плохо. Заурядность, бесцветность — вот что определяет внешность Хандзабуро. Добавлю, что такова же его семейная жизнь.
Два года назад Хандзабуро женился на одной барышне. Звали ее Цунэко. И это, к сожалению, не был брак по любви. Это был брак, устроенный родственниками Хандзабуро, пожилыми супругами, через свата. Цунэко нельзя было назвать красавицей. Правда, нельзя было назвать ее безобразной. На ее пухлых щечках всегда трепетала улыбка. Всегда — за исключением той ночи по пути из Мукдена в Пекин, когда в спальном вагоне ее кусали клопы. Но с тех пор ей больше не приходилось бояться клопов: в казенной квартире на улице N. у нее было припасено два флакона «Пиретрума» — средства от насекомых, изготовленного фирмой «Комори».
Я сказал, что семейная жизнь Хандзабуро совершенно заурядна, бесцветна, и действительно, так оно и было. Он обедал с Цунэко, слушал с ней граммофон, ходил в кинематограф — и только; словом, вел такую же жизнь, как и всякий другой служащий в Пекине. Однако и при таком образе жизни им не уйти было от предначертаний судьбы. Однажды после полудня судьба оборвала одним ударом мирный ход этой заурядной, бесцветной жизни. Служащий фирмы «Мицубиси» Осино Хандзабуро скоропостижно скончался от удара.
В это утро Хандзабуро, как обычно, усердно занимался бумагами за своим служебным столом в зданип Дундуань-пайлоу. Говорили, что сослуживцы, сидевшие напротив него, не заметили в нем ничего необычного. Однако в тот миг, когда он, видимо, закончив одну из бумаг, сунул в рот папироску и хотел было чиркнуть спичкой, — он вдруг упал лицом вниз и умер. Скончался он как-то слишком внезапно. Но, к счастью, не принято строго
16*
483
судить о том, кто как умер. Судят лишь о том, кто как живет. Благодаря этому и в случае с Хандзабуро дело обошлось без особых пересудов. Мало того что без пересудов. И начальство и сослуживцы выразили вдове Цунэко глубокое сочувствие.
По заключению профессора Ямаи, директора больницы Тун-жэнь, смерть Хандзабуро последовала от удара. Но сам Хандзабуро, к несчастью, не думал, что это удар. Прежде всего он не думал даже, что умер. Он только изумился тому, что вдруг оказался в какой-то конторе, где никогда раньше не бывал.
Занавески на окнах конторы тихо колыхались от ветра в сиянии солнечного дня. Впрочем, за окном ничего не было видно... За большим столом посредине комнаты сидели друг против друга два китайца в белых халатах и перелистывали гроссбухи. Одному было всего лет двадцать, другой, с длинными пожелтевшими усами, был постарше.
Пока Хандэабуро осматривался, двадцатилетний китаец, бегая пером по страницам гроссбуха, вдруг обратился к нему, не поднимая глаз:
— Are you mister Henry Ballet, ar'nt you?1
Хандзабуро изумился. Однако он постарался по мере возможности спокойно ответить на чистом пекинском наречии.
— Я служащий японской компании «Мицубиси» Осино Хандзабуро, — сказал он.
— Как1 Вы японец? — почти испуганно спросил китаец, подняв наконец глаза. Второй — пожилой китаец, — начав было что-то записывать в гроссбух, остановился и тоже озадаченно посмотрел на Хандзабуро.
— Что же нам делать? Перепутали!
— Вот беда! Вот уж подлинно беда! Да этого со времени революции никогда не случалось.
Пожилой китаец казался рассерженным, перо у него в руке дрожало.
— Ну что ж, живо верни его на место.
— Послушайте... э-э... господин Осино! Подождите немного.
Молодой китаец раскрыл новый толстый гроссбух и стал что-то читать про себя, но сейчас же, захлопнув гроссбух, с еще более испуганным видом обратился к пожилому китайцу:
— Невозможно... Господин Осино Хандзабуро умер три дня назад.
— Три дня назад?
— Да... И ноги у него разложились. Обе ноги разложились, начиная с ляжек.
1 Вы мистер Генри Бэллет, не так ли? (англ.)
484
Хандзабуро снова изумился. Судя по их разговору, во-первых, он умер, во-вторых, со времени его смерти прошло три дня. В-третьих, его ноги разложились. Такой ерунды не может быть! В самом деле, вот его ноги... Но едва он взглянул на ноги, как невольно вскрикнул. И не удивительно: обе его ноги в безупречно отглаженных белых брюках и белых ботинках колыхались от ветра, дувшего из окна. Увидев это, он не поверил своим глазам. Потрогал — действительно, трогать его ноги от бедер и ниже было все равно что хватать руками воздух. Хандзабуро так и сел. В ту же секунду его ноги — вернее, брюки — вяло опустились на пол, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух.
— Ничего, ничего, что-нибудь придумаем! — сказал пожилой китаец и прежним раздраженным тоном обратился к молодому служащему:
— Это ты виноват! Слышишь? Ты виноват! Надо немедленно подать рапорт. Вот что: где сейчас Генри Бэллет?
— Я только что выяснил. Он срочно выехал в Ханькоу.
— В таком случае пошли телеграмму в Ханькоу и добудь ноги Генри Бэллета.
— Нет, это невозможно. Пока из Ханькоу прибудут ноги, у господина Осино разложится все тело.
— Вот беда! Вот уж подлинно беда!
Пожилой китаец вздохнул. Даже усы его как будто свесились еще ниже.
— Это ты виноват! Нужно немедленно подать рапорт. К сожалению, из пассажиров вряд ли кто остался?
— Только час, как отбыли. Вот лошадь одна есть, но...
— Откуда она?
— С конного рынка за воротами Дэшень-мынь. Только что околела.
— Ну так приставим ему лошадиные ноги. Все лучше, чем не иметь никаких. Принеси-ка ноги сюда.
Двадцатилетний китаец встал из-за стола и плавно удалился. Хандзабуро изумился в третий раз. Судя по этому разговору, похоже, что ему собираются приставить лошадиные ноги. Оказаться человеком с лошадиными ногами — какой ужас! Все еще сидя на полу, он умоляюще обратился к пожилому китайцу:
— Прошу вас, избавьте меня от лошадиных ног! Я терпеть не могу лошадей. Пожалуйста, молю вас во имя всего святого, приставьте мне человеческие ноги. Ну, хоть ноги Генри-сана или кого-нибудь еще — все равно. Пусть даже немножко волосатые — я согласен, лишь бы это были человеческие ноги!
Пожилой китаец сочувственно посмотрел на Хандзабуро и закивал.
485
— Если бы только нашлись — приставили бы, но человеческих ног как раз нет, так что... Что ж делать, случилось несчастье, примиритесь с судьбой! Но с лошадиными ногами вам будет хорошо. Только время от времени меняйте подковы, и вы спокойно одолеете любую дорогу, даже в горах.
Тут опять откуда-то плавно появился молодой китаец с парой лошадиных ног в руках. Так мальчик в отеле приносит сапоги. Хандзабуро хотел убежать. Но увы — без ног подняться ему было не так-то просто. Тем временем молодой китаец подошел к нему и снял с него белые ботинки и носки.
— Нет, нет! Только не лошадиные ноги! Да, наконец, кто! имеет право чинить мне ноги без моего согласия?!
Пока Хандзабуро кричал и протестовал, молодой китаец всунул одну лошадиную ногу в отверстие правой штанины. Лошадиная нога точно зубами впилась в правое бедро. Тогда он вставил другую ногу в отверстие левой штанины. Она тоже накрепко вцепилась в бедро.
— Ну вот и хорошо!
Двадцатилетний китаец, удовлетворенно улыбаясь, потер пальцы с длинными ногтями. Хандзабуро растерянно посмотрел на свои ноги. Из-под белых брюк виднелись две толстые гнедые ноги, два рядышком стоящих копыта.
Хандзабуро помнил лишь то, что произошло до этой минуты. По крайней мере, дальнейшее сохранилось у него в памяти уже не с той отчетливостью. Он помнил, что как будто подрался с обоими китайцами. Затем как будто скатился с крутой лестницы. Но все это представлялось ему не вполне ясно. Как бы то ни было, когда он после скитания в мире смутных видений пришел в себя, он лежал в гробу, установленном в казенной квартире на улице N. Мало того, прямо перед гробом молодой миссионер из храма Хонгандви читал заупокойную молитву.
Само собой разумеется, воскресение Хандзабуро стало предметом всевозможных толков. Газета «Дзюнтэн ниппон» поместила большой его портрет и напечатала корреспонденцию в три столбца. Согласно этой корреспонденции Цунэко в своем траурном платье больше, чем обычно, сияла улыбкой; несколько человек из начальства и сослуживцев, отнеся расходы на теперь уже ненужные поминальные приношения за счет компании, устроили банкет в честь воскресшего. Конечно, авторитет профессора Ямаи оказался под ударом. Но профессор, спокойно пуская колечки папиросного дыма, искусно восстановил свой авторитет. Он заявил, что это тайна природы, недоступная медицине. То есть, вместо авторитета лично своего, профессора Ямаи, он поставил под удар авторитет медицины.
486
У одного только виновника событий, самого Хандзабуро, даже на банкете в честь его воскресения не было на лице и признака радости. И не удивительно. Его ноги с момента воскресения превратились в лошадиные. В гнедые лошадиные ноги с копытами вместо пальцев. Каждый раз при виде этих ног он испытывал невыразимое отчаяние. Если кто-нибудь случайно увидит эти его ноги, его в тот же день, несомненно, уволят из компании. Сослуживцы, безусловно, уклонятся от всяких дальнейших сношений с ним. И Цунэко — о, слабость, женщина, имя твое! — и Цунэко последует их примеру; она не захочет иметь мужем человека с лошадиными ногами. Чем больше Хандзабуро думал об этом, тем сильнее укреплялось в нем решение во что бы то ни стало скрыть свои ноги. Он отказался от японской одежды. Стал носить высокие сапоги. Наглухо закрывал окна и дверь ванной. И тем не менее им беспрестанно владела тревога. Разумеется, не напрасно. Почему? А вот почему...
Больше всего Хандзабуро остерегался навлечь на себя подозрение сослуживцев. Может быть, поэтому он, при всех своих страданиях, держался сравнительно непринужденно. Но, судя по его дневнику, ему постоянно приходилось бороться с разного рода опасностями.
«... июля. Право же, молодой китаец приставил мне отвратительные „ноги. Их можно назвать рассадником блох. Сегодня на службе ноги у меня чесались до сумасшествия. Во всяком случае, надо на время отдать все свои силы изгнанию блох...»
«... августа. Сегодня ходил по одному делу к управляющему. Во время разговора управляющий все время потягивал носом. Кажется, запах моих ног пробивается и сквозь сапоги...»
«... сентября. Свободно управлять лошадиными ногами куда труднее, чем ездить верхом. Сегодня перед обеденным перерывом меня послали по срочному делу, и я быстро побежал вниз по лестнице. Всякий в такую минуту стал бы думать только о деле. И я на миг забыл о своих лошадиных ногах. Не успел я ахнуть, как мои ноги соскользнули на семь ступенек...»
«... октября. Понемногу научился управлять своими лошадиными ногами. Если разобраться, все дело в том, чтобы сохранять равновесие бедер. Сегодня потерпел неудачу. Правда, тут не только моя вина. В девять часов утра поехал на рикше на службу. И вот рикша вместо двенадцати сэнов стал требовать двадцать. К тому же он вцепился в меня и не давал войти в дверь. Я очень рассердился и изо всех сил отпихнул его ногой. Рикша взлетел в воздух, как футбольный мяч. Понятно, я раскаивался. И в то же время я невольно фыркнул. Во всяком случае, двигать ногами нужно гораздо осторожнее...»
487
«... июля. Самый злейший мой враг — Цунэко. Под предлогом необходимости жить культурно нашу единственную японскую комнату я в конце концов обставил по-европейски: таким образом, я могу в присутствии Цунэко оставаться в сапогах. Цунэко, кажется, очень недовольна тем, что убрали татами. Но даже в таби такими ногами ходить по японскому полу для меня просто немыслимо».
«... сентября. Сегодня продал двуспальную кровать. Когда-то я купил ее на аукционе у одного американца. Возвращаясь с аукциона, я шел по аллее сеттльмента. Деревья были в полном цвету. Красиво блестела вода в Императорском канале. Но... теперь не время предаваться воспоминаниям. Вчера ночью опять слегка лягнул Цунэко в бок...»
«... ноября. Сегодня сам снес в стирку свое грязное белье: к трусам, кальсонам и носкам всегда прилипают конские волосы».
«... декабря. Носки рвутся отчаянно. А платить за носки без! ведома Цунэко — поистине задача не из легких...»
«... декабря. Даже на ночь не снимаю ни носков, ни кальсон. Кроме того, весьма нелегкое дело прятать от Цунэко ступни. Вчера, ложась спать, Цунэко сказала: «Какой вы зябкий! Что это? Вы даже поясницу кутаете в меха?» Кто знает — не близок ли час, когда мои лошадиные ноги будут обнаружены?..»
Помимо этих, Хандзабуро подстерегали еще и другие опасности. Перечислять их все слишком утомительно. Но больше всего меня поразила в его дневнике следующая запись:
«... декабря. Сегодня во время обеденного перерыва пошел к букинисту у храма Луньфусы. Перед входом в лавку стоял экипаж, запряженный лошадью. Впрочем, это был не европейский экипаж, а китайская пролетка с поднятым темно-синим верхом. На коалах дремал кучер. Я не обратил на все это особого внимания и хотел было войти в лавку. И в эту самую минуту кучер, щелкнув кнутом, крикнул: «Цо! Цо!» «Цо» — это слово, которое китайцы употребляют, когда хотят осадить лошадь. Не успел кучер договорить, как лошадь попятилась. И вот в этот миг — не ужасно ли? — я тоже, стоя все еще лицом к лавке, стал шаг за шагом отступать по тротуару. Что я испытывал в эту минуту— какой страх, какое изумление, — этого пером не описать! Напрасно силился я сделать хоть шаг вперед — под властью страшной, непреодолимой силы я продолжал отступать. Между тем мне еще повезло, что кучер сказал «цо». Едва экипаж остановился, я тоже перестал пятиться. Но странности на этом не кончились. Облегченно вздохнув, я невольно оглянулся на эки-
488
паж. И вот лошадь —серая кобыла, запряженная в экипаж, — как-то непонятно заржала. Непонятно? Нет, не так уж непонятно! В этом пронзительном ржанье я отчетливо различил хохот. И не только у лошади — у меня самого к горлу подступило что-то похожее на ржанье. Издать этот звук было бы ужасно. Я обеими руками зажал уши и со всех ног пустился бежать...»
Однажды днем в конце марта он вдруг заметил, что его ноги совершенно непроизвольно скачут и прыгают. Но судьба приготовила Хандзабуро последний удар. Отчего же его лошадиные ноги вдруг взволновались? Чтобы ответить на этот вопрос, следовало бы заглянуть в дневник Хандзабуро. Но, к сожалению, его дневник кончается как раз за день до того, как его постигла новая беда. Только на основании предшествующих и последующих обстоятельств можно высказать некоторые общие предположения. Прочитав «Записи о лошадях», «Собрание сведений о быках, лошадях и верблюдах годов Гэнкё» и другие труды, я пришел к убеждению, что его ноги так сильно взволновались по следующей причине.
Это был сезон желтой пыли. «Желтая пыль» — это мелкий песок, приносимый весенним ветром в Пекин из Монголии. Судя по статьям в газете «Дзюнтэн ниппон», в тот год желтая пыль достигла небывалой за десятки лет густоты. «В пяти шагах от ворот Дэшэнь-мынь не видно башни на воротах», — говорилось тогда, и по одному этому видно, что пыль действительно была страшная. Между тем лошадиные ноги Хандзабуро принадлежали павшей лошади с конного рынка за воротами Дэшэнь-мынь, а эта павшая лошадь, без сомнения, была кунлуньским скакуном из Монголии, привезенным через Калган и Цзиньчжоу. И разве не естественно, что, почуяв монгольский воздух, лошадиные ноги Хандзабуро вдруг запрыгали и заскакали? Кроме того, это было время случки, когда те лошади, которые не заперты в конюшне, носятся на воле, как бешеные... Учитывая все это, приходится признать одно: то обстоятельство, что его лошадиные ноги не могли оставаться в покое, заслуживает всяческого сочувствия.
Верно это объяснение или нет — только, как говорят, Хандзабуро в те дни даже на службе все время прыгал, точно пританцовывая. Говорят, что на пути домой он на протяжении трех кварталов опрокинул семерых рикш. Наконец, уже вернувшись домой, он, по словам Цунэко, вошел в комнату, пошатываясь и задыхаясь, как собака в жару, и, повалившись на стул, сразу же приказал ошеломленной жене принести веревки. По его виду Цунэко сразу сообразила, что случилось нечто ужасное. Он был
489
чрезвычайно бледен. Кроме того, он все время взволнованно и словно не в силах сдержать себя, переступал ногами в высоких сапогах. Цунэко, позабыв из-за этого даже о своем обыкновении улыбаться, спросила, зачем ему веревки. Но муж, страдальчески вытирая со лба пот, только повторял:
— Скорей, скорей!.. Иначе — ужас!..
Цунэко волей-неволей дала мужу связку веревок, предназначенных для упаковки корзин. Он стал обвязывать этими веревками свои ноги в сапогах. Мысль, что ее муж сошел с ума, мелькнула у нее именно в эту минуту. Не сводя с него глав, Цунэко дрожащим голосом предложила пригласить профессора Ямаи. Но Хандзабуро старательно обматывал ноги веревками и не поддавался на ее уговоры.
— Что этот шарлатан понимает? Это разбойник! Мошенник! Лучше придержи меня.
Обнявшись, они тихо сидели на диване. Желтая пыль, заволакивавшая весь Пекин, сгущалась все больше. Даже заходящее солнце за окном казалось мутным, лишенным блеска красным шаром. И ноги Хандзабуро, разумеется, не могли оставаться в покое. Опутанные веревками, они беспрестанно двигались, точно нажимая на какие-то невидимые педали. Цунэко, жалея его и стараясь ободрить, говорила то об одном, то о другом.
— Почему... почему вы так дрожите?
— Ничего! Ничего!
— Но вы весь мокрый! Этим летом мы поедем в Японию. Мы так давно не были дома!
— Непременно поедем! Поедем и останемся там.
Пять минут, десять минут, двадцать минут... время тихими шагами проходило над ними. Цунэко говорила корреспонденту «Дзюнтэи ниппон», что в эти минуты она чувствовала себя узницей, закованной в цепи. Но полчаса спустя наступил наконец миг, когда цепи разорвались. Правда, разорвалось не то, что Цунэко назвала своими цепями. Разорвались человеческие узы, привязывавшие Хандзабуро к дому. Окно, сквозь которое струился мутный красный свет, вдруг с шумом распахнулось от порыва ветра. И в тот же миг Хандзабуро что-то громко крикнул и подскочил на три сяку вверх. Цунэко увидела, как веревка лопнула, точно разрезанная. А Хандзабуро... но это уже не рассказ Цунэко. Увидев, как муж подскочил, она тут же упала на диван и лишилась чувств. Но китаец-бой из казенной квартиры так рассказывал тому же корреспонденту: словно спасаясь от преследования, Хандзабуро выскочил из вестибюля, мгновение он стоял у входа, затем задрожал всем телом и, издав жуткий вопль, на-
490
поминавший ржание, ринулся прямо в застилавшую улицы желтую пыль...
Что стало с Хандзабуро потом? Это до сих пор остается тайной. Впрочем, корреспондент «Дзюнтэн ниппон» сообщает, что в тот день, около восьми часов вечера, при тусклом свете луны, затуманенной желтой пылью, по полотну знаменитой железнодорожной линии Падалинь, откуда смотрят на Великую стену, бежал какой-то человек без шляпы. Но эта корреспонденция не вполне достоверна. В самом деле, другой корреспондент той же газеты сообщает, что в тот самый день, тоже около восьми часов вечера, под дождем, прибившим желтую пыль, какой-то человек без шляпы бежал по дороге Шисаньлин, вдоль которой стоят каменные изображения людей и лошадей. Таким образом, куда скрылся Хандзабуро, выбежав из вестибюля дома компании на улице N., сказать с уверенностью невозможно.
Разумеется, бегство Хандзабуро, так же как и его воскресение, стало предметом всевозможных толков. Но Цунэко всем — и управляющему, и сослуживцам, и профессору Ямаи, и редактору «Дзюнтэн ниппон» — объясняла его бегство сумасшествием. В самом деле, несомненно, легче было объяснить это сумасшествием, чем лошадиными ногами. Избегать трудного и прибегать к легкому — таков обычный путь на свете. Представитель этого пути, редактор «Дзюнтэн ниппон», господин Мудагути, на другой день после бегства Хандзабуро поместил в газете нижеследующую статью, произведение своего блестящего пера:
«Господин Осино Хандзабуро, служащий компании «Мицу-биси», вчера вечером, в пять часов пятнадцать минут, по-видимому, внезапно потерял рассудок и, не слушая увещаний своей супруги Цунэко, бежал неведомо куда. Согласно мнению директора больницы Туньжэнь профессора Ямаи, господин Осино прошлым летом перенес апоплексический удар, трое суток пролежал без сознания и с тех пор стал обнаруживать известные странности. Судя по дневнику господина Осино, найденному госпожой Цунэко, господин Осино страдал странной навязчивой идеей. Однако нам хотелось бы спросить, как назвать болезнь господина Осино? Где чувство ответственности мужа госпожи Цунэко, господина Осино? Мощь нашей империи, ни разу не запятнанной вторжением внешнего врага, покоится на принципе семьи. Коль скоро она покоится на принципе семьи, излишне спрашивать, как велика ответственность тех, кто является главой семьи. Вправе ли такой глава семьи самочинно сходить с ума! На такой вопрос мы решительно отвечаем: нет! Допустим, что мужья получат право сходить с ума. Тогда они, всецело забросив семью, обретут счастье либо ходить и распевать по большим до-
491
рогам, либо скитаться по горам и лесам, либо получать кров и пищу в лечебнице для душевнобольных. Но в таком случае двух-тысячелетний принцип семьи, которым мы гордимся перед всем светом, неминуемо рассыплется в прах. Мудрец изрек: надлежит ненавидеть преступление, но не следует ненавидеть преступника. Мы не хотим быть жестокими по отношению к господину Осино. Но мы должны бить тревогу и судить преступление, состоящее в том, что человек позволяет себе сходить с ума, И не только преступление господина Осино. Мы, если этого не делает само небо, должны осудить недосмотр всех прежних кабинетов, которые не сочли нужным издать запрещение сходить с ума!
Из разговора с госпожой Цунэко нам известно, что она по меньшей мере на год останется на казенной квартире на улице N. и будет ждать возвращения господина Осино. Мы выражаем свое глубокое сочувствие верной супруге и вместе с тем надежду, что просвещенная компания «Мицубиси» не преминет позаботить-ся о госпоже Цунэко».
Но через полгода Цунэко вновь пережила нечто такое, что не позволило ей оставаться в прежнем заблуждении. Это произошло октябрьским вечером в сумерки, когда с пекинских ив осыпались желтые листья. Цунэко сидела на диване у себя дома, погруженная в воспоминания. На ее губах больше не трепетала привычная улыбка. Ее щеки потеряли былую округлость. Она думала то о своем сбежавшем муже, то о проданной двуспальной кровати, то о клопах. И вот у входа кто-то неуверенно позвонил. Цунэко не обратила на это внимания, предоставив открыть дверь бою. Но бой, видимо, куда-то ушел, и никто дверь не открывал. Тем временем эвонок прозвучал еще раз. Цунэко наконец поднялась с дивана и медленно подошла к двери.
За дверью на пороге, усыпанном опавшей листвой, в слабом свете сумерек стоял человек без шляпы. Без шляпы... не только без шляпы! Он был совершенно оборван и весь в пыли. Цунэко почувствовала перед ним почти страх: В
— Что вам нужно?
Человек не ответил. Его давно не стриженная голова была низко опущена. Вглядываясь в него, Цунэко боязливо повторила:
— Что... что вам нужно? Наконец человек поднял голову.
— Цунэко...
Одно слово. Но слово, которое, точно свет луны, озарило его, озарило истинный облик этого человека. Затаив дыхание» словно лишившись голоса, Цунэко не сводила глаз с его лица. У него
492
отросла борода, и он исхудал до неузнаваемости. Но глаза, смотревшие на нее, это, несомненно, были те самые долгожданные глаза.
— Вы?!
С этим криком Цунэко хотела было прильнуть к груди мужа. Но, едва сделав шаг вперед, отскочила, словно ступив на раскаленное железо. Из-под разорванных в клочья штанов мужа виднелись мохнатые лошадиные ноги — даже в сумерки ясно различимые по масти гнедые лошадиные ноги.
— Вы?!
Цунэко почувствовала к этим лошадиным ногам неописуемое отвращение. Но она почувствовала и то, что этот раз — последний, что больше она не встретится с мужем никогда. Муж печально смотрел ей в лицо. Цунэко еще раз хотела прижаться к его груди. Но отвращение опять подорвало ее решимость.
— Вы?!
Когда она вскрикнула так в третий раз, муж круто повернулся и стал медленно спускаться с лестницы. Цунэко собрала все свое мужество и в отчаянии хотела побежать за ним. Но не успела она ступить и шагу, как до ее ушей донесся стук копыт. Бледная, не в силах остановить мужа, Цунэко, не двигаясь, смотрела ему вслед. И потом... упала без чувств на порог, усыпанный опавшей листвой.
Со времени этого происшествия Цунэко начала верить дневнику мужа. Но сослуживцы, профессор Ямаи, редактор Мудагу-ти и прочие все еще не верят, что у господина Хандзабуро оказались лошадиные ноги. Больше того, даже то, что Цунэко видела эти ноги, они тоже считают галлюцинацией. Во время моего пребывания в Пекине я встречался с профессором Ямаи и с редактором Мудагути и несколько раз старался рассеять их заблуждение. Но каждый раз только сам подвергался насмешкам. Впоследствии, — нет, совсем недавно, — писатель Окада Сандзабуро, видимо, услыхав от кого-то об этой истории, написал мне, что, право же, немыслимо поверить, чтобы у человека могли появиться лошадиные ноги. Как писал господин Окада, если только допустить, что это правда, «ему, по всей вероятности, были приставлены передние ноги лошади. И если это был рысак, способный на высший класс езды, как, например, испанский аллюр, то он, пожалуй, мог проделывать и такие кунштюки, как лягаться передними ногами. Но могла ли лошадь научиться этому сама, без такого наездника, как лейтенант Юаса, — в этом я сильно сомневаюсь!» Понятно, и я не могу не питать на этот счет некоторых сомнений. Но разве отрицать на одном этом основании дневник Хандзабуро и рассказ Цунэко — не легкомыслие? В еа-
493
мом деле, как я установил, в газете «Дзюнтэн ниппон», сообщавшей о его воскресении, на той же самой странице, несколькими столбцами ниже, помещена следующая заметка:
«Председатель общества трезвости Мэй-хуа господин Генри Бэллет скоропостижно скончался в поезде на Ханькоу. Поскольку он умер со склянкой в руках, возникло подозрение о самоубийстве, но результаты анализа жидкости показали, что в склянке находился спиртной напиток».
Январь 1925 г.
1
...Дождь все еще шел. Покончив с обедом, мы, испепеляя папиросу за папиросой, перебрасывались новостями о токийских приятелях.
Мы сидели в двухкомнатном номере в самой глубине гостиницы, тростниковая штора от солнца свешивалась в голый сад. Я говорю, что сад был голый, но все же редкие кустики высокой травы, которой так много на побережье, склонили к песку свои метелочки. Когда мы приехали, этих метелочек не было еще и в помине. А если и появилось несколько, то они были ярко-зелеными. Теперь же все они в какой-то момент стали одинаково коричневыми, и на кончике каждой приютилась капля влаги.
— Ну что, поработаем, пожалуй?
М., продолжая лежать, растянувшись во весь рост, стал протирать очки рукавом сильно накрахмаленного домашнего кимоно. Работой, которую он упомянул, называлось то, что мы должны были ежемесячно писать для нашего журнала.
После того как М. ушел в соседнюю комнату, я, подложив под голову дзабутон, стал читать «Историю восьми псов». Вчера я остановился на том месте, где Сино, Гэнхати и Кобунго отправляются на выручку Соскэ. «Тогда Амадзаки Тэрубуми вынул из-за пазухи приготовленные пять мешочков золотого песка. Положив три мешочка на веер, он сказал: «Три пса-самурая, в каждом мешочке денег на тридцать рё. Их, конечно, очень мало, но сейчас в пути они вам пригодятся. Это не мой прощальный подарок, это вам дар от Сатомидово, не откажитесь принять его». Читая это, я вспомнил о присланном позавчера гонораре — сорок сэнов за страницу. Мы только что в июле окончили английское отделение университета. И нас мучил вопрос, где изыскать
494
средства к существованию. Постепенно я забыл об «Истории восьми псов» и вспомнил, что стану преподавателем. Тут я как будто заснул на миг и увидел сон.
Это случилось, по всей вероятности, за полночь. Во всяком случае, я лежал один в гостиной с закрытыми ставнями. Вдруг кто-то постучал и позвал меня: «Послушайте». Я знал, что за прикрытым ставнями окном находится пруд. И я не мог представить, кто меня зовет.
— Послушайте, я бы хотел попросить вас...
Это произнес голос за ставней. Услышав эти слова, я подумал: «Ну да, конечно же, этот тип К.». К. был никудышным парнем с философского отделения, на курс ниже нас. Продолжая лежать, я ответил довольно громко:
— Брось ныть. Ты что, опять за деньгами?
— Нет, не за деньгами. Просто есть женщина, с которой я хочу свести моего товарища...
Голос совсем не был похож на голос К. Больше того, он принадлежал, видимо, человеку, который беспокоился обо мне. В волнении я быстро вскочил, чтобы открыть ставни. Действительно, в саду, от самой веранды, раскинулся большой пруд. Но там не было никакого К., да и вообще не было ни живой души.
Некоторое время я смотрел на пруд, в котором отражалась луна. Я видел, как в воде колышутся, точно плывут, водоросли, и мне показалось, что начинается прилив. И тут я заметил, что прямо передо мной поднимается рябь. Рябь докатилась до моих ног и вдруг превратилась в карася. Карась спокойно шевелил хвостом в прозрачной воде.
«А-а, это карась разговаривал».
Подумав так, я успокоился.
Когда я проснулся, тростниковая штора у карниза пропускала лишь слабые лучи солнца. Я взял кружку, спустился в сад и пошел к колодцу за домом, чтобы помыться. Но и после того, как я помылся, воспоминания о только что увиденном сне, как ни странно, не покидали меня. «В общем, этот карась из сна — мое подсознательное «я», — так, во веяком случае, мне показалось.
2
...Прошел всего лишь час, и мы, повязав лбы полотенцами, в купальных шапочках и тэта, взятых напрокат, пошли к морю, находившемуся в полутё. Дорожка спускалась через весь сад и выходила к пляжу.
495
— Ну как, купаться можно?
— Сегодня, пожалуй, холодновато.
Так, разговаривая, мы шли, раздвигая густую высокую траву. (Когда мы вошли в эти заросли травы, на которой застыли капли влаги, икры начали зудеть, и мы замолчали.) Действительно, было слишком свежо, чтобы лезть в воду. Но нам так жаль было расставаться с морем в Кадзуса, вернее, с уходящим летом.
Когда мы приходили к морю, обычно даже еще накануне, семь-восемь юношей и девушек пытались «кататься» на волнах. А сегодня ни души, убраны и красные флажки, ограждающие пляж. Лишь волны обрушивались на бескрайний берег. Даже в раздевалке, отгороженной тростниковыми щитами, даже там одна лишь рыжая собака гонялась за роем мошкары. Но и она, увидев нас, тут же убежала. Я снял только тэта — купаться не было ни малейшего желания. Но М. уже успел сложить в раздевалке купальный халат и очки и, повязавшись полотенцем поверх купальной шапочки, стал осторожно входить в воду.
— Ты что, собираешься купаться?
— А чего ради мы пришли?
М. вошел в воду по пояс, несколько раз окунулся и повернул ко мне улыбающееся загорелое лицо.
— Давай и ты лезь.
— Не хочется.
— Ну да, была бы здесь «хохотушка», полез бы, наверно.
— Ну что ты глупости болтаешь.
«Хохотушкой» мы прозвали пятнадцати-шестнадцатилетнюю школьницу, с которой обменивались здесь приветствиями. Девушка не отличалась особой красотой, но была свежей, точно молодое деревце. Однажды после полудня дней десять назад мы вылезли из воды и лежали на горячем песке. Она быстро шла в нашу сторону, мокрая, с доской в руках. Неожиданно увидев, что мы лежим у нее под ногами, она, сверкнув зубами, рассмеялась. Когда она прошла, М. повернулся ко мне с улыбкой: «А она заразительно хохочет». С тех пор мы и прозвали ее «хохотушка».
— Значит, не полезешь?
— Ни за что не полезу.
— У, эгоист!
М., то и дело окунаясь, заходил все дальше в море. Не обращая на него внимания, я начал взбираться на небольшую дюну чуть в сторону от раздевалки. Потом, подложив под себя взятые напрокат гэта, решил закурить. Но сильные порывы ветра никак не давали донести зажженную спичку до папиросы.
496
— Эй!
Я не заметил, что М. успел вернуться и, стоя у самого берега, что-то кричит мне. Но из-за беспрерывного шума волн я не разобрал, что он кричит.
— Ну, что такое?
Не успел я это сказать, как М. уже в накинутом на плечи купальном халате опустился рядом со мной.
— Подумай только, медуза обожгла.
Несколько дней назад в море неожиданно стало как будто больше медуз. В самом деле, третьего дня утром у меня по левому плечу и предплечью протянулся след, как от иглы.
— Что обожгла? Н
— Шею. Обожгла-таки. Обернулся, а там плавает несколько штук.
— Потому-то я и не полез в воду.
— Ври больше... Но купанье, в общем, кончилось. Побережье, насколько хватал глаз, кроме тех мест, где на
берег были выброшены водоросли, искрилось в лучах солнца. Лишь изредка по нему пробегала тень облака. С папиросами в зубах мы молча наблюдали за волнами, накатывающимися на песок.— Ну как, решился ты занять должность преподавателя?
— Пока нет. А ты?
— Я? Я... — М. хотел что-то сказать, но в это время нас вспугнул неожиданный смех и топот ног. Это были две девушки-ровесницы в купальных костюмах и шапочках. Они бежали прямо к берегу, нарочно проскочив совсем рядом с нами. Провожая глазами их спины, их гибкие спины, одну в ярко-красном, другую в полосатом, точно шкура тигра, черно-желтом купальнике, мы, будто сговорившись, улыбнулись.
— Смотри, эти девушки тоже еще не вернулись в город. В шутливом тоне М. крылось некоторое волнение.
— Может, еще разочек влезешь в воду?
— Если бы она была одна, стоило бы лезть. А то с ней Зингез...
Как и «хохотушке», этой, в черно-желтом купальнике, мы тоже дали прозвище — «Зингез». «Зингез» означало чувственное (sinnlich) лицо (Gesicht). Мы оба не питали к ней никакой симпатии. К другой девушке тоже... Впрочем, к другой девушке М. проявлял некоторый интерес. Больше того, он даже настаивал, чтобы ему были созданы условия: «Ты давай с Зингез. А я с той».
— Хорошо, что ты это понимаешь!
— Нет, ужасно обидно.
Девушки, взявшись за руки, уже выходили на мелкое место.
497
Брызги волн беспрерывно липли к их ногам. Точно боясь намокнуть, девушки каждый раз подпрыгивали. Их игра казалась такой веселой, что диссонировала с опустевшим, окутанным последним теплом взморьем. В своей прелести они скорее походили не на людей, а на мотыльков. Слушая их смех, доносимый ветром, мы некоторое время смотрели на удалявшиеся от берега фигурки.
— Удивительно смелые, а?
— Еще идут.
— Уже... Нет, еще идут.
Они уже давно не держались за руки и шли в море каждая в отдельности.
Одна из девушек — та, что в ярко-красном купальнике, — двигалась особенно решительно. Не успели мы оглянуться, как она зашла в воду по грудь и стала что-то пронзительно кричать, подзывая подругу. Даже издали было видно ее смеющееся лицо, прикрытое до бровей купальной шапочкой.
— Кажется, медуза?
— Может, и медуза.
Но они заходили все дальше и дальше в море и наконец поплыли.
Вскоре стали видны лишь купальные шапочки. Только тогда наконец мы поднялись с песка. И, почти не переговариваясь (мы изрядно проголодались), не спеша пошли домой.
3
...Вечер был по-осеннему прохладный. Покончив с ужином, мы вдвоем, прихватив нашего приятеля X., приехавшего погостить домой, в этот городок, и с N. — молодым хозяином гостиницы, снова пошли к морю. Пошли мы вчетвером не для того, чтобы погулять вместе. Каждый направлялся по своим делам: X. — навестить дядю в деревне S., N. — заказать у плетельщика из той же деревни корзины для кур.
Дорога в деревню S., которая шла по побережью, огибала высокую дюну и сворачивала в противоположную от пляжа сторону. Море спряталось за дюной, и шум волн едва доносился. Но росшие повсюду кустики травы, выбросив черные метелочки, не умолкая шелестели на ветру, дувшем с моря.
— В этом краю, кажется, растет морской рис... N.-сан, как 8десь называют эту траву?
Я сорвал травинку и протянул ее N., одетому в короткое летнее кимоно.
498
— Нет, по-моему не спорыш... Как же она называется? Х.-сан, наверно, знает. Он местный, не то что я.
Мы тоже слышали, что N. приехал сюда из Токио зятем. Кроме того, мы еще слышали, что его жена-наследница как будто летом прошлого года, родив мальчика, ушла из дому.
— И в рыбе Х.-сан смыслит куда лучше, чем я.
— Вот как, Х.-сан такой ученый? А я думал, он знает толк только в фехтовании.
X., хотя N. так говорил о нем, лишь весело улыбался, продолжая тащить палку для лука.
— М.-сан, вы тоже, наверно, чем-нибудь занимаетесь.
— Я? Я, это... я только плаваю.
Закурив, N. стал рассказывать о биржевом маклере из Токио, которого в прошлом году во время купанья укусила маленькая рыбешка. Этот маклер, что бы ему кто ни говорил, упорно доказывал, что нет, его укусила не эта рыбешка, а совершенно точно — морская змея.
— А морские змеи в самом деле существуют?
На этот вопрос ответил лишь один человек — высокого роста, в панаме. Это был X.
— Морские змеи? Морские змеи и правда водятся в нашем море.
— И в это время тоже попадаются?
— Ну, еще бы, хотя редко.
Мы, все четверо, рассмеялись. Тут нам повстречались двое ловцов нагарами (нагарами — один из видов моллюсков), тащивших корзины для рыбы. Оба они были крепкого сложения, в красных фундоси. Тела их блестели от воды, но вид был грустный, скорее даже жалкий. Поравнявшись с ними, N. коротко ответил на их приветствие и сказал: .;
— В баньку бы сейчас.
— Занятию их не позавидуешь.
Мне показалось, что я ни за что не смог бы стать ловцом нагарами.
— Да, никак не позавидуешь. Ведь им приходится далеко заплывать, а сколько раз нырять на дно...
— А если к фарватеру унесет, ни за что не спастись. Размахивая палкой, X. рассказывал о разных фарватерах.
Большой фарватер начинается в полутора ри от берега и тянется в открытое море... Об этом мы тоже поговорили.
— Постойте, Х.-сан, когда же это было? Помните, прошел слух, будто появился призрак ловца нагарами.
499
— Осенью прошлого... нет, позапрошлого года.
— На самом деле появился? X. рассмеялся.
— Да нет, никакой призрак не появлялся. Просто неподалеку от моря, у горы, есть кладбище, а тут еще всплыл скрюченный, как креветка, утопленник — ловец нагарами, вот и пошли слухи, и хотя вначале никто всерьез их не принимал, но тем не менее остался неприятный осадок — это уж я точно знаю. Вдобавок однажды вечером на кладбище выследили человека в унтер-офицерской форме и решили, что это и есть призрак. Хотели было его поймать, но не удалось. Там оказалась только девушка из веселого дома, которая была обручена с погибшим ловцом нагарами. Рассказывали, что временами слышится голос, который зовет кого-то, и мелькают огоньки, — ну и началась паника.
— И что же, эта девушка ходила туда нарочно, чтобы пугать людей?
— Да, ежедневно примерно в двенадцать часов ночи она приходила к могиле ловца нагарами и скорбно стояла там.
X. старался рассказывать с юмором, но никто не смеялся. Больше того, все без видимой причины притихли и молча продолжали свой путь.
— Хватит, пора возвращаться.
Когда М. сказал это, мы шли по безлюдному берегу, ветер утих. Было еще достаточно светло, чтобы на бескрайнем прибрежном песке можно было увидеть следы ржанок. Но море, пенясь каждый раз, когда волны, накатываясь на берег, прочерчивали полукружья, становилось все темнее и темнее.
— Ну что ж, прощайте.
— До свидания.
Расставшись с X. и N., мы не торопясь возвратились с побережья, где стало прохладно. На побережье, мешаясь с шумом волн, ударявшихся о берег, до нас временами доносились чистые голоса цикад. Это были цикады, стрекотавшие в сосновом лесу по меньшей мере в трех те отсюда.
— Послушай, МЛ
Я отстал и шел в пятп-шести шагах позади М.
— Что такое?
— Может, и нам податься в Токио?
— Да, неплохо бы.
И М. стал весело насвистывать «Типеррэри».
7 августа 1925 г.
500
Кроме Сунь Ят-сена, родившегося в Кантоне, видные китайские революционеры — Хуан Син, Цай Э, Сун Цзяо-жэнь и другие — все были родом из Хунани. Конечно, их революционность объясняется еще влиянием Цзэн Го-фаня и Чжан Чжи-дуиа. Однако, чтобы хорошо уяснить себе это влияние, нужно также иметь в виду и непоколебимую силу духа самого народа Хунани. Во время поездки в Хунань мне довелось стать свидетелем одного небольшого эпизода, словно взятого из какого-нибудь романа. Этот эпизод может стать свидетельством горячего характера хунаньцев.
* * *
Шестнадцатого мая 1921 года около четырех часов дня пароход «Юаньцзян», на котором я совершал путешествие, пришвартовался к причалу порта Чанша.
За несколько минут до этого я стоял на палубе, опершись о перила, и смотрел, как с левого борта приближается столица Хунани. Чанша, который громоздил белые стены и черепичные крыши домов перед высокими горами, поднимающимися к пасмурному небу, выглядел даже более унылым, чем я предполагал. Особенно участок у пристани, где, почти касаясь друг друга, стояли новые кирпичные дома европейского типа и зеленели ивы: он почти не отличался от Иида-гаси в Токио. Во время путешествия по Янцзы я уже успел разочароваться в городах Китая и был готов к тому, что в Чанша, конечно, тоже, кроме свиней, смотреть будет не на что. И все же убогость города повергла меня в состояние, близкое к отчаянью.
«Юаньцзян», словно влекомый судьбой, подходил все ближе к пристани. И одновременно все уже и уже становилась голубая полоса воды, отделявшая его от берега. В этот момент какой-то чумазый китаец с чем-то вроде корзин, болтавшихся на коромысле, вдруг одним махом перепрыгнул на причал. Он проделал это поистине с ловкостью кузнечика. Не успел я опомниться, как еще один китаец с коромыслом великолепным прыжком перемахнул через воду. Вслед за ним — еще двое, пятеро, восемь человек, — и вот в один миг все внизу оказалось заполнено множеством китайцев, которые один за другим быстро прыгали на причал. А пришвартовавшийся тем временем пароход уже величественно возвышался перед красными кирпичными домами и зелеными ивами.
Наконец я отошел от перил и принялся высматривать господина Б. из той же фирмы, что и я. В., который вот уже шесть
501
лет жил в Чанша, должен был прийти встречать «Юаньцзян». Однако его нигде не было. По трапу вверх и вниз сновали только китайцы самых различных возрастов. Они толкались, громко переговариваясь. Среди них выделялся пожилой, почтенного вида господин, который, спускаясь по трапу, время от времени оборачивался, чтобы ударить шедшего позади него носильщика. Для меня после путешествия по Янцзы в этой сцене не было уже ничего необычного. (Кстати, не могу сказать, чтобы за это я испытывал особую благодарность к Янцзы.)
Я почувствовал, как во мне поднимается раздражение. Подошел к перилам и снова стал всматриваться в море людских голов на пристани. Там не было не только Б., которого я ждал, но вообще ни одного японца. Однако за пристанью — за пристанью, в тени плотно сомкнувшихся ветвей ивы, я увидел красавицу китаянку. В летнем наряде цвета морской воды, с чем-то вроде медальона на груди она выглядела совсем ребенком. Может быть, еще и поэтому она привлекла мое внимание. Улыбаясь ярко накрашенными губами, она смотрела на высокую палубу парохода. В руке у нее был полураскрытый веер, которым она прикрывала глаза от солнца, и казалось, будто она подает кому-то знаки.
— Эй, послушай!
Я удивленно обернулся. Позади меня стоял китаец в серой накидке. Он приветливо улыбался. Кто это, я сразу не мог сообразить. Но, присмотревшись к его лицу и особенно к жидким бровям, я вдруг узнал в нем своего старого товарища.
— Ба, ты ли это? Ну конечно, ведь ты же родом из Хунани...
— Да, я здесь обосновался.
Тань Юн-нянь в одно время со мной окончил колледж и поступил на медицинский факультет университета. Он был одним из самых способных студентов-иностранцев.
— Встречаешь кого-нибудь?
— Да, встречаю... и кого бы ты думал? I — Да уж наверное не меня...
Тань Юн-нянь растянул губы в почти шутовской улыбке.
— Кстати, как раз тебя-то я и пришел встретить! У Б. вот уже несколько дней приступы малярии.
— Так это он тебя попросил?
— Я и без его просьбы собирался.
Я вспомнил, что Тань Юн-нянь и в те давние времена был всегда приветлив. Он жил с нами вместе в общежитии и за все время ни разу никого не обидел, ни у кого не вызвал неприязни. Если бы кто-нибудь и стал на него обижаться, то, по словам
502
жившего с ним в одной комнате Кикути Кана, едва ли мог бы толком объяснить причину своей обиды.
— Ну, извини, что доставил тебе столько хлопот. Собственно, я просил Б. только устроить меня на ночлег.
— Насчет ночлега есть договоренность с японским клубом. Там ты можешь остановиться хоть на полмесяца, хоть на месяц.
— На месяц? Ты шутишь! Мне достаточно и трех дней. Нельзя сказать, чтобы Тань Юн-нянь удивился: просто е
его лица исчезла приветливая улыбка.— Так ты пробудешь здесь всего три дня?
— Да, знаешь ли, мне бы только взглянуть на что-нибудь такое... ну, хотя бы на то, как отрубают головы местным разбойникам...
Отвечая так, я в глубине души опасался, что Тань Юн-нянь, сам уроженец Чанша, обидится. Однако он, снова приветливо улыбнувшись, как ни в чем не бывало ответил:
— Тогда нужно было приехать неделей раньше. Видишь вон ту небольшую площадку...
Эта площадка находилась перед красными кирпичными домами, как раз возле ив с плотно сомкнутыми ветвями. Только сейчас красавицы китаянки под ними уже не было.
— Там на днях отрубили головы сразу пятерым. Гляди, как раз на том месте, где сейчас бежит собака...
— Вот досада...
— Да, такого в Японии не увидишь.
* * *
Два дня спустя, 18 мая, я по настоятельному совету Тань Юн-няня отправился осматривать храм Лушаньсы и павильон Айваньтин, расположенные в Юэлу за рекой Сянцзян...
Было около двух часов дня. Наша моторка быстро скользила по реке, оставляя слева Саньцюэчжоу, который японцы, живущие здесь, называют «Наканосима» («Средний остров»). Безоблачное майское небо окрашивало пейзаж обоих берегов в яркие тона. И даже раскинувшийся на правом берегу Чанша, который сверкал белизной стен и красной черепицей крыш, уже не казался таким унылым, как вчера. Ну, а Саньцюэчжоу с его зарослями цитрусовых и длинными каменными оградами, из-за которых там и сям выглядывали уютные европейские дома и пестрела развешенная на веревках одежда, выглядел поистине живописно.
Тань Юн-нянь устроился на носу лодки под тем предлогом, что ему нужно давать указания неопытному рулевому. Но он не
503
столько командовал рулевым, сколько без умолку болтал со мной, давая разного рода пояснения:
— Вон японское консульство... Взгляни-ка в этот бинокль. А справа от него — Японо-китайская пароходная компания.
Я сидел с сигарой в зубах, опустив руку за борт. Время от времени вода касалась моих пальцев, и я с удовольствием ощущал напор ее упругих струй. Слова Тань Юн-няня казались мне не более чем набором отдельных звуков. Но любоваться видами, на которые он указывал, конечно, не было для меня неприятным.
— Саньцюэчжоу можно было бы назвать «Цзюй-чжоу» — «Цитрусовая отмель», правда?
— Коршун кричит...
— Коршун?.. Да, коршунов здесь много. Когда воевали между собой Чжан Цзи-яо и Тань Янь-кай, по реке плыло множество убитых солдат Чжан Цзи-яо. И на каждом сидело по два, а то и по три коршуна...
Как раз в это время навстречу нам метрах в десяти прошла моторная лодка. В ней сидели молодой китаец в национальном костюме и несколько китаянок в роскошных нарядах. Мое внимание в этот момент привлекали не столько эти китайские красавицы, сколько то, как наша лодка разрезала волны, поднятые прошедшей моторкой. Однако Тань Юн-нянь, едва завидев их, вдруг умолк, словно встретил кровного врага, и поспешно передал мне свой театральный бинокль.
— Посмотри на ту женщину! Ту, что сидит на носу лодки!
Я был от рождения упрямым и не выносил излишней настойчивости. К тому же волна, поднятая встречной моторкой, ударилась о борт нашей лодки и намочила мне руку по самый манжет.
— Зачем?
— Ну, не все ли равно зачем? Посмотри же!
— Красивая?
— Ну, красивая, красивая...
Наша лодка отошла от той уже метров на двадцать. Я повернулся всем телом и навел бинокль. В тот же миг мне показалось, будто та лодка пошла кормой на нас. Это было так неожиданно, что заставило меня вздрогнуть и отшатнуться. В поле зрения бинокля была видна «та женщина». Она сидела, слегка наклонив голову, и, видно, слушала чей-то рассказ, время от времени улыбаясь. Если не считать больших глаз, ее лицо с квадратным подбородком едва ли можно было назвать красивым. Просто издали она выглядела весьма эффектно, когда речной ветер развевал ее локоны надо лбом и легкий наряд желтого цвета.
— Ну как, рассмотрел?
504
— До кончиков ресниц. Однако не так уж она красива.
Я снова повернулся к Тань Юн-няню, лицо которого выражало что-то вроде самодовольства.
— Так что же это за женщина?
Тань Юн-нянь, обычно любивший поговорить, на этот раз не спеша закурил сигарету и лишь после этого, в свою очередь, спросил меня:
— Помнишь, что я тебе вчера рассказывал? Что на том пустыре напротив пристани отрубили голову пяти разбойникам?
— Да, помню.
— Их главаря звали Хуан Лю-и. Его тоже казнили. Он, говорят, держа в одной руке винтовку, в другой — пистолет, убивал сразу двоих. Об этом злодее шла молва по всей Хунани.
Тань Юн-нянь тут же принялся рассказывать мне о злодеяниях, которые совершил за свою жизнь Хуан Лю-и. К счастью, в его повествовании было больше романтических красок, чем запаха крови. Видно, он почерпнул все эти сведения из газет. Не преминул он сообщить и о том, что контрабандисты обычно называли Хуан Лю-и «почтенным Хуаном»; и о том, как он ограбил одного купца из Сянтаня, забрав у него три тысячи юаней; и как, взвалив на плечи своего раненого помощника по имени Цзян Э-ци, переплыл Лулиньтань; и как на одной горной дороге в Юэчжоу уложил два десятка солдат. Обо всем этом Тань Юн-нянь говорил так увлеченно, что казалось, будто он преклоняется перед Хуан Лю-и.
— Что ни говори, а на его счету как-никак сто семнадцать убийств и похищений!
Даже такое замечание вставил Тань Юн-нянь в свой рассказ. Мне тоже этот разбойник — поскольку, конечно, мне самому он не причинил никакого вреда — совершенно не внушал неприязни. Но рассказы о его доблестях мало чем отличались один от другого и в конце концов мне наскучили.
— Ну, а та женщина-то здесь при чем?
Тань Юн-нянь наконец, улыбаясь во весь рот, ответил как бы в подтверждение моих догадок:
— Так ведь та женщина была возлюбленной Хуан Лю-и!
Я не выразил ни удивления, ни восхищения, которых ждал от меня Тань Юн-нянь. Но, продолжая сидеть с невеселым лицом, пожалел о том, что держу во рту сигару: она придавала мне еще более унылый вид.
— Гм, а разбойники, однако, роскошно жили...
— Что ты! Такие, как Хуан Лю-и, едва ли. Вот в последние годы правления Цинской династии жил разбойник по имени Цай, — так у того доход был больше десяти тысяч юаней в месяц.
505
На краю Шанхайского сеттльмента он построил роскошный особняк. Кроме жены, он содержал и любовниц...
— Выходит, та женщина — что-то вроде гейши?
— Да, это певица и танцовщица по имени Юй-лань. При жизни Хуан Лю-и она пользовалась большим влиянием.
Тань Юн-нянь замолк на некоторое время, словно охваченный какими-то воспоминаниями, лишь на лице его играла легкая улыбка... Но вот он отшвырнул сигарету и с серьезным видом стал советоваться со мной.
— В Юэлу есть школа под названием «Хунаньское торгово-промышленное училище», — так не осмотреть ли нам в первую очередь ее?
— Что ж, можно, — нехотя ответил я.
Дело в том, что у меня остался неприятный осадок от посещения одной женской школы вчера утром: там мы неожиданно встретили резкие антияпонские настроения. Тем временем наша лодка, словно пренебрегая моими чувствами, огибала по широкой дуге мыс острова и приближалась к Юэлу...
* * *
Вечером того же дня мы с Тань Юн-нянем поднимались по лестнице одного увеселительного заведения.
Комната на втором этаже, куда мы прошли, почти не отличалась от комнат в подобных заведениях Шанхая или Ханькоу: такой же стол посредине, такие же стулья, плевательница, платяной шкаф. Только в углу под потолком, около окна, висела проволочная клетка. В ней вверх и вниз по жердочке бесшумно сновали две белки. Все это, вместе с красными ситцевыми занавесками на окнах и дверях, представляло собой, безусловно, необычную картину. И в то же время, — по крайней мере, для меня — картину, безусловно, отталкивающую.
Встретила нас в этой комнате маленькая, кругленькая «бао-фу» — хозяйка заведения. Тань Юн-нянь сразу же о чем-то оживленно заговорил с ней. Она вкрадчиво отвечала ему, всем своим видом являя саму приветливость. Но из их разговора я не понял ни слова. (Конечно, это объяснялось и моим слабым знанием китайского языка. Однако даже хорошо владеющие официальным пекинским диалектом с трудом понимают речь жителей Чанша.)
Поговорив с хозяйкой, Тань Юн-нянь сел за большой стол красного дерева слева от меня. После этого на печатных бланках, которые принесла хозяйка, он начал писать имена танцовщиц. Чжан Сян-э, Ван Цяо-юнь, Хань-фап, Цзуй Юи-лоу, Аи Юань-
506
юань —для меня, туриста, они звучали, как имена героинь из китайского романа.
— Юй-лань тоже позвать?
Я хотел было ответить, но, как нарочно, в этот момент прикуривал от спички, которую мне поднесла хозяйка. Тань Юн-нянь смотрел на меня через стол и с безразличным видом покачивал кисточкой.
. Тут в комнату бесцеремонно вошла цветущего вида круглолицая девушка в очках с золотой оправой. На ее летнем белом наряде сверкало множество бриллиантов. У нее была стройная фигура спортсменки — теннисистки или пловчихи. Ее внешность не столько восхитила меня красотой или вызвала чувство симпатии, сколько поразила странно резким контрастом: она совершенно не вязалась с этой комнатой — особенно с белками в проволочной клетке.
Девушка лишь едва заметно кивнула нам в знак приветствия и легко, словно танцуя, подошла к Тань Юн-няню. Сев рядом, она положила руку ему на колено и что-то защебетала. Тань Юн-нянь, полный гордости, только поддакивал ей.
— Это одна из здешних танцовщиц. Ее зовут Линь Да-цзяо. Когда Тань Юн-нянь сказал мне это, я невольно вспомнил,
что он из богатой семьи, которых в Чанша не так уж много...Минут через десять, по-прежнему сидя друг против друга, мы приступили к ужину, состоявшему из сычуаньских блюд, в которых было обилие грибов, курятины и китайской капусты. В комнате, кроме Линь Да-цзяо, появилось еще несколько девушек. Позади девушек несколько мужчин в шапочках с козырьками держали наготове музыкальные инструменты, похожие на скрипки. Время от времени девушки, не вставая с места, пели высокими, резкими голосами под звуки музыки. Нельзя сказать, что это меня совсем не развлекло. Однако гораздо больше, чем арии и музыка из старинных опер «Дан-ма» и «Фэньхэвань», меня интересовала сидевшая слева девушка.
Слева от меня сидела та самая красавица китаянка, которую я лишь мельком видел позавчера с палубы «Юаньцзяна». Она была в том же наряде цвета морской воды, и на груди у нее висел тот же медальон. Несмотря на болезненную хрупкость, вблизи она, как ни странно, не казалась такой детски наивной и безыскусной. Когда я разглядывал ее профиль, мне временами представлялась маленькая луковка, незаметно выросшая в тени.
— Ты знаешь, кто сидит рядом с тобой? — обратился вдруг ко мне, перегнувшись через блюдо с креветками, раскрасневшийся от вина и добродушно улыбающийся Тань Юн-нянь. — Это же Хань-фан!
507
Когда я увидел лицо Тань Юн-няня, у меня почему-то пропала охота откровенничать с ним о позавчерашнем.
— Она очень красиво говорит. Звук «р» у нее — как у француженки.
— Да, она — уроженка Пекина.
Видно, и сама Хань-фан тоже догадалась о теме нашего pas-говора. Бросая время от времени быстрые взгляды в мою сторону, она о чем-то скороговоркой начала расспрашивать Тань Юн-няня. Мне и на этот раз, как всегда, ничего не оставалось, как довольствоваться ролью глухого и лишь следить за выражением их лиц.
— Она спросила, давно ли ты приехал в Чанша, и когда я ответил, что позавчера, она сказала, что в тот день тоже приходила на пристань встречать кого-то, — перевел мне Тань Юн-нянь и снова заговорил с Хань-фан. В ответ она лишь улыбалась и по-детски отнекивалась.
— Ну, никак не хочет признаваться! Это я спрашиваю ее, кого она встречала...
В этот момент Линь Да-цзяо, показывая на нее сигаретой, которую держала в руке, бросила какое-то насмешливое замечание. У Хань-фан словно перехватило дыхание, и она вдруг оперлась рукой о мое колено. Однако, кое-как заставив себя улыбнуться, она что-то быстро и резко ответила Линь Да-цзяо. Этот спектакль — вернее, подобие спектакля — не мог не пробудить моего любопытства: такая глубокая вражда между ними была для меня неожиданностью.
— Послушай-ка, что она там сказала?
— Она говорит, что никого и не встречала, только «мамашу». И еще сказала, что господин, который сидит здесь, может подумать, что она встречала актера из Чанша... (К сожалению, мне не удалось записать в свой блокнот фамилию этого актера.)
— «Мамашу»?
— «Мамаша» — это не родная мать. Это хозяйка заведения, где живут такие девицы, как Хань-фан или там Юй-лань...
Ответив на мой вопрос, Тань Юн-нянь опрокинул еще стаканчик лаоцзю и вдруг затараторил без умолку. Из того, что он говорил, я не понимал ни слова, если не считать «чжэгэ-чжэгэ»1. Но судя по тому, как жадно слушали его девушки и хозяйка, он рассказывал что-то очень интересное. Более того, заметив, что время от времени все оборачиваются в мою сторону, я понял, что его рассказ в какой-то степени касается меня. Со стороны могло пока-
1 «Чжэгэ-чжэгэ» — это, так сказать (китайск.).
508
заться, что я спокойно курю сигарету, но в душе у меня постепенно поднималось раздражение.
— Черт возьми! Что ты там болтаешь?
— А что? Я рассказал, как мы сегодня утром по пути в Юэлу встретили Юй-лань. Потом... — Тань Юн-нянь провел языком по верхней губе и еще больше оживился. — Потом сказал, что ты хочешь посмотреть, как отрубают головы.
— Что за чепуха!
Все, что Тань Юн-нянь рассказал мне о Юй-лань, которой еще не было в комнате, и об ее подруге Хань-фан, не вызывало у меня сочувствия. Но, взглянув на Хань-фан, я сразу понял состояние ее души. Серьги в ее ушах дрожали, она то завязывала, то развязывала носовой платок, лежавший у нее на коленях.
— Ну, а это тоже чепуха?
Тань Юн-нянь взял из рук стоявшей позади него хозяйки маленький бумажный сверток и стал торжественно его развертывать. Внутри оказалась странная сухая плитка шоколадного цвета, тоже в бумажной обертке. Примерно такой величины, как сэмбэй.
— Что это?
— Это? Это — обычное печенье, но оно... Помнишь, я рассказывал тебе о главаре разбойников Хуан Лю-и? Так это печенье пропитано кровью, которая вытекала из его отрубленной головы! Вот тебе та самая вещь, какой в Японии не увидишь.
— Ну и что с этим печеньем делают?
— Что делают? Обыкновенно что — едят! В наших краях все еще верят, что если отведаешь такого печенья, то будешь всегда здоровым и сильным.
В это время две девушки поднялись из-за стола. Тань Юн-нянь с лучезарной улыбкой на лице попрощался с ними. Но когда он увидел, что собралась уходить Хань-фан, он что-то начал говорить ей, то и дело улыбаясь, с таким видом, словно умолял о милости. Наконец он поднял руку и показал на меня, сидевшего прямо против него. В конце концов Хань-фан после некоторого колебания, улыбнувшись, снова села за стол. Мне она очень нравилась, и я украдкой, чтобы никто не видел, тихонько взял ее
РУку.
— Ведь такое суеверие — позор для страны, — продолжал Тань Юн-нянь. — Я как врач всегда и везде стараюсь бороться с этим.
— Это все потому, что у вас существует такая казнь, как обезглавливание. Хотя в Японии, например, едят тушеный мозг.
— Не может быть!
509
— Представь себе, это так. Я сам ел. Правда, в детстве...
Во время разговора я заметил, что в комнату вошла Юй-лань. Поговорив с хозяйкой, она села рядом с Хань-фан.
Тань Юн-нянь, заметив ее, снова отвернулся от меня и стал рассыпаться перед ней в любезностях. Здесь, в комнате, она казалась красивее, чем при свете дня. Особенно хороша была ее улыбка, сверкавшая белоснежной эмалью зубов. Однако ровный ряд ее зубов невольно напомнил мне о белках. Белки по-прежнему безостановочно сновали вверх и вниз в проволочной клетке рядом с окном, занавешенным куском красного ситца.
— Ну как, попробуешь?
Тань Юн-нянь разломил печенье и протянул мне. В месте разлома печенье было такого же темно-коричневого цвета.
— Не говори глупостей!
Разумеется, я отказался. Тань Юн-нянь, громко засмеявшись, предложил тогда кусочек печенья Линь Да-цзяо. Линь Да-цзяо, состроив гримаску, оттолкнула его руку. Он повторил эту шутку еще с несколькими девушками. И тут он вдруг положил коричневый кусочек перед Юй-лань, которая сидела, не шелохнувшись, все с тем же застывшим выражением приветливости на лице.
У меня вдруг появилось желание понюхать это печенье.
— Эй, мне тоже дай посмотреть.
— Ладно, у меня тут еще половина осталась.
И Тань Юн-нянь швырнул мне кусочек печенья. Я поднял его со стола, куда он упал между блюдцем и палочками для еды. Но когда я взял в руки этот кусочек, у меня вдруг пропало всякое желание нюхать его, и я молча бросил печенье под стол.
В это время Юй-лань, глядя прямо в глаза Тань Юн-няню, обменялась с ним несколькими фразами. Потом она взяла печенье и, обращаясь ко всем присутствующим, быстро-быстро заговорила. Взоры всех были устремлены на нее.
— Ну что, переводить тебе? — произнес Тань Юн-нянь, облокотившись о стол и положив подбородок на руки. Он говорил медленно, и у него подозрительно заплетался язык.
— Да, переводи, пожалуйста!
— Так, переводить? Только я буду переводить буквально, слово в слово... «Я охотно... отведаю... крови моего любимого Хуана...»
Я ощутил дрожь. Это дрожала рука Хань-фан, опиравшаяся о мое колено.
— «И вы все тоже... как и я... своих любимых...»
Тань Юн-нянь еще продолжал переводить, а Юй-лань уже откусывала своими прелестными зубками пропитанное кровью печенье...
510
* * *
Как я и рассчитывал, через трое суток, 19 мая, часов в пять вечера я снова стоял, опершись о перила, на палубе того же парохода «Юаньцзян». Громоздивший белые стены и черепичные кровли Чанша вызывал у меня какое-то неприятное, жуткое чувство. Не иначе как всему виной было вечернее солнце, опускавшееся с каждой минутой все ниже и ниже. Я стоял с сигарой в зубах, и перед моим мысленным взором снова и снова возникало любезно улыбающееся лицо Тань Юн-няня. Он почему-то не пришел меня проводить.
«Юаньцзян» отчалил не то в семь, не то в половине восьмого. После ужина я в своей каюте при тусклом свете лампочки принялся подсчитывать расходы за время пребывания в Чанша. А передо мной на маленьком, едва в полметра шириной, столике лежал веер, и розовая кисть его свешивалась вниз. Этот веер забыл кто-то, кто был здесь до меня. Водя карандашом по бумаге, я то и дело снова вспоминал лицо Тань Юн-няня. Я не мог понять, зачем он заставил страдать Юй-лань. Что же касается моих расходов, то они — я это до сих пор помню — составили в пересчете на японские деньги ровно двенадцать иен пятьдесят сэнов.
Декабрь (?) 1925 г.
...Я шел по крутому берегу, унылому, поросшему смешанным лесом. Под обрывом сразу начиналось озеро. Недалеко от берега плавали две утки. Утки, по цвету похожие на камни, обросшие редким мхом. Я не испытывал к этим птицам какой-то особой неприязни. Но отталкивало их оперение, слишком уж чистое, блестящее...
Этот сон был прерван дребезжащим звуком, и я проснулся. Видимо, дребезжала стеклянная дверь гостиной, смежной с кабинетом. Когда я писал для новогодних номеров, приходилось даже спать в кабинете. Рассказы, которые я обещал трем журналистам, — все три не удовлетворяли меня. Но тем не менее сегодня перед рассветом я закончил последний.
На сёдзи рядом с постелью четко отражалась тень бамбука. Сделав над собой усилие, я встал и прежде всего пошел в уборную. «Пожалуй, похолодало», — подумал я.
Тетка и жена протирали стеклянную дверь в гостиную, выходившую на веранду. Отсюда и шел дребезжащий звук. Тетка, в
511
безрукавке поверх кимоно, с подвязанными тесемкой рукавами, выжимая в ведерке тряпки, сказала мне с легкой издевкой:
— Знаешь, а ведь уже двенадцать часов.
И правда, было уже двенадцать. В столовой, у старой высокой жаровни началось приготовление обеда. Жена уже кормила младшего, Такаси, молоком с гренками. Но я по привычке, будто еще утро, пошел умываться на кухню, где не было ни души.
Покончив с завтраком, который был одновременно и обедом, я расположился в кабинете у жаровни и стал просматривать газеты. Там не было ничего, кроме сообщений о премиях компаний и продаже ракеток. Но настроение мое не улучшилось. Каждый раз, вакончив работу, я испытывал странную опустошенность. Как после близости с женщиной, — и с этим уж ничего не поделаешь...
К. пришел около двух часов. Я пригласил его к жаровне, и мы сначала поговорили о делах. Одетый в полосатый пиджак К. — в прошлом собственный корреспондент газеты в Мукдене — сейчас работал в самой редакции.
— Послушайте. Если у вас есть время, может, немного пройдемся? — предложил я. Теперь, когда деловой разговор был закончен, мне стало невыносимо сидеть дома.
— Да, если часов до четырех... Вы уже решили, куда мы пойдем? — спросил К. застенчиво.
— Нет, мне все равно куда.
— Может, пойдем на могилу?
Могила, о которой говорил К., была могилой Нацумэ.
С полгода назад я обещал К. показать могилу Нацумэ — любимого его писателя. Идти на могилу под Новый год — это, пожалуй, вполне соответствовало моему настроению.
— Ну что ж, пойдемте.
Быстро накинув пальто, я вместе с К. вышел из дому.
День холодный, но ясный. На узенькой Додзака было ожив? леннее, чем обычно. Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука почти касались небольшого домика под тесовой крышей, именовавшегося помещением молодежной организации Табата. При виде этой улицы у меня воскресло памятное с детства ощущение близости Нового года.
Подождав немного, мы сели на электричку в сторону Гококу-даимаэ. В электричке было не очень много народу. Так и не опуская воротника пальто, К. рассказывал мне, как недавно ему наконец удалось достать рукопись стихов сэнсэя.
Когда мы проехали Фудзимаэ, одна из лампочек в центре вагона вдруг упала и рассыпалась на мелкие кусочки. Там стояла женщина лет двадцати пяти, она была совсем не привлекательна.
512
В одной руке она держала огромный узел, а другой ухватилась за ремень. Падая на пол, лампочка слегка задела прядь волос у нее на лбу. Женщина сделала удивленное лицо и стала оглядывать пассажиров. У нее было такое выражение, будто она ждет сочувствия или, уж во всяком случае, хочет привлечь к себе внимание. Но все, будто сговорившись, оставались совершенно равнодушными. Продолжая беседовать с К., я смотрел на обескураженную женщину, и лицо ее казалось мне исполненным отчаяния и, уж разумеется, не смешным.
На конечной остановке мы вышли из электрички и по улице, где было множество лавок, торговавших гирляндами, направились к кладбищу Дзосикая.
На кладбище, засыпанном листьями огромных гинко, как всегда, стояла тишина. На широкой центральной аллее, покрытой гравием, не было ни души. Идя впереди К., я свернул по дорожке направо. Вдоль дорожки за живой изгородью боярышника, а кое-где за ржавой железной оградой выстроились в ряд большие и маленькие могилы. Но сколько мы ни шли, могилу сэнсэя не могли отыскать.
— Может быть, на той дорожке.
— Возможно.
Поворачивая назад, я подумал, что из-за ежегодной спешки с новогодними номерами я очень редко хожу на могилу сэнсэя даже девятого декабря. Но хоть несколько лет я и не был здесь, просто не верилось, что можно забыть, где его могила.
На другой дорожке, которая была чуть пошире, мы тоже не нашли могилы. На этот раз, вместо того чтобы идти назад, мы пошли влево, вдоль живой изгороди. Но могилы все не было. Мало того, я не мог найти даже те несколько пустырей, которые, я помнил, находились неподалеку от его могилы.
— И спросить не у кого... Ну что ты будешь делать!
В словах К. мне почудилось нечто близкое к насмешке. Но я ведь обещал привести его к могиле, так что злиться мне не приходилось.
Нам ничего не оставалось, как снова выйти на боковую дорожку, ориентируясь на огромные гинко. Все напрасно. Я начал, естественно, нервничать. Но на дне моего раздражения притаилось уныние. Ощущая под пальто тепло собственного тела, — меня бросало в жар, — я вспомнил, что уже испытал однажды такое чувство. Испытал его в детстве, когда надо мной издевался один задира и я бежал домой, сдерживая слезы.
Мы ходили до тех пор, пока наконец я не спросил дорогу у кладбищенской уборщицы, сжигавшей сухие ветки иллиния, и все-таки привел К. к могиле сэнсэя.
17 Акутагава Рюноскэ
513
Могила обветшала еще больше даже по сравнению с прошлым разом. Да к тому же и земля вокруг потрескалась от мороза. Не видно было, чтобы за могилой ухаживали, — на ней лежали только букетики зимних хризантем и нандин, принесенные, видимо, девятого числа. К. снял пальто и низко поклонился могиле. Но я, сам не знаю почему, теперь уже никак не мог заставить себя поклониться вместе с К.
— Сколько лет прошло?
— Ровно девять.
Так, беседуя, мы возвращались на конечную остановку Гоко-кудзимаэ.
В электричку мы сели вместе с К., а у Фудзимаэ я сошел один. Навестив приятеля в библиотеке Тоёбунко, я возвратился к вечеру на Додзака.
Наступил самый оживленный час на Додзака. Но когда я миновал храм Косиндо, прохожих стало попадаться все меньше. Мысленно стараясь найти себе оправдание, я шел по продуваемой ветром улице, упорно глядя под ноги.
Под горкой Хатимандзака, что за кладбищем, опершись о ручки тележки, отдыхал ее владелец. На первый взгляд эта тележка чем-то напоминала тележку торговца мясом. Но, приблизившись, я увидел сбоку во весь ящик надпись: «Токийская парфюмерная компания». Подойдя сзади, я окликнул его и стал медленно толкать повоэку. Я очень недолго толкал повозку, и работа эта показалась мне, конечно, противной. Но мне почудилось, что, напрягаясь, я преодолеваю свое состояние. Временами северный ветер начинал дуть вниз по склону. И тогда голые ветви деревьев на кладбище стонали. Испытывая какое-то возбуждение, я продолжал в этих сгущающихся сумерках сосредоточенно толкать тележку, будто сражаясь с самим собой...
Декабрь 1925 г,
1
Моя мать была сумасшедшей. Никогда я не знал материнской любви. В нашем родном доме в Сиба мать всегда сидела одна в прическе с гребнями и курила длинную трубку. У нее было маленькое личико, и сама она была маленькая. И лицо ее почему-то было безжизненно-серым. Как-то, читая «Западный флигель», я встретил слова «запах земли и вкус грязи» и вдруг вспомнил лицо моей матери — ее иссохший профиль.
514
Естественно, что мать нисколько обо мне не заботилась. Помню, однажды, когда я с моей приемной матерью, навещая ее, поднялся к ней в мезонин, она сильно ударила меня трубкой по голове. Однако чаще мать бывала очень тихой. Я и сестра приставали к ней, просили нарисовать нам картинку. И она рисовала на четвертушках листа. Не только тушью. Акварельными красками моей сестры она рисовала наряды девушек, травы и деревья. Но лица людей на этих картинках всегда походили на лисьи мордочки.
Мать умерла, когда мне было одиннадцать лет. Умерла не столько от болезни, сколько от истощения. В памяти у меня сохранились лишь обстоятельства ее смерти, и то смутно.
Я, видимо, приехал, получив телеграмму о том, что мать при смерти. Темной безветренной ночью мы с приемной матерью примчались на рикше из Хондзё в Сиба. Я и сейчас не ношу кашне. Но помню, что как раз той ночью шея у меня была повязана легким шелковым платочком с пейзажным рисунком китайской школы. Помню, что от платочка пахло духами «Ирис».
Мать лежала в просторной гостиной прямо под мезонином. Я и сестра, которая была старше меня на четыре года, сели у изголовья и стали плакать навзрыд. Когда кто-то у нас за спиной произнес: «Она умирает, она умирает», — горе с особой силой охватило нас. Но мать, до сих пор лежавшая как мертвая, с закрытыми глазами, вдруг открыла их и что-то сказала. И мы, несмотря на нашу печаль, тихонько засмеялись.
Следующей ночью я просидел возле матери почти до рассвета. Но почему-то слезы не лились, как накануне» Чуть ли не пристыженный почти непрерывным плачем сестры, я всеми силами старался сделать вид, что плачу. И в то же время верил, что, поскольку не могу плакать, мать, возможно, и не умрет.
На третий день вечером мать без всяких страдании скончалась. Перед самой смертью к ней как будто возвратился разум, она посмотрела на нас, и из глаз у нее полились слезы. Но она ни слова не проронила.
Когда мать положили в гроб, я уже не мог удержаться от слез. Дальняя родственница, «тетка из Одзи», сказала: «Ну и молодец же ты!» Но я только удивился, почему же я молодец.
В день похорон сестра с посмертной табличкой и я с благовониями для возжигания поехали на рикше. Время от времени я засыпал и пробуждался в страхе, что уронил благовония. Мы никак не могли добраться до Янака. Под осенним ясным небом довольно длинная похоронная процессия медленно следовала во улицам Токио.
17*
515
День смерти моей матери — 28 ноября. Ее посмертное имя Кимёин-мёдзёниссйн-дайси. А между тем я не помню ни дня смерти, ни посмертного имени моего родного отца. Вероятно, потому, что в одиннадцать лет запомнить день смерти и посмертное имя составляло для меня предмет гордости.
2
У меня есть старшая сестра. Человек она больной, но, несмотря на это, у нее двое детей. Разумеется, я не хочу включать эту сестру в «Поминальник». Речь идет о другой сестре, которая совсем юной внезапно скончалась еще до моего рождения. Из нас, троих детей, как говорят, она была самой умной.
Ее звали Хацуко, потому что она родилась первой. В нашем доме на буддийской божнице до сих пор стоит фотография Хаттян в маленькой рамке. Она вовсе не была слабенькой. Ее пухленькие щечки с ямочками, как спелый абрикос...
Что ни говори, отец и мать больше всех любили Хаттян. Ее водили с улицы Синсэндза в Сиба, в детский сад мадам Саммаз в Цукидзи. Но субботу и воскресенье она непременно проводила в доме родителей моей матери — в доме Акутагава в Хондзё. В этих случаях Хаттян всегда надевали вошедшее в моду в двадцатых годах Мэйдзи европейское платье. Помню, когда я ходил в начальную школу, мне как-то дали обрезки от платьев Хаттян, и я наряжал в них резиновых кукол. Все это были лоскуты импортного ситца с узором из цветов или изображением музыкальных инструментов.
Как-то в начале весны в воскресенье Хаттян, гуляя в саду, обратилась к тетушке, сидевшей в гостиной у раздвинутых сёдзи (я представляю себе, что в это время сестра, конечно, была в европейском платье).
— Тетушка, что это за дерево?
— Какое дерево?
— Вот это, с почками.
В саду родителей моей матери росло низенькое деревцо айвы, склонившееся над старым колодцем. Вероятно, Хаттян смотрела на его колючие ветки широко раскрытыми глазами.
— У этого дерева такое же имя, как у тебя. Но шутка тетушки осталась непонятой.
— Значит, это дерево зовется дурочкой?1
Стоит заговорить о Хаттян, как тетушка всякий раз возвращается к этому диалогу. И действительно, кроме этого рассказа,
1 Игра слов: «айва» — «бокэ», «глупый» — «бака».
516
никаких воспоминании о Хаттян не осталось. Через несколько дней она оказалась в гробу. Я не помню посмертной таблички, на которой было бы вырезано «Хаттян». Но, как ни странно, ясно помню, что день ее смерти — 4 мая.
Почему я питаю к этой сестре — сестре, которую совсем не знал, — теплое чувство? Если б Хаттян осталась в живых, ей было бы сейчас за сорок. Может быть, лицом сорокалетняя Хаттян походила бы на мать, которая с отсутствующим взглядом курила трубку в доме в Сиба? Иногда я чувствую, что за моей жизнью пристально следит какой-то призрак — сорокалетняя женщина, то ли мать, то ли сестра. Причиной ли тому мои нервы, расшатанные кофе и табаком? Или сверхъестественная сила, которая в некоторых случаях являет свой лик реальному миру?
3
Поскольку моя мать сошла с ума, я почти сразу после рождения был отдан приемным родителям (дяде со стороны матери). К родному отцу я был равнодушен. Он был фермер, добившийся известного преуспеяния. В то время с новыми фруктами и напитками меня знакомил только отец: с бананами, мороженым, ананасами, ромом, может быть, и еще с чем-нибудь. Я помню, как пил ром в тени дуба в Синдзюку. Это был совсем слабый напиток желтоватого цвета.
Предлагая мне, малышу, такие редкости, отец надеялся, что я вернусь к нему от приемных родителей. Помню, как однажды вечером, угощая меня мороженым в ресторане в Омори, он уговаривал меня бежать оттуда. В таких случаях отец говорил очень убедительно и сладкоречиво. Но, к сожалению, его уговоры никогда не имели успеха. Потому что я любил приемных родителей, а еще больше тетушку.
Кроме того, отец был вспыльчив и часто ссорился то с тем, то с другим — он мог поссориться с кем угодно. Когда я учился в третьем классе средней школы, мы с ним как-то стали бороться, и я, применяя свой любимый прием, быстро его одолел. Не успел он подняться, как подступил ко мне со словами; «Еще разок». Я опять без труда его повалил. Отец со словами «еще разок» набросился на меня, изменившись в лице. Смотревшая на нас тетушка — младшая сестра моей матери, вторая жена отца — несколько раз сделала мне знак глазами. Поборовшись с отцом, я нарочно упал навзничь. Но не уступи я тогда ему, отец непременно вцепился бы в меня.
Мне было двадцать восемь лет и я еще преподавал, когда пришла телеграмма, что «отец в больнице», и я поспешно отпра-
517
вился, из Камакура в Токио. Отец попал в больницу с инфлюэнцей. Дня два или три мы с тетушкой из дома приемных родителей и с тетушкой из родного дома провели в больнице, буквально ютясь в углу. Понемножку я стал скучать. А тут знакомый корреспондент-ирландец позвонил мне, приглашая пообедать с ним в японском ресторане в Цукидзи. Под предлогом, что этот корреспондент скоро уедет в Америку, я оставил находившегося при смерти отца и отправился в Цукидзи.
Мы с несколькими гейшами весело пообедали. Обед закончился в десять. Простившись с корреспондентом, я спускался по узенькой лестнице, как вдруг меня окликнули: «А-сан!» Остановившись, я взглянул наверх. На меня пристально смотрела одна из бывших с нами гейш. Я молча спустился с лестницы и сел в такси, стоявшее у входа. Такси сразу тронулось. Я думал не столько об отце, сколько о лице этой женщины с европейской прической — особенно о ее глазах.
Когда я вернулся в больницу, оказалось, что отец меня ждет с нетерпением. Удалив за ширмы всех лишних людей, он, то сжимая мою руку, то гладя ее, стал рассказывать о давно прошедших незнакомых мне вещах, о том, как они с матерью поженились. Это были просто мелочи, вроде того, как он с матерью ходил покупать комод, как они ели суси, и тому подобное. Когда я слушал эти рассказы, мои глаза увлажнялись. А у отца по впалым щекам катились слезы.
На другое утро отец тихо скончался. Перед смертью, видимо, разум у него помутился, он говорил: «Прибыл корабль с поднятым флагом. Все кричите банзай!» Как прошли похороны отца, я не помню. Помню лишь, когда тело его везли из больницы домой, катафалк освещала большая весенняя луна.
4
В этом году в середине марта я с женой после длительного перерыва отправился на кладбище. После длительного перерыва... но не только маленькая могила, но и сосна, простиравшая свои ветви над могилой, нисколько не изменились.
Трое, включенные в «Поминальник», все лежат погребенными в уголке кладбища в Янака и под одним могильным камнем. Я вспомнил, как в эту могилу тихо опускали гроб моей матери. Вероятно, в ту же, где лежала Хаттян. Только отец... Я помню, как в пепле, где белели останки костей, сверкали золотые зубы.
Я не люблю ходить на кладбище. Если бы можно было, я хотел бы забыть и о родителях и о сестре. Но в этот день, может
518
быть, от физической слабости, я, глядя при свете закатного весеннего солнца на почерневший могильный камень, думая о том, кто из них троих был счастлив.
| Мотылек-однодневка!
За могильным холмом Ты живешь — да и только. |
Я никогда еще так остро не чувствовал настроения, которое вызывает этот стих Дзёсо.
9 сентября 1926 г.
Он был молодой социалист. Его отец, мелкий чиновник, хотел выгнать его за это из дому. Но он не сдавался. Отчасти потому, что его увлечение было горячо, отчасти потому, что его воодушевляли товарищи.
Они организовали общество, выпускали брошюрки в десять страничек, устраивали вечера с речами. Он, конечно, постоянно бывал на их собраниях и, кроме того, иногда печатал в этих брошюрах свои статьи. Его статей, кроме членов общества, по-видимому, никто специально не читал. Но с одной из них — под названием «Вспоминаю Либкнехта» — у него было связано чувство какого-то удовлетворения. Пусть она не являлась тонким исследованием, зато была исполнена поэтического жара.
Тем временем он окончил училище и поступил в редакцию одного журнала. Однако он не переставал посещать их собрания. Они по-прежнему горячо обсуждали свои вопросы. Больше того, потихоньку, как вода точит камень, они переходили к практической работе.
Отец больше не вмешивался в его дела. Молодой человек женился и поселился в маленьком домике. Жилище и в самом деле было маленькое. Но он не испытывал недовольства — напротив, он чувствовал себя счастливым. Жена, собачка, тополь в палисаднике — все это придавало его жизни какую-то неведомую ему теплоту.
Из-за семьи, а также из-за того, что он был завален работой в редакции, где нельзя было терять ни минуты, он все реже посещал собрания Общества. Но его увлечение нисколько не остыло. По крайней мере, он был убежден, что он, теперешний, нисколько не отличается от того, каким он был несколько лет назад. Но они — его товарищи — думали иначе. Особенно молодежь, недавно всту-
519
пившая в их организацию, нисколько не стеснялась осуждать его пассивность.
Это неизбежно приводило к тому, что он все больше и больше отдалялся от Общества. А тут он стал отцом и еще сильнее привязался к семье. Но предметом его увлечения по-прежнему был социализм. Он не бросал своих занятий поздней ночью при электрическом свете. В то же время в брошюрках в десять страниц, которые он написал несколько лет назад, в том числе и в брошюре «Вспоминаю Либкнехта», что-то перестало его удовлетворять.
Товарищи тоже совсем к нему охладели. Он потерял для них интерес даже как объект осуждения. Оставив его в покое, — оставив в покое так много похожих на него людей, — они шаг за шагом продвигали свою работу. Встречаясь со старыми товарищами, он каждый раз принимался жаловаться. Но на самом деле он просто нашел удовлетворение в обывательском покое.
Потом, через несколько лет, он поступил на службу в одну фирму и заслужил доверие начальства. Тогда он поселился в доме, который был гораздо больше прежнего; у него росло несколько детей. Но его увлечение — где оно теперь, известно, пожалуй, одному богу! Иногда, сидя в кресле и покуривая папиросу, он вспоминал свои молодые годы. Нельзя сказать, чтобы это как-то странно не омрачало его сердце. Но восточная «покорность судьбе» всегда спасала его.
Конечно, он отступник. Но его брошюрка «Вспоминаю Либкнехта» послужила стимулом для другого человека. Это был юноша из Осака, который, играя на бирже, лишился имущества, доставшегося ему в наследство от родителей. Этот юноша прочел его брошюру и под ее влиянием сделался социалистом. Но обо всем этом он, конечно, ничего не знал. Он и теперь, сидя в кресле и покуривая папиросу, вспоминает свои молодые годы — по-человечески, пожалуй, слишком по-человечески.
Человеческое, слишком человеческое — это всегда нечто животное («Слова пигмея»),
10 декабря 1926 г.
«Слова пигмея» не всегда служат выражением моих мыслей. Они только дают иногда представление о том, как мои мысли меняются день ото дня. Из одного стебелька может развиться несколько побегов — кто знает, сколько побегов.
520
Известно изречение Паскаля, гласящее, что, если бы нос Клеопатры был кривым, история могла бы пойти иначе. Однако влюбленный редко видит истинные черты лица предмета своей любви. Когда нас охватывает любовь, мы обманываем себя искуснейшим образом.
Антоний не исключение: будь нос Клеопатры кривым, Антоний вряд ли увидел бы это. А если бы и увидел, то нашел бы другое достоинство, восполняющее этот недостаток. Во всем мире не сыщешь женщины со столькими достоинствами, как наша возлюбленная. Антоний, как и мы у своей возлюбленной, нашел бы в глазах или губах Клеопатры нечто такое, что с лихвой восполняло бы изъян. Вдобавок обычное «а ее душа!». В самом деле, наша возлюбленная во все времена обладала безгранично прекрасной душой. К тому же одежда, состояние или общественное положение тоже входят в число ее достоинств. Наконец, бывали даже случаи, когда к достоинствам причисляли факт или слух, что некогда ее любила какая-то знаменитость. И разве Клеопатра не была последней египетской царицей, окруженной роскошью и тайной? Когда, в облаке благоуханий, она восседала, сверкая драгоценной короной с лотосом или другим цветком в руках, неужели кто-нибудь заметил бы легкую кривизну ее носа? Тем более — Антоний.
Такой самообман распространяется не только на любовь. Лишь в редких случаях мы не окрашиваем действительность в те тона, что нам хочется. Взять, например, хоть вывеску зубного врача, — мы не столько видим саму вывеску, сколько хотим ее видеть, потому что ощущаем зубную боль. Разумеется, наша зубная боль не имеет к мировой истории никакого отношения. Но подобному самообману подвержены, как правило, и политики, которые хотят знать настроение народа, и военные, которые хотят знать положение противника, и деловые люди, которые хотят знать состояние финансов. Я не отрицаю, что разум должен это корректировать. Но в то же время признаю и существование управляющего всеми людскими делами «случая». И, может быть, самообман есть вечная сила, управляющая мировой историей.
Короче говоря, двухтысячелетняя история не зависела от того, каким был нос промелькнувшей в ней Клеопатры. Она скорее зависела от вездесущей на земле нашей глупости. От заслуживающей смеха, но высокой нашей глупости.
521
Правящая нами мораль — это отравленная капитализмом мораль феодализма. Она приносит только вред и никаких благодеяний.
Мораль — другое название удобства. Нечто вроде «левостороннего движения».
*
Благодеяния морали — это экономия времени и трудов. Вред морали — это полный паралич совести.
Бездумно опровергать мораль — значит мало смыслить в экономике. Бездумно подчиняться морали — значит быть трусом или
лентяем.*
Сильный попирает мораль. Слабого мораль ласкает. Тот, кого мораль преследует, всегда стоит между сильным и слабым.
Совесть, как всякий вид изящных искусств, имеет своих фанатичных приверженцев. Эти приверженцы на девять десятых — просвещенные аристократы или богачи.
Совесть не появляется с возрастом, как борода. Чтобы приобрести совесть, требуется некоторый опыт.
*
Более девяноста процентов людей от рождения лишены совести.
Трагизм нашего положения в том, что либо по молодости лет, либо из-за недостатка опыта, прежде чем мы приобретем совесть, нас обзывают бессовестными негодяями.
Комизм нашего положения в том, что либо по молодости лет, либо из-за недостатка опыта, после того как нас обзовут бессовестными негодяями, мы наконец приобретаем совесть.
Совесть — строгое искусство.
*
Может быть, совесть источник морали. Но мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром.
522
Как бы то ни было, если верить в рок, преступления не существует, а значит, теряется смысл наказания, следовательно, наше отношение к преступнику должно быть великодушным. В то же время, если верить в свободу воли, возникает представление об ответственности, и чтобы избежать паралича совести, нужно к себе самому быть строгим. Чему же верить?
Отвечу хладнокровно. Надо верить и в свободу воли, и в рок. Или сомневаться и в свободе воли, и в роке. Разве не взяли мы жену в силу довлеющего над нами рока? И разве не покупали мы по требованию жены платья и пояса благодаря свободе воли?
Не только свобода воли и рок, но бог и дьявол, красота и безобразие, смелость и трусость, разум и вера — отношение ко всему этому должно уравновешиваться, как чаши весов. Древние называли это золотой серединой — «тюё». В переводе на английский это — good sense \ Я уверен, что без здравого смысла нельзя достичь счастья. А если и достигнешь, такое счастье обернется злом, как если в жаркий день поддерживать огонь или в холод обмахиваться веером.
Может быть, художник всегда создает свое произведение сознательно. Но если взять произведение как таковое, то часть его красоты или безобразия находится в мире мистики, стоящем выше сознания художника. Часть? Не следует ли сказать: большая часть?
Отвечу сразу, не дожидаясь вопроса. Невозможно, чтобы наш дух не проявился в произведении. Разве старинное обыкновение «одного удара и трех поклонов» не говорит о страхе на пороге бессознательного?
Творчество всегда риск. После того как исчерпаны все человеческие силы, остается лишь положиться на волю неба.
«Когда я был молод и учился писать, то страдал оттого, что не получалось гладко. Скажу одно: старания только полдела, ими одними не достигнешь совершенства. Когда состарюсь, тогда только пойму, что силой не берут: три части — дело человека, семь частей — дар неба». Эти строфы автора «Луныпи» говорят о том же. В искусстве кроется бездонный ужас. Если бы мы не любили денег, если бы не стремились к славе и, наконец, не страдали почти болезненной жаждой творчества, может быть, у нас не хватило бы смелости вступать в борьбу с этим страшным искусством.
1 Здравый смысл (англ.).
523
Счастье писателей-классиков в там, что они как-никак мертвы.
Наше — или ваше — счастье тоже в том, что они как-никак мертвы.
Признаться во всем до конца никто не может. В то же время без признаний выразить себя никак нельзя.
Руссо любил признания. Но найти признание во всей наготе в «Исповеди» нельзя. Мериме не любил признаний. Но разве «Ко-ломба» в скрытом виде не говорит о нем самом? Провести черту между литературой признания и любой другой — невозможно.
Если бы не научившемуся плавать приказали: «Плыви!» — всякий счел бы это глупостью. Если бы не тренированному в беге приказали: «Беги!» — это тоже было бы неразумно. Но все мы с самого рождения получаем такие глупые приказы.
Разве во чреве матери мы учились жить? А не успели мы родиться, как должны вступить в жизнь, очень напоминающую арену борьбы. Конечно, кто не учился плавать, не может быть хорошим пловцом. Кто не тренирован в беге, будет отставать от настоящих бегунов. Так и мы не можем уйти с арены жизни без ран.
Возможно, человек бывалый скажет: «Надо следовать старшим. Они для тебя пример». Но можно видеть сотни пловцов и бегунов и не научиться сразу плавать или бегать. А вместо этого паглотаться воды или перепачкаться в пыли. Смотрите, разве мировые чемпионы за гордой улыбкой не прячут гримасу?
Человеческая жизнь похожа на олимпийские игры под началом сумасшедшего устроителя. Мы учимся бороться с жизнью, борясь с жизнью. Тем, кто не может без негодования смотреть на такую глупую игру, лучше скорее отойти от арены. Самоубийство, несомненно, тоже хороший способ. Но кто хочет оставаться на арене жизни, должен бороться, не боясь ран.
Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обращаться с ней серьезно — смешно. Обращаться не серьезно опасно.
524
Человеческая жизнь похожа на книгу, в которой не хватает многих страниц. Трудно сказать, что это полный экземпляр. И все же, как бы то ни было, она составляет полный экземпляр.
«Любовь сильнее смерти»1 — название романа Мопассана. Но сильнее смерти на свете не только любовь. Например, больной брюшным тифом съедает бисквит, зная, что непременно умрет, — это доказывает, что и желание лакомиться бывает сильнее смерти. Можно назвать и многое другое — патриотизм, религиозный экстаз, человечность, корыстолюбие, честолюбие, преступные инстинкты, — несомненно, многое сильнее смерти (разумеется, жажда смерти — исключение). В какой мере любовь сильнее смерти, чем все остальное, я затрудняюсь сказать. Даже в тех случаях, когда нам кажется, что любовь сильнее смерти, на самом деле нами движет то, что французы называют боваризмом. Сентиментализм, существующий со времен Бовари, при котором мы воображаем себя любовниками из романа.
Публика любит скандалы. Инцидент с Белым Лотосом, инцидент с Арисима, инцидент с Мусякодзи — эти инциденты принесли публике огромное удовлетворение. Почему же публика любит скандалы, особенно если замешаны лица, пользующиеся известностью? Реми де Гурмон на это отвечает:
«Потому что их скандалы напоминают нам о наших собственных скандалах».
Ответ Гурмона правилен. И не только правилен. Те обыкновенные люди, которые сами не способны на скандал, находят в скандалах знаменитостей превосходное оправдание своей трусости. И в то же время превосходный пьедестал, на который можно возвести свое несуществующее превосходство. «Я не так красива, как Белый Лотос. Зато я целомудренней». «Я не так талантлив, как Арисима. Зато я лучше знаю жизнь». «Я не так...» Обыватели, сказав это, счастливо спят, как свиньи.
Причина, по которой нет совершенных утопий, состоит, в общем, в следующем. Если считать, что человек как таковой не изменится, совершенная утопия не может быть создана. Если счи-
1 Имеется в виду роман Мопассана «Сильна, как смерть».
525
тать, что человек как таковой изменится, то всякая утопия, как будто и совершенная, сразу же покажется несовершенной.
*
Назвать деспота деспотом всегда было опасно. А в наши дни настолько же опасно назвать рабов рабами.
Сильный человек не боится врагов, зато боится друзей. Повергая одним ударом врага, он не чувствует никакого огорчения, но невольно ранить друга боится, как женщина.
Слабый не боится друзей, зато боится врагов. И поэтому в каждом видит врага.
Чтобы сделать жизнь счастливой, надо любить повседневные мелочи. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих — во всех повседневных мелочах надо находить наслаждение.
Чтобы сделать жизнь счастливой? Но любить мелочи — значит и страдать из-за мелочей. Лягушка, прыгнувшая в старый пруд в саду, разбила столетнюю печаль. Но лягушка, выпрыгнувшая из старого пруда, может быть наделена столетней печалью. Жизнь Басе была жизнью наслаждений. Но на любой взгляд — и жизнью страданий. Чтобы, улыбаясь, наслаждаться, надо, улыбаясь, страдать.
Чтобы сделать жизнь счастливой, надо из-за повседневных мелочей страдать. Блеск облаков, шелест бамбука, чириканье воробьев, лица прохожих — во всех повседневных мелочах надо чувствовать муки попавшего в ад.
Из всего, что свойственно богам, наибольшее сожаление вызывает то, что они не могут совершить самоубийства.
Мы находим бесчисленные причины, по которым следует поносить бога. Но, к несчастью, в бога столь всемогущего, что его стоит поносить, мы, японцы, не верим.
526
Простые люди — здоровые консерваторы. Общественный строй, идеи, искусство, религия — все это, чтобы снискать любовь народа, должно носить печать старины. И в том, что так называемых художников народ не любит, они не всегда повинны.
Обнаружить глупость народа — этим не стоит гордиться. Но обнаружить, что мы сами тоже народ, — этим гордиться стоит.
И я в школьные годы учил истории про Каибара Эккэна. Кап-бара Эккэн как-то на судне оказался вместе с одним студентом. Студент, видимо гордясь своими познаниями, разглагольствовал о разных науках и искусствах. Эккэн, ни словом не вмешиваясь, просто слушал. Тем временем судно подошло к берегу. Пассажирам перед выходом полагалось сообщить свое имя. Только тут студент узнал Эккэна и, смутившись перед великим конфуцианцем, попросил прощения за свою давешнюю неучтивость. Такой эпизод я учил.
В то время в этом эпизоде я разглядел красоту скромности. По крайней мере, старался разглядеть. Но, к несчастью, теперь я не могу почерпнуть в нем ничего поучительного. Этот эпизод представляет для меня теперь некоторый интерес лишь по таким соображениям:
Как язвительно было презрение, с которым Эккэн слушал, не произнося ни слова!
Как вульгарны аплодисменты пассажиров, радовавшихся тому, что студент пристыжен!
Как живо трепетал в разглагольствованиях студента дух нового времени, незнакомый Эккэну!
Талант тоже строго ограничен рамками. Ощущение этих рамок навевает легкую грусть. И в то же время как-то непроизвольно вызывает умиление. Это как если поймешь, что бамбук — это бамбук, а дикий виноград — дикий виноград.
Спрашивать, есть ли люди на Марсе, все равно что спрашивать, есть ли люди, которых мы можем обнаружить с помощью
527
пяти чувств. Но жизнь не ограничивается рамками, которые можно различить с помощью пяти чувств. Если допустить, что форма существования людей на Марсе находится вне сферы восприятия наших пяти чувств, то не исключено, что и сегодня вечером они толпой, вместе с осенним ветерком, под которым желтеют кантонские платаны, проходят по Гиндза.
Заурядное произведение, даже крупное по объему, всегда похоже на комнату без окон. Оно не открывает широкого вида на человеческую жизнь.
Отвращение к находчивости коренится в усталости людей.
Политическая осведомленность, которой политики гордятся больше нас, профанов, — это знание всевозможных фактов. В конечном счете эта осведомленность зачастую не идет дальше знания того, какую шляпу носит такой-то лидер такой-то партии.
Так называемые «трактирные политики» не имеют подобных знаний. Что же касается их взглядов, то тут они не уступают настоящим политикам. А за их бескорыстный пыл они всегда заслуживают больше уважения, чем настоящие политики.
Романы Достоевского изобилуют карикатурами. Правда, большинство из них могло бы повергнуть в уныние самого дьявола.
Чему Флобер меня научил — это красивой скуке.
Мопассан похож на лед. А временами на леденец.
528
Прежде чем создать сфинкса, По изучал анатомию. Тайна, которая привела в содрогание следующие поколения, таится в этом изучении.
«Продает ли художник произведение искусства или я продаю консервированных крабов, особой разницы тут нет. Но художники думают, что искусство — величайшее сокровище мира. Подражая им, я бы тоже должен гордиться своими консервами стоимостью шестьдесят сэнов за банку. Но за шестьдесят календарных лет я еще ни разу не страдал таким глупым самомнением, как художники».
Соответствуют ли родители своей роли воспитателей детей, это вопрос. Конечно, быков и лошадей воспитывают их родители. Но защищать этот обычай ссылкой на природу — произвол родителей. Если бы ссылкой на природу можно было защитить любой обычай, нам следовало бы защищать свойственный дикарям брак умыканием.
Родительская любовь — любовь самая бескорыстная. Но бескорыстная любовь не так уж годится для воспитания детей. Под влиянием такой любви — по крайней мере, главным образом под влиянием такой любви — ребенок становится либо деспотом, либо слабовольным.
Издавна большинство родителей повторяет такие слова: «Я, в конце концов, неудачник. Но мой ребенок должен добиться успеха».
Считать крупное произведение шедевром — значит оценивать его с материальной точки зрения. Когда говорят, что произведение крупное, то имеют в виду только оплату. Гораздо больше, чем фреску «Страшный суд» Микеланджело, я люблю «Автопортрет» старика Рембрандта.
Мои любимые произведения, я имею в виду литературные, — это те, в которых чувствуется, что автор — человек. Человек —
529
с мозгом, сердцем и настоящими чувствами. Однако, к несчастью, писатели в большинстве своем калеки с каким-нибудь изъяном. (Правда, иногда нельзя не склониться перед великим калекой.)
Полагаться только на опыт — значит полагаться только на пищу, не думая о пищеварении. В то же время, пренебрегая опытом, полагаться только на способности — все равно что, не думая о пище, полагаться только на пищеварение.
Говорят, что у греческого героя Ахиллеса уязвимой была только пята. Значит, для того чтобы знать Ахиллеса, надо было знать и его пятку.
Больше всего я был поражен тем, что Ленин — великий и в то же время такой простой человек.
Самый счастливый художник тот, который приобрел славу в пожилых годах. Куникида Доппо, если об этом подумать, отнюдь не несчастный художник.
Женщина не всегда хочет иметь мужем хорошего человека. Но мужчина всегда хочет иметь другом хорошего человека.
Хороший человек все равно что бог на небесах. Во-первых, хорошо рассказать ему о своей радости. Во-вторых, хорошо пожаловаться ему на свое недовольство. В третьих... есть ли он, нет ли, все хорошо.
«Ненавидеть преступление, но не ненавидеть преступника» — это не так уж трудно. Этот афоризм применим к большинству детей, если иметь в виду их отношение к родителям.
530
Народ любит слушать рассуждения о величии личностей и дел. Но чтобы жаждать встречи лицом к лицу с величием — такого в истории еще не бывало.
Воздействие картины длится триста лет, воздействие письма — пятьсот лет, воздействие литературного произведения нескончаемо — так сказал Ван Шан-чжэн. Но, судя по раскопкам в Дунь-хуане, воздействие письма и картины длится дольше, чем пятьсот лет. Более того, вечно ли воздействие литературного произведения — это вопрос. Идеи не в силах выйти из-под власти времени. Нашим предкам при слове «бог» представлялся человек в пкан и сокутай. А нам при том же слове представлялся европеец с длинной бородой. И надо полагать, что так же может обстоять со многим другим, а не только с идеей бога.
Я как-то вспомнил виденный мною портрет Тбсю Сяраку. Человек, изображенный на портрете, держал у груди раскрытый веер с зеленым рисунком волн в стиле Корина. Это усиливало прелесть колорита всей картины. Но, посмотрев в лупу, я увидел, что то, что мне казалось зеленым, было золото, покрытое паутиной. В этой картине Сяраку я почувствовал красоту — это факт. Но не ту красоту, которая была схвачена Сяраку, — это тоже факт. Такая перемена может возникнуть и в литературном тексте.
Искусство подобно женщине. Чтобы выглядеть как можно красивее, оно должно быть окутано духовной атмосферой своего времени или облачено в одежду по моде своего времени.
К тому же искусство испытывает и давление пространства. Чтобы любить искусство народа, надо знать жизнь этого народа. Полномочный посланник Англии сэр Рутерфорд Элькок, подвергшийся в храме Тодзэндзи нападению ронинов, нашу японскую музыку воспринимал просто как шум, В его книге «Три года в Японии» содержатся такие строки: «Подымаясь по склону, мы
531
услышали пенье камышевки, похожее на пенье соловья. Говорят, что японцы научили камышевку песням. Если это правда, то поистине удивительно. Ведь искони японцы сами не могли научиться музыке» (том 2, глава 29).
От таланта нас отделяет едва один шаг. Но чтобы понять, что это за шаг, надо постигнуть высшую математику, в которой половину ста ри составляют девяносто девять ри.
От таланта нас отделяет всего один шаг. Современники никогда не понимают, что это шаг длиной в тысячу ри. Потомки слепы и тоже этого не понимают. Современники из-за этого убивают талант. Потомки из-за этого курят перед талантом фимиам.
Трагедия таланта в том, что его наделяют «миленькой уютной славой».
Борьба со случайностью, то есть с богом всегда полна мистического величия. Азартные игроки — не исключение из правил.
Исстари среди увлекающихся азартной игрой нет пессимистов, это показывает, насколько похожа азартная игра на человеческую жизнь.
Закон запрещает азартные игры не из-за того, что осуждает такой способ распределения богатства. А из-за того, что осуждает экономический дилетантизм этого способа.
Терпение — романтическая трусость.
Делать —не всегда трудно. Трудно желать. По крайней мере, желать то, что стоит делать.
532
Полагать, что мы, японцы, вот уже две тысячи лет верны монарху и почтительны к родителям, все равно что думать, будто Сарутахико-но микото употреблял косметику. Не пересмотреть ли потихоньку подряд все исторические факты, как они есть?
Японские пираты показали, что мы, японцы, имеем достаточно сил, чтобы стоять в ряду с великими державами. В грабежах, резне, разврате мы отнюдь не уступаем испанцам, португальцам, голландцам и англичанам, пришедшим искать «Остров золота».
Один из симптомов любви — это мысль, что «она» в прошлом кого-то любила, желание узнать, кто он, тот, кого «она» любила, или что он был за человек, и чувство смутной ревности к этому воображаемому человеку.
Еще один симптом любви — это болезненное стремление находить лица, похожие на «нее».
То, что любовь наводит на мысль о смерти, возможно, подтверждает эволюционную теорию. У пауков и пчел самки сразу же после оплодотворения жалят и убивают самца. Когда гастролирующая итальянская труппа ставила оперу «Кармен», в каждом действии и движении Кармен я остро чувствовал пчелу.
Брак полеаен для успокоения чувственности. Для успокоения любви он бесполезен.
Нас спасает от любви не столько рассудок, сколько занятость. Любовь... Для идеальной любви прежде всего нужно время. Вспомните любовников прошлого — Вертера, Ромео, Тристана: все они были люди праздные.
533
Мужчина искони больше любви ценит работу. Если кто-либо усомнится в этом факте, пусть почитает письма Бальзака. Бальзак писал графине Ганской: «Если б это письмо обратить в рукопись, сколько франков оно стоило бы! а
Либерализм, свободная любовь, свобода торговли — к сожалению, в чашу каждой «свободы» подлито много воды. Причем большей частью воды из лужи.
Свободы всякий хочет. Но так кажется со стороны. На самом же деле в глубине души свободы никто нисколько не хочет. Бот доказательство: негодяй, который без колебаний готов лишить жизни любого, даже он говорит, будто убил такого-то ради безопасности и процветания государства. Однако свобода означает, что наши действия не связаны ничем, то есть ниже нашего достоинства нести общую ответственность за что-либо, идет ли речь о боге, морали или общественных обычаях.
Свобода — как воздух горных вершин — для слабых людей непереносима.
Поистине, видеть свободу — значит смотреть в лицо богам.
Исстари особенно рьяно провозглашали «искусство выше всего» большей частью кастраты от искусства. Ведь и особо рьяные националисты — это большей частью люди погибшей страны. Никто из нас не желает того, чем мы уже обладаем.
Слова литературного произведения должны обладать красотой, которой они лишены в словаре.
534
Все они, как Тёгю, провозглашают! -вЛитература — это человек». Но в глубине души всякий думает: «Человек — это литература».
Когда женщина охвачена страстью, лицом она почему-то делается похожа на девочку. Правда, эта страсть может быть обращена и на зонтик.
Тушить не так легко, как поджигать. Сторонником такой житейской мудрости является герой «Bel ami»1. Каждый раз, заводя любовницу, он уже загодя обдумывал разрыв.
Почему мы любим маленьких детей? Да хотя бы потому, что ребенок никогда не обманет, этого можно не опасаться.
Мы не стыдимся нашей холодности и глупости, когда имеем дело с ребенком, с собакой или с кошкой.
Чтобы писать, необходим творческий жар. А для поддержания творческого жара больше всего необходимо здоровье. Пренебрегать шведской гимнастикой, вегетарианством, диастазой и т. п. — значит не иметь истинного желания писать.
Тому, кто хочет писать, стыдиться себя — преступно. В душе, где гнездится такой стыд, никогда не пробьется росток творчества.
Многоножка. Попробуй походить на ногах. Бабочка. Ха, попробуй полетать на крыльях.
1 «Милый друг» (Франц.),
535
Возвышенность духа писателя помещается у него в затылке. Сам он видеть ее не может. Если же попытается увидеть во что бы то ни стало, то лишь сломает шею.
Все таланты с давних пор вешали шляпу на гвоздь в стене так высоко, что нам, простым смертным, не достать. Конечно, не потому, что нет подставки.
о том же Ведь такие подставки валяются в лавке любого старьевщика.Каждому писателю свойственно чувство чести столяра. Ничего позорного в этом нет. Каждому столяру свойственно чувство чести писателя.
Мало того, каждый писатель в известном смысле держит лавку. Я не продаю своих произведений? Это когда нет покупателей. Или когда можно не продавать.
Не без оснований можно считать, что счастье актеров и певцов в том, что произведения их искусства не сохраняются.
Защищать себя труднее, чем защищать других. Кто сомневается, пусть посмотрит на адвокатов.
Здравый ум приказывает: «Не приближайся к женщинам». Но здоровый инстинкт приказывает совсем обратное: «Не избегай женщин».
Причина нашей любви к природе — по крайней мере, одна из причин, — это то, что природа не ревнует и не обманывает, как мы, люди.
536
Судьба неизбежнее, чем случайность. «Судьба заключена в характере», — эти слова родились отнюдь не зря.
Самое трудное искусство — это всю жизнь оставаться свободным. Только словом «свободный» не надо бездумно щеголять.
Слабость свободного мыслителя состоит в том, что он свободно мыслит. Он не может сражаться яростно, как фанатик.
Когда прочтешь «Биографию Толстого» Бирюкова, то ясно, что «Моя исповедь» и «В чем моя вера» — ложь. Но никто не страдал так, как страдал Толстой, рассказавший эту ложь. Его ложь сочится алой кровью больше, чем правда иных.
Он знал все. Но он не открывал беззастенчиво все, что знал. Беззастенчиво все... Нет, он, как и мы, был немного расчетлив.
Стриндберг в «Легендах» рассказывает, что он пробовал, мучительна ли смерть. Но такую пробу нельзя сделать, играя. Он один из тех, кто «хотел умереть, но не мог».
Он сам нисколько не сомневался в том, что он реалист. Однако, думая так, он в конечном счете был идеалистом.
Любовь — это половое чувство, выраженное поэтически. По крайней мере, не выраженное поэтически половое чувство не заслуживает названия любви.
537
Единственное общее для всех людей чувство — страх смерти. Не случайно нравственно самоубийство не одобряется.
Маинлендер очень правильно описывает очарование смерти. В самом деле, если по какому-нибудь случаю мы почувствуем очарование смерти, не легко уйти из ее круга. Больше того, думая о смерти, мы как будто описываем вокруг нее круги.
Наследственность, окружение, случайность — вот три вещи, управляющие нашей судьбой. Кто радуется, пусть радуется. Но судить других — самонадеянно.
Кто насмехается над другими, сам боится насмешек других.
Человеческое, слишком человеческое — большей частью нечто животное.
Он был уверен, что может стать негодяем, но не идиотом. Но прошли годы, он не стал негодяем, а стая ндиотом.
О греки, поставившие над Юпитером бога мести! Вы знали всё и вся.
Но это в то же время показывает, как медленен наш прогресс, прогресс людей.
Мудрость одного лучше мудрости народа. Если бы только она была проще...
538
Он был поэт-сатанист. Но, разумеется, в реальной живни он только раз на горьком оцыте убедился, что значит выйти из зоны безопасности.
Больше всего мы гордимся тем, чего у нас нет. Например, Т. владел немецким, но на столе у него всегда лежали только английские книги.
Никто не возражает против низвержения идолов. Вместе с тем никто не возражает и против того, чтобы его самого сделали идолом.
Но превратить кого бы то ни было в настоящего идола никто не может. Разве что судьба.
Особенность людей состоит в том, что мы совершаем ошибки, которых боги не делают.
Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным. Но поручатся ли боги, что ты останешься ненаказанным, это другой вопрос.
У меня нет совести. У меня есть только нервы.
Я был равнодушен к деньгам. Конечно, потому, что на еду их хватало.
И Шекспир, и Гете, и Ли Тай-бо, и Тикамацу Мондзазмон погибнут. Но искусство оставит семена в народе. В 1923 году я написал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». В этом своем убеждении я и поныне ничуть не поколебался.
539
Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет. (Первый день первого года Сева.)
Конечно, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне.
<З class=sma>1923—1926В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, по сообщениям газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты командирами, мы — подножка для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и т. п. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых властям не под силу.
Кроме того, власти, не думая о будущем, запретили произведения, призывающие не хранить [верность императорской армии]. [Верность], как и любовь, не может зиждиться на лжи. Ложь — это вчерашняя правда, нечто вроде клановых кредиток, ныне не имеющих хождения. Власти, навязывая ложь, призывают хранить верность. Это все равно что, всучивая клановую кредитку, требовать взамен нее монету.
Как наивны власти.
Вершина принципа «искусство выше всего» — творчество Флобера. По его собственным словам, «бог является во всем им созданном, но человеку он свой образ не являет. Отношение художника) к своему творчеству должно быть таким же». Вот почему в «Мадам Бовари» хоть и разворачивается микрокосм, но наших чувств он не затрагивает.
Принцип «искусство выше всего», — по крайней мере, в литературном творчестве — этот принцип, несомненно, вызывает лишь зевоту.
540
Некто скверно одетый носил хорошую шляпу. Многие считали, что ему лучше обойтись без такой шляпы... Но дело в том, что, за исключением шляпы, он не носил ничего хорошего. И вид у него был обшарпанный.
У одного рассказы сентиментальны, у другого драмы интеллектуальны, это то же самое, что случай со шляпой. Если хороша только шляпа, то вместо того, чтобы обходиться без нее, лучше постараться надеть хорошие брюки, пиджак и пальто. Сентиментальным писателям следует не подавлять чувства, а стремиться вдохнуть жизнь в интеллект.
Это не только вопрос искусства, это вопрос самой жизни. Я не слыхал, чтобы монах, который только и делает, что подавляет в себе пять чувств, стал великим монахом. Великим монахом становится тот, кто, подавляя пять чувств, загорается другой страстью. Ведь даже Унсё, услыхав об оскоплении монахов, вразумляет учеников: «Мужское начало должно полностью выявляться».
Все, что в нас имеется, надо развивать до предела. Это единственный данный нам путь к тому, чтоб достигнуть совершенства и стать буддою.
Поскольку рассказ исторический, то и обычаи и чувства людей изображаемой эпохи обычно более или менее правдивы. Но хорошо иметь произведения, где главной темой была бы какая-нибудь одна особенность эпохи, — например, моральная особенность. Так, в период Хэйан представления об отношениях мужчины и женщины сильно отличались от теперешних. Пусть бы писатель описал это объективно, так, будто сам был другом Идзуми Сикибу. Подобный исторический рассказ по контрасту с современностью, естественно, вызывал бы у нас множество мыслей. Такова Изабелла у Мериме. Таков пират у Франса.
Однако среди японских исторических рассказов ничего подобного пока нет. Японские рассказы — это, в общем, наброски, где в душе древнего человека светится нечто общечеловеческое, общее с людьми нынешнего времени. Но пойдет ли кто-нибудь из молодых талантов по новому пути?
Правота социализма не подлежит дискуссиям. Социализм — просто неизбежность. Тот, кто не чувствует, что эта неизбежность
541
неизбежна) как, например, фанатики, ступающие по огню, — вызывает во мне чувство изумления. «Проект закона о контроле над экстремистскими мыслями» как раз хороший тому пример.
Вы часто поощряете меня: «Пиши больше о своей жизни, не бойся откровенничать!» Но ведь нельзя сказать, чтобы я не был откровенным. Мои рассказы — это до некоторой степени признание в том, что я пережил. Но вам этого мало. Вы толкаете меня на другое: «Делай самого себя героем рассказа» пиши без стеснения о том, что приключилось с тобой самим». Вдобавок вы говорите: «И в конце рассказа приведи в таблице рядом с вымышленными и подлинные имена всех действующих лиц рассказа». Нет уж, увольте!
Во-первых, мне неприятно показывать вам, любопытствующим, всю обстановку моей жизни. Во-вторых, мне неприятно ценой таких признаний приобретать лишние деньги и имя. Например, если бы я, как Исса, написал «Кого-кироку» и это было бы помещено в новогоднем номере «Тюо-корон» или другого журнала — все читатели заинтересовались бы. Критики хвалили бы, заявляя, что наступил поворот, а приятели — за то, что я оголился... при одной мысли я покрываюсь холодным потом.
Даже Стриндберг, будь у него деньги, не издал бы «Исповеди глупца». А когда ему пришлось это сделать, он не захотел, чтобы она вышла на родном языке. И мне, если нечего будет есть, может быть, придется как-нибудь добывать себе на жизнь. Однако пока я хоть и беден, но свожу концы с концами. И пусть телом болен, по душевно здоров. Симптомов мазохизма у меня нет. Кто же станет превращать в повесть-исповедь то, чего стыдился бы, даже получив благодарность?
Всех социалистов, не говоря уже о большевиках, некоторые считают опасными. Утверждают, в особенности утверждали во время великого землетрясения, будто из-за них произошли всякие беды. Но если говорить о социалистах, то Чарли Чаплин тоже социалист. И если преследовать социалистов, то надо преследовать и Чаплина. Вообразите, что Чаплин убит жандармом. Вообразите, как он идет вразвалочку и его закалывают. Ни один человек, видевший Чаплина в кино, не сможет удержать справедливого негодования. Но попробуйте перенести это негодование в действительность, и вы сами, наверное, попадете в черный список.
И я, как большинство литературных работников, завален работой. И занятия не идут, как хочется. Книги, которые я решил прочесть еще два-три года назад, лежат непрочитанными. Я думал, что такие неприятные обстоятельства бывают только у нас, в Японии. Но недавно я прочел о Реми де Гурмоне. Он даже в преклонные годы ежедневно писал статью для газеты «Ля Франс» и раз в две недели интервью для журнала «Меркюр де Франс». Значит, и писатель, родившийся во Франции, где ценят искусство, почти лишен спокойного досуга. То, что я, уроженец Японии, выражаю недовольство, может быть, и несправедливо.
По дороге в Шанхай я разговорился с капитаном «Тикуго-мару». Разговор шел о произволе партии Сэйюкай, о «справедливости» Ллойд Джорджа и т. п. Во время беседы капитан, взглянув на мою визитную карточку, в восхищении склонил голову набок.
— Вы господин Акутагава — удивительно! Вы из газеты «Осака майнити»? Ваша специальность — политическая экономия?
Я ответил неопределенно.
Немного спустя мы говорили о большевизме, и я процитировал статью, помещенную в только что вышедшем номере «Тюб-корон». К сожалению, капитан не принадлежал к читателям этого журнала.
— Право, «Тюо-корон» не так уж плох, — недовольным тоном добавил капитан, — но слишком много помещает беллетристики, мне и расхотелось его покупать. Нельзя ли с этим покончить?
Я принял по возможности безразличный вид.
— Конечно. К чему она — беллетристика? Я и то думаю — лучше б ее не было...
С тех пор я проникся к капитанам особым доверием.
Вот толкование слова «кошка» в словаре «Гэнкай».
Кошка... небольшое домашнее животное. Хорошо известна. Ласкова, легко приручается; держат ее, потому что хорошо ловит мышей. Однако обладает склонностью к воровству. С виду похожа на тигра, но длиной менее двух сяку.
В самом деле, кошка может украсть рыбу, оставленную на столе. Но если назвать это «склонностью к воровству», ничто не мешает сказать, что у собак склонность к разврату, у ласточек — к вторжению в жилища, у змей —к угрозам, у бабочек —к бро-
543
дяжничеству, у акул — к убийству. По-моему, автор словаря «Гэн-кай» Оцуки Фумихико — старый ученый, имеющий склонность к клевете, по крайней мере, на птиц, рыб и зверей.
Я не жду, что получу признание в будущие времена. Суждение публики постоянно бьет мимо цели.
О публике нашего времени и говорить нечего. История показала нам, насколько афиняне времен Перикла и флорентинцы времен Возрождения были далеки от идеала публики. Если такова сегодняшняя и вчерашняя публика, то легко предположить, каким будет суждение публики завтрашнего дня. Как ни жаль, но я не могу не сомневаться в том, сумеет ли она и через сотни лет отделить золото от песка.
Допустим, что существование идеальной публики возможно, но возможно ли в мире искусства существование абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это всего лишь сегодняшние глаза, отнюдь не мои завтрашние. И мои глаза — это глаза японца, а никак не глаза европейца. Почему же я должен верить в существование красоты, стоящей вне времени и места? Правда, пламя дантовского ада и теперь еще приводит в содрогание детей Востока. Но ведь между этим пламенем и нами, как туман, стелется Италия четырнадцатого века — разве не так?
Тем более я, простой литератор. Пусть и существует всеобщая красота, но прятать свои произведения на горе я не стану. Ясно, что я не жду признания в будущие времена. Иногда я представляю себе, как через пятнадцать, двадцать, а тем более через сто лет даже о моем существовании уже никто не будет знать. В это время собрание моих сочинений, погребенное в пыли, в углу на полке у букиниста на Канда, будет тщетно ждать читателя. А может быть, где-нибудь в библиотеке какой-нибудь отдельный томик станет пищей безжалостных книжных червей и будет лежать растрепанным и обгрызенным так, что и букв не разобрать. И, однако...
Я думаю — и, однако.
Однако, может быть, кто-нибудь случайно заметит мои сочинения и прочтет какой-нибудь короткий рассказец или несколько строчек из него? И, может быть, если уж говорить о сладкой надежде, может быть, этот рассказ или эти строчки навеют, пусть хоть ненадолго, неведомому мне будущему читателю прекрасный сон?
Я не жду признания в будущие времена. Поэтому понимаю, насколько такие мечты противоречат моему убеждению.
544
И все-таки я представляю себе — представляю себе читателя, который в далекое время, через сотни лет, возьмет в руки собрание моих сочинений. И как в душе этого читателя туманно, словно мираж, предстанет мой образ...
Я понимаю, что умные люди будут смеяться над моей глупостью. Но смеяться я и сам умею, в этом я не уступлю никому. Однако, смеясь над собственной глупостью, я не могу не жалеть себя за собственную душевную слабость, цепляющуюся за эту глупость. Не могу не жалеть вместе с собой и всех других душевно слабых людей...
1926
Это история, которую рассказывает всем пациент номер двадцать третий одной психиатрической больницы. Ему, вероятно, уже за тридцать, но на первый взгляд он кажется совсем молодым. То, что ему пришлось испытать... впрочем, совершенно не важно, что ему пришлось испытать. Вот он неподвижно сидит, обхватив колени, передо мной и доктором С, директором больницы, и утомительно длинно рассказывает свою историю, время от времени обращая взгляд на окно, где за решеткой одинокий дуб протянул к хмурым снеговым тучам голые, без единого листа, ветви. Иногда он даже жестикулирует и делает всевозможные движения телом. Например, произнося слова «я был поражен», он резким движением откидывает назад голову.
По-моему, я записал его рассказ довольно точно. Если моя запись не удовлетворит вас, поезжайте в деревню Н., недалеко от Токио, и посетите психиатрическую больницу доктора С. Моложавый двадцать третий номер сначала, вероятно, вам вежливо поклонится и укажет на жесткий стул. Затем с унылой улыбкой тихим голосом повторит этот рассказ. А когда он закончит... Я хорошо помню, какое у него бывает при этом лицо. Закончив рассказ, он поднимется на ноги и закричит, потрясая сжатыми кулаками:
— Вон отсюда! Мерзавец! Грязная тварь! Тупая, завистливая, бесстыжая, наглая, самодовольная, жестокая, гнусная тварь! Прочь! Мерзавец!
1
Это случилось летом три года назад. Как и многие другие, я взвалил на спину рюкзак, добрался до горячих источников Ками-коти и начал оттуда восхождение на Хотакаяма. Известно, что
18 Акутагава Рюноскэ
545
путь на Хотакаяма один — вверх по течению Адзусагава. Мне уже приходилось раньше подниматься на Хотакаяма и даже на Ярйга-такэ, поэтому проводник мне был не нужен, и я отправился в путь один по долине Адзусагава, утопавшей в утреннем тумане. Да..; утопавшей в утреннем тумане. Причем этот туман и не думал рассеиваться. Наоборот, он становился все плотнее и плотнее. После часа ходьбы я начал подумывать о том, чтобы отложить восхождение и вернуться обратно, в Камикоти. Но если бы я решил вернуться, мне все равно пришлось бы ждать, пока рассеется туман, а он, как назло, с каждой минутой становился плотнее. «Эх, подниматься, так подниматься», — подумал я и полез напролом через заросли бамбука, стараясь, впрочем, не слишком удаляться от берега.
Единственное, что я видел перед собой, был плотный туман. Правда, время от времени из тумана выступал толстый ствол бука или зеленая ветка пихты или внезапно перед самым лицом возникали морды лошадей и коров, которые здесь паслись, но все это, едва появившись, вновь мгновенно исчезало в густом тумане. Между тем ноги мои начали уставать, а в желудке появилось ощущение пустоты. К тому же мой альпинистский костюм и плед, насквозь пропитанные туманом, сделались необыкновенно тяжелыми. В конце концов я сдался и, угадывая направление по плеску воды на камнях, стал спускаться к берегу Адзусагава.
Я уселся на камень возле самой воды и прежде всего занялся приготовлением пищи. Открыл банку солонины, разжег костер из сухих веток... На это у меня ушло, наверное, около десяти минут, и тут я заметил, что гнусный туман начал потихоньку таять. Дожевывая хлеб, я рассеянно взглянул на часы. Вот так штука! Было уже двадцать минут второго. Но больше всего меня поразило другое. Отражение какой-то страшной рожи мелькнуло на поверхности круглого стекла моих часов. Я испуганно обернулся. И... Вот когда я впервые в жизни увидел своими глазами настоящего живого каппу. Он стоял на скале позади меня, совершенно такой, как на старинных рисунках, обхватив одной рукой белый ствол березы, а другую приставив козырьком к глазам, и с любопытством глядел на меня.
От удивления я некоторое время не мог пошевелиться. Видимо, каппа был поражен. Он так и застыл с поднятой рукой. Я вскочил и кинулся к нему. Он тоже побежал. Во веяком случае, так мне показалось. Он метнулся в сторону и тотчас же исчез, словно сквозь землю провалился. Все больше изумляясь, я оглядел бамбуковые заросли. И что же? Каппа оказался всего в двух-трех метрах от меня. Он стоял пригнувшись, готовый бежать, и смотрел на меня через плечо. В этом еще не было ничего странного. Что меня
546
озадачило и сбило с толку, так это цвет его кожи. Когда каппа смотрел на меня со скалы, он был весь серый. А теперь он с головы до ног сделался изумрудно-зеленым. «Ах ты дрянь этакая!» — заорал я и снова кинулся к нему. Разумеется, он побежал. Минут тридцать я мчался за ним, продираясь сквозь бамбук и прыгая через камни.
В быстроте ног и проворстве каппа не уступит никакой обезьяне. Я бежал за ним сломя голову, то и дело теряя его из виду, скользя, спотыкаясь и падая. Каппа добежал до огромного развесистого конского каштана, и тут, на мое счастье, дорогу ему преградил бык. Могучий толсторогий бык с налитыми кровью глазами. Увидев его, каппа жалобно взвизгнул, вильнул в сторону и стремглав нырнул в заросли — туда, где бамбук был повыше. А я-. Что ж, я медленно последовал за ним, потому что решил, что теперь ему от меня не уйти. Видимо, там была яма, о которой я и не подозревал. Едва мои пальцы коснулись наконец скользкой спины каппы, как я кувырком покатился куда-то в непроглядный мрак. Находясь на волосок от гибели, мы, люди, думаем подчас об удивительно нелепых вещах. Вот и в тот момент, когда у меня дух захватило от ужаса, я вдруг вспомнил, что неподалеку от горячих источников Камикоти есть мост, который называют «Мостом Капп» — «Каппабаси». Потом... Что было потом, я не помню. Перед глазами у меня блеснули молнии, и я потерял сознание.
2
Когда я наконец очнулся, меня большой толпой окружали каппы. Я лежал на спине. Возле меня стоял на коленях каппа в пенсне на толстом клюве и прижимал к моей груди стетоскоп. Заметив, что я открыл глаза, он жестом попросил меня лежать спокойно и, обернувшись к кому-то в толпе, произнес: «Quax, quax». Тотчас же откуда-то появились двое капп с носилками. Меня переложили на носилки, и мы в сопровождении огромной толпы медленно двинулись по какой-то улице. Улица эта ничем не отличалась от Гиндза. Вдоль буковых аллей тянулись ряды всевозможных магазинов с тентами над витринами, по мостовой неслись автомобили.
Но вот мы свернули в узкий переулок, и меня внесли в здание. Как я потом узнал, это был дом того самого каппы в пенсне, доктора Чакка. Чакк уложил меня в чистую постель и дал мне выпить полный стакан какого-то прозрачного лекарства. Я лежал, отдавшись на милость Чакка. Да и что мне оставалось делать? Каждый сустав у меня болел так, что я не мог шелохнуться.
18*
547
Чакк ежедневно по нескольку раз приходил осматривать меня. Раз в два-три дня навещал меня и тот каппа, которого я увидел впервые в жизни, — рыбак Багг. Каппы знают о нас, людях, намного больше, чем мы, люди, знаем о каппах. Вероятно, это потому, что люди попадают в руки капп гораздо чаще, чем каппы попадают в наши руки. Может быть, «попадать в руки» — не совсем удачное выражение, но, как бы то ни было, люди не раз появлялись в стране капп и до меня. Причем многие так и оставались там до конца дней своих. Почему? — спросите вы. А вот почему. Живя в стране капп, мы можем есть, не работая, благодаря тому только, что мы люди, а не каппы. Такова привилегия людей в этой стране. Так, по словам Багга, в свое время к каппам совершенно случайно попал молодой дорожный рабочий. Он женился на самке каппа и прожил с нею до самой смерти. Правда, она считалась первой красавицей в стране водяных и потому, говорят, весьма искусно наставляла рога дорожному рабочему.
Прошла неделя, и меня, в соответствии с законами этой страны, возвели в ранг «гражданина, пользующегося особыми привилегиями». Я поселился по соседству с Чакком. Дом мой был невелик, но обставлен со вкусом. Надо сказать, что культура страны капп почти не отличается от культуры других стран, по крайней мере, Японии. В углу гостиной, выходящей окнами на улицу, стоит маленькое пианино, на стенах висят гравюры в рамах. Только вот размеры всех окружающих предметов, начиная с самого домика и кончая мебелью, были рассчитаны на рост аборигенов, и я всегда испытывал некоторое неудобство.
Каждый вечер я принимал в своей гостиной Чакка и Багга и упражнялся в языке этой страны. Впрочем, посещали меня не только они. Как гражданин, пользующийся особыми привилегиями, я интересовал всех и каждого. Так, в гостиную ко мне заглядывали и такие каппы, как директор стекольной фирмы Гэр, ежедневно вызывавший к себе доктора Чакка специально для того, чтобы тот измерял ему кровяное давление. Но ближе всех в течение первых двух недель я сошелся с рыбаком Баггом.
Однажды душным вечером мы с Баггом сидели в моей гостиной за столом друг против друга. Вдруг ни с того ни с сего Багг замолчал, выпучил свои и без того громадные глаза и неподвижно уставился на меня. Мне, конечно, это показалось странным, и я спросил:
— Quax, Bag, quo quel quan?
В переводе на японский это означает: «Послушай, Багг, что с тобой?» Но Багг ничего не ответил. Вместо этого он вдруг вылез из-за стола, высунул длинный язык и раскорячился на полу, словно огромная лягушка. А вдруг он сейчас прыгнет на меня! Мне
548
стало жутко, и я тихонько поднялся с кресла, намереваясь выскочить за дверь. К счастью, как раз в эту минуту в гостиную вошел доктор Чакк.
— Чем это ты здесь занимаешься, Багг? — спросил он, строго взирая на рыбака через пенсне.
Багг застыдился и, поглаживая голову ладонью, принялся извиняться:
— Прошу прощения, господин доктор. Я не мог удержаться. Уж очень потешно этот господин пугается... И вы тоже, господин, простите великодушно, — добавил он, обращаясь ко мне.
3
Прежде чем продолжать, я считаю своим долгом сообщить вам некоторые общие сведения о каппах. Существование животных, именуемых каппами, до сих пор ставится под сомнение. Но лично для меня ни о каких сомнениях в этом вопросе не может быть и речи, поскольку я сам жил среди капп. Что же это за животные? Описания их внешнего вида, приведенные в таких источниках, как «Суйко-коряку», почти полностью соответствуют истине. Действительно, голова капп покрыта короткой шерстью, пальцы на руках и на ногах соединены плавательными перепонками. Рост каппы в среднем один метр. Вес, по данным доктора Чакка, колеблется между двадцатью и тридцатью фунтами. Говорят, впрочем, что встречаются изредка и каппы весом до пятидесяти фунтов. Далее, на макушке у каппы имеется углубление в форме овального блюдца. С возрастом дно этого блюдца становится все более твердым. Например, блюдце на голове стареющего Багга и блюдце у молодого Чакка совершенно различны на ощупь. Но самым поразительным свойством каппы является, пожалуй, цвет его кожи. Дело в том, что у каппы нет определенного цвета кожи. Он меняется в зависимости от окружения, — например, когда животное находится в траве, кожа его становится под цвет травы изумрудно-зеленой, а когда оно на скале, кожа приобретает серый цвет камня. Как известно, таким же свойством обладает и кожа хамелеонов. Не исключено, что структура кожного покрова у капп сходна с таковою у хамелеонов. Когда я узнал обо всем этом, мне вспомнилось, что наш фольклор приписывает каппам западных провинций изумрудно-зеленый цвет кожи, а каппам северо-востока — красный. Вспомнил я также и о том, как ловко исчезал Багг, словно проваливался сквозь землю, когда я гнался за ним. Между прочим, у капп имеется, по-видимому, изрядный слой подкожного жира: несмотря на сравнительно низкую среднюю температуру в их под-
549
земной стране (около пятидесяти градусов по Фаренгейту), они не знают одежды. Да, любой каппа может носить очки, таскать с собой портсигар, иметь кошелек. Но отсутствие карманов не причиняет каппам особых неудобств, ибо каппа, как самка кенгуру, имеет на животе своем сумку, куда он может складывать всевозможные предметы. Странным мне показалось только, что они ничем не прикрывают чресла. Как-то я спросил Багга, чем это объясняется. Багт долго ржал, откидываясь назад, а затем сказал:
— А мне вот смешно, что вы это прячете!
4
Мало-помалу я овладел запасом слов, который каппы употребляли в повседневной жизни. Таким образом, я получил возможность ознакомиться с их нравами и обычаями. Больше всего меня поразило у них необычное и, я бы сказал, даже перевернутое представление о смешном и серьезном. То, что мы, люди, считаем важным и серьезным, вызывает у них смех, а то, что у нас, людей, считается смешным, они склонны рассматривать как нечто важное и серьезное. Так, например, мы очень серьезно относимся к понятиям гуманности и справедливости, а каппы, когда слышат эти слова, хватаются за животы от хохота. Короче говоря, понятия о юморе у нас и у капп совершенно разные. Однажды я рассказал доктору Чакку об ограничении деторождения. Выслушав меня, он разинул пасть и захохотал так, что у него свалилось пенсне. Я, разумеется, вспылил и потребовал объяснений. Возможно, я не уловил некоторых оттенков в его выражениях, ведь тогда я еще не очень хорошо понимал язык капп, но, насколько я помню, ответ Чакка был примерно таков:
— Разве не смешно считаться только с интересами родителей? Разве не проявляется в этом эгоизм и себялюбие?
Зато нет для нас, людей, ничего более нелепого, нежели роды у каппы. Через несколько дней после моего разговора с Чакком у жены Багга начались роды, и я отправился в хибарку Багга посмотреть, как это происходит. Роды у капп происходят так же, как У нас. Роженице помогают врач и акушерка. Но перед началом родов каппа-отец, прижавшись ртом к чреву роженицы, во весь голос, словно по телефону, задает вопрос: «Хочешь ли ты появиться на свет? Хорошенько подумай и отвечай!» Такой вопрос несколько раз повторил и Багт, стоя на коленях возле жены. Затем он встал и прополоскал рот дезинфицирующим раствором из чашки на столе. Тогда младенец, видимо, стесняясь, едва слышно отозвался из чрева матери:
550
— Я не хочу рождаться. Во-первых, меня пугает отцовская наследственность — хотя бы его психопатия. И, кроме того, я уверен, что каппам не следует размножаться.
Выслушав такой ответ, Багг смущенно почесал затылок. Между тем присутствовавшая при этом акушерка мигом засунула в утробу его жены толстую стеклянную трубку и впрыснула какую-то жидкость. Жена с облегчением вздохнула. В ту же минуту ее огромный живот опал, словно воздушный шар, из которого выпустили водород.
Само собой разумеется, что детеныши капп, коль скоро они способны давать такие ответы из материнского чрева, самостоятельно ходят и разговаривают, едва появившись на свет. По словам Чакка, был даже младенец, который двадцати шести дней от роду прочел лекцию на тему «Есть ли бог?». Правда, добавил Чакк, этот младенец в двухмесячном возрасте умер.
Раз уж речь зашла о родах, не могу не упомянуть о громадном плакате, который я увидел на углу одной улицы в конце третьего месяца моего пребывания в этой стране. В нижней части плаката были изображены каппы, трубящие в трубы, и каппы, размахивающие саблями. Верхняя же часть была испещрена значками, принятыми у капп в письменности, — спиралевидными иероглифами, похожими на часовые пружинки. В переводе текст плаката означал приблизительно следующее (здесь я опять не могу поручиться, что избежал каких-то несущественных ошибок, но я заносил в записную книжку слово за словом так, как читал мне один каппа, студент Рапп, с которым мы вместе прогуливались):
«Вступайте в ряды добровольцев по борьбе против дурной наследственности!!
Здоровые самцы и самки!!
Чтобы покончить с дурной наследственностью, берите в супруги больных самцов и самок!!»
Разумеется, я тут же заявил Раппу, что такие вещи недопустимы. В ответ Рапп расхохотался. Загоготали и все другие каппы, стоявшие возле плаката.
— Недопустимы? Да ведь у вас делается то же самое, что и у нас, это явствует из ваших же рассказов. Как вы думаете, почему ваши барчуки влюбляются в горничных, а ваши барышни флиртуют с шоферами? Конечно, из инстинктивного стремления избавиться от дурной наследственности. А вот возьмем ваших добровольцев, о которых вы на днях мне рассказывали, — тех, что истребляют друг друга иэ-за какой-то там железной дороги, — на мой взгляд, наши добровольцы по сравнению с ними гораздо благороднее.
Рапп произнес это совершенно серьезно, только его толстое
551
брюхо все еще тряслось, словно от сдерживаемого смеха. Но мне было не до веселья. Я заметил, что какой-то каппа, воспользовавшись моей небрежностью, украл у меня автоматическую ручку. Вне себя от возмущения, я попытался схватить его, но кожа у каппы скользкая, и удержать его не так-то просто. Он выскользнул у меня из рук и во всю прыть кинулся наутек. Он мчался, сильно наклоняя вперед свое тощее, словно у комара, тело, и казалось, что он вот-вот во всю длину растянется на тротуаре.
Рапп оказал мне много услуг, не меньше, чем Багг. Но главным образом я обязан ему тем, что он познакомил меня с Тонком. Токк — поэт. Каппы-поэты носят длинные волосы и в этом не отличаются от наших поэтов. Время от времени, когда мне становилось скучно, я отправлялся развлечься к Токку. Токка всегда можно было застать в его узкой каморке, заставленной горшками с высокогорными растениями, среди которых он писал стихи, курил и вообще жил в свое удовольствие. В углу каморки с шитьем в руках сидела его самка. (Токк был сторонником свободной любви и не женился из принципа.) Когда я входил, Токк неизменно встречал меня улыбкой. (Правда, смотреть, как каппа улыбается, не очень приятно. Я, по крайней мере, первое время пугался.)
— Рад, что ты пришел, — говорил он. — Садись вот на этот стул.
Токк много и часто рассказывал мне о жизни капп и об их искусстве. По его мнению, нет на свете ничего более нелепого, нежели жизнь обыкновенного каппы. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры — все они видят единственную радость жизни в том, чтобы свирепо мучить друг друга. И уж совершенно нелепа, по словам Токка, система отношений в семье. Как-то раз Токк, выглянув в окно, с отвращением сказал:
— Вот полюбуйся!.. Какое идиотство!
По улице под окном тащился, с трудом переставляя ноги, совсем еще молодой каппа. На шее у него висели несколько самцов и самок, в том числе двое пожилых: видимо, его родители. Вопреки ожиданиям Токка, самоотверженность этого молодого каппы восхитила меня, и я стал его расхваливать.
— Ага, — сказал Токк, — я вижу, ты стал достойным гражданином и в этой стране... Кстати, ты ведь социалист?
Я, разумеется, ответил qua.
(Это на языке каппа означает «да».)
— И ты без колебаний пожертвовал бы гением ради сотни посредственностей?
552
— А каковы твои убеждения, Токк? Кто-то говорил мне, что ты анархист.
— Я? Я — сверхчеловек! — гордо заявил Токк. (В дословном переводе — «сверхкаппа».)
Об искусстве у Токка тоже свое оригинальное мнение. Он убежден, что искусство не подвержено никаким влияниям, что оно должно быть искусством для искусства, что художник, следовательно, обязан быть прежде всего сверхчеловеком, преступившим добро и зло. Впрочем, это точка зрения не одного только Токка. Таких же взглядов придерживаются почти все его коллеги-поэты. Мы с Токком не раз хаживали в клуб сверхчеловеков. В этом клубе собираются поэты, прозаики, драматурги, критики, художники, композиторы, скульпторы, дилетанты от искусства и прочие. И все они — сверхчеловеки. Когда бы мы ни пришли, они всегда сидели в холле, ярко освещенном электричеством, и оживленно беседовали. Время от времени они с гордостью демонстрировали друг перед другом свои сверхчеловеческие способности. Так, например, один скульптор, поймав молодого каппу между огромными горшками с чертовым папоротником, у всех на глазах усердно предавался содомскому греху. А самка-писательница, забравшись на стол, выпила подряд шестьдесят бутылок абсента. Допив шестидесятую, она свалилась со стола и тут же испустила дух.
Однажды прекрасным лунным вечером мы с Токком под руку возвращались из клуба сверхчеловеков. Токк, против обыкновения, был молчалив и подавлен. Когда мы проходили мимо маленького освещенного окна, Токк вдруг остановился. За окном сидели вокруг стола и ужинали взрослые самец и самка, видимо супруги, и трое детенышей. Токк глубоко вздохнул и сказал:
— Ты знаешь, я сторонник сверхчеловеческих взглядов на любовь. Но когда мне приходится видеть такую вот картину, я завидую.
— Не кажется ли тебе, что в этом есть какое-то противоречие?
Некоторое время Токк стоял молча в лунном сиянии, скрестив на груди руки, и смотрел на мирную трапезу пятерых капп. Затем он ответил:
— Пожалуй. Ведь что ни говори, а вон та яичница на столе гораздо полезнее всякой любви.
6
Дело в том, что любовь у капп очень сильно отличается от любви у людей. Самка, приметив подходящего самца, стремится немедленно овладеть им. При этом она не брезгует никакими сред-
553
ствами. Наиболее честные и прямодушные самки просто без лишних слов кидаются на самца. Я своими глазами видел, как одна самка словно помешанная гналась за удиравшим возлюбленным. Мало того, вместе с молодой самкой за беглецом нередко гоняются и ее родители и братья... Бедные самцы! Даже если счастье им улыбнется и они сумеют улизнуть от погони, им наверняка приходится педели две-три отлеживаться после такой гонки.
Как-то я сидел дома и читал сборник стихов Токка. Неожиданно в комнату влетел студент Рапп. Упал на пол и, задыхаясь, проговорил:
— Какой кошмар!.. Меня все-таки изловили!
Я отбросил книжку и запер дверь на ключ. Затем поглядел в замочную скважину. Перед дверью слонялась низкорослая самочка с физиономией, густо напудренной серой. Рапп несколько недель пролежал в моей постели. В довершение всего у него сгнил и начисто отвалился клюв.
Впрочем, иногда бывает и так, что самец очертя голову гоняется за самкой. Но и в этих случаях все подстраивается самкой. Она делает так, что самец просто не может не гнаться за нею. Однажды мне пришлось видеть самца, который как сумасшедший преследовал самку. Самка старательно убегала, но то и дело останавливалась и оглядывалась, дразнила преследователя, становясь на четвереньки, а когда заметила, что дольше тянуть нельзя, сделала вид, что выбилась из сил, и с удовольствием дала себя поймать. Самец схватил ее и повалился с нею на землю. Когда некоторое время спустя он поднялся, вид у него был совершенно жалкий, лицо изображало не то раскаяние, не то разочарование. Но он еще дешево отделался. Мне пришлось наблюдать и другую сцену. Маленький самец гнался за самкой. Самка, как ей и полагается, на бегу его соблазняла. Тут им навстречу, громко сопя, из переулка вышел самец огромного роста. Самка мельком взглянула на него и вдруг, бросившись к нему, вавопила пронзительным голосом: «На помощь! Помогите! Этот негодяй гонится за мной и хочет меня убить!» Огромный самец, не долго думая, схватил маленького и повалил на мостовую. И малыш, судорожно хватая воздух своими перепончатыми лапками, тут же испустил дух. А что же самка? Она уже висела на шее огромного самца, крепко-накрепко вцепившись в него, и завлекательно ухмылялась.
Все каппы-самцы, которых я знал, подвергались преследованиям со стороны самок. Самки гонялись даже за Баггом, имевшим жену и детей. Его даже неоднократно догоняли. И только один философ по имени Магг (он жил по соседству с поэтом Токком) не попался ни разу. Отчасти это, пожалуй, объясняется тем, что труд-
554
но было найти самца более безобразной наружности. С другой стороны, Магг, в отличие от других самцов, очень редко появлялся на улице. Иногда я заходил к нему, и мы беседовали. Магг всегда сидел в своей сумрачной комнате, освещенной фонариком с разноцветными стеклами, за высоким столом и читал какие-то толстые книги. Однажды я заговорил с ним о проблемах любви.
— Почему ваше правительство не применит к самкам, преследующим самцов, строгие санкции? — спросил я.
— Прежде всего потому, — ответил Магг, — что в правительственном аппарате очень мало самок. Известно ведь, что самки гораздо ревнивее самцов. И если число самок в правительственных органах увеличить, самцы, вероятно, вздохнули бы свободнее. А впрочем, я уверен, что подобные меры не дали бы никаких результатов. Почему? Да хотя бы потому, что самки-чиновники принялись бы гоняться и за самцами-коллегами.
— Что ж, тогда, пожалуй, лучше всего вести такой образ жизни, какой ведете вы, Магг.
Магг встал со стула и, сжимая обе мои руки в своих, сказал со вздохом:
— Вы не каппа, и вам не понять этого. Мне иногда очень хочется, чтобы эти ужасные самки меня преследовали.
7
Нередко мы с поэтом Токком ходили на концерты. Особенно запомнился мне третий концерт. Концертный зал в стране капп почти ничем не отличается от концертного зала в Японии. Такие же ряды кресел, возвышающиеся один над другим, и в креслах, обратившись в слух, сидят три-четыре сотни самцов и самок с непременными программами в руках. На третий концерт, о котором я хочу рассказать, меня, кроме Токка и его самки, сопровождал еще и философ Магг. Мы занимали места в первом ряду. Было исполнено соло на виолончели, а затем на сцену поднялся, небрежно помахивая нотами, каппа с необычайно узкими глазами. Как указывалось в программе, это был знаменитый композитор Крабак. В программе... Впрочем, мне не было нужды заглядывать в программу. Крабак состоял в клубе сверхчеловеков, к которому принадлежал Токк, и я знал его в лицо. «Lied-Oaback» (в этой стране даже программы печатались главным образом на немецком языке).
Слегка поклонившись в ответ на бурные аплодисменты, Крабак спокойно направился к роялю и с тем же небрежным видом
1 «Песня-Крабак» (нем.).
555
принялся играть песню собственного сочинения. По словам Токка, таких гениальных музыкантов, как Крабак, никогда не было и никогда больше не будет в этой стране. Крабак меня очень интересовал — я имею в виду и его музыку, и его лирические стихи, — и я внимательно вслушивался в звуки рояля. Токк и Магг, вероятно, были захвачены музыкой еще сильнее, чем я. Лишь одна прекрасная (так, во всяком случае, считали каппы) самка нетерпеливо сжимала в руках программу и время от времени презрительно высовывала длинный язык. Как мне рассказал Магг, лет десять назад она гонялась за Крабаком, не сумела его изловить и с тех пор ненавидела этого гениального музыканта.
Крабак продолжал играть, распаляясь все больше, словно борясь с роялем, как вдруг по валу громом прокатился возглас:
— Концерт запрещаю!
Я вздрогнул и испуганно обернулся. Сомнений не могло быть. Голос принадлежал великолепному полицейскому огромного роста, сидевшему в последнем ряду. Как раз когда я обернулся, он спокойно, не вставая с места, прокричал еще громче:
— Концерт запрещаю! А затем...
Затем поднялся ужасный шум. Публика взревела: «Полицейский произвол!», «Играй, Крабак!», «Играй!», «Идиоты!», «Сволочи!», «Убирайся!», «Не сдавайся!». Падали кресла, летели программы, кто-то принялся швыряться пустыми бутылками из-под сидра, камнями и даже огрызками огурцов... Совершенно ошеломленный, я попытался было выяснить у Токка, что происходит, но Токк был уже вне себя от возбуждения. Вскочив на сиденье кресла, он беспрерывно вопил: «Играй, Крабак! Играй!» И даже красавица, забыв о своей ненависти к Крабаку, визжала, заглушая Токка: «Полицейский произвол!» Тогда я обратился к Маггу.
— Что случилось?
— А, это у нас в стране бывает довольно часто. Видите ли, мысль, которую выражает картина или литературное произведение... — Магг говорил, как всегда, тихо и спокойно, только слегка втягивая голову в плечи, чтобы уклониться от пролетающих мимо предметов. — Мысль, которую выражает, скажем, картина или литературное произведение, обычно понятна всем с первого взгляда, поэтому запрета на опубликование книг и на выставки у нас в страве нет. Зато у нас практикуются запреты на исполнение музыкальных произведений. Ведь музыкальное произведение, каким бы вредным для нравов оно ни было, все равно непонятно для капп, не имеющих музыкального слуха.
— Значит, этот полицейский обладает музыкальным слухом?
— Ну... Это, знаете ли, сомнительно. Скорее всего эта музыка
556
напомнила ему, как у него бьется сердце, когда он ложится в постель со своей женой.
Между тем скандал разгорался все сильнее. Крабак по-прежнему сидел за роялем и надменно взирал на нас. И хотя надменности его сильно мешала необходимость то и дело уклоняться от летящих в него метательных снарядов, в общем ему удавалось сохранять достоинство великого музыканта, и он только яростно сверкал на нас узкими глазами. Я... Я тоже, конечно, всячески старался избежать опасности и прятался за Токка. Но любопытство меня одолевало, и я продолжал расспрашивать Магга:
— А не кажется ли вам, что такая цензура — варварство?
— Ничего подобного. Напротив, наша цензура гораздо прогрессивнее цензуры в какой-либо другой стране. Возьмите хотя бы Японию. Всего месяц назад там...
Но как раз в этот момент Маггу в самую макушку угодила пустая бутылка. Он вскрикнул «quack!» (это просто междометие) и повалился без памяти.
8
Как это ни странно, но директор стекольной фирмы Гэр вызывал у меня симпатию. Гэр — это капиталист из капиталистов. Пожалуй, не приходится сомневаться, что ни у одного каппы в этой стране нет такого огромного брюха, как у Гэра, и тем не менее, когда он восседает в глубоком удобном кресле в окружении своей жены, похожей на устрицу, и детей, похожих на огурцы, он представляется олицетворением самого счастья. Время от времени я в сопровождении судьи Бэппа и доктора Чакка бывал в доме Гэра на банкетах. Посещал я с рекомендательным письмом Гэра и различные предприятия, принадлежавшие как самому Гэру, так и лицам.. связанным с его друзьями. Среди этих различных предприятий меня особенно заинтересовала фабрика одной книгоиздательской компании. Когда я с молодым инженером-каппой оказался в цехах и увидел гигантские машины, работающие на гидроэлектроэнергии, меня вновь поразил и восхитил высокий уровень техники в этой стране. Как выяснилось, фабрика производила до семи миллионов экземпляров книг ежегодно. Но поразило меня не количество экземпляров. Удивительным было то, что для производства книг здесь не требовалось ни малейших затрат труда. Оказывается, чтобы создать книгу, в этой стране нужно только заложить в машину через специальный воронкообразный приемник бумагу, чернила и какое-то серое порошкообразное вещество. Не проходит и пяти минут, как из недр машины начинают бесконечным пото-
557
ком выходить готовые книги самых разнообразных форматов — в одну восьмую, одну двенадцатую, одну четвертую печатного листа. Глядя на водопад книг, извергаемый машиной, я спросил у инженера, что представляет собой серый порошок, который подается в приемник. Инженер, неподвижно стоявший перед блестящими черными механизмами, рассеянно ответил:
— Серый порошок? Это ослиные мозги. Их предварительно просушивают, а затем измельчают в порошок, только и всего. Сейчас они идут по два-три сэна за тонну.
Подобные технические чудеса, конечно, имеют место не только в книгоиздательских компаниях. Примерно теми же методами пользуются и компании по производству картин, и компании по производству музыки. По словам Гэра, в этой стране ежемесячно изобретается от семисот до восьмисот новых механизмов, а массовое производство уже отлично обходится без рабочих рук. В результате по всем предприятиям ежемесячно увольняются не менее сорока — пятидесяти тысяч рабочих. Между тем в газетах, которые я в этой стране аккуратно просматривал каждое утро, мне ни разу не попалось слово «безработица». Такое обстоятельство показалось мне странным, и однажды, когда мы вместе с Бэппом и Чак-ком были приглашены на очередной банкет к Гэру, я попросил разъяснений.
— Уволенных у нас съедают, — небрежно ответил Гэр, попыхивая послеобеденной, сигарой.
Я не понял, что он имеет в виду, и тогда Чакк в своем неизменном пенсне на клюве взял на себя труд разрешить мое недоумение.
— Всех этих уволенных рабочих умерщвляют, и их мясо идет в пищу. Вот, поглядите газету. Видите? В этом месяце было уволено шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят девять рабочих, и точно в соответствии с этим понизились цены на мясо.
— И они покорно позволяют себя убивать?
— А что им остается делать? На то и существует закон об убое рабочих.
Последние слова принадлежали Бэппу, с кислой физиономией сидевшему позади горшка с горным персиком. Я был совершенно обескуражен. Однако же ни господин Гэр, ни Бэпп, ни Чакк не видели во всем этом ничего противоестественного. После паузы Чакк с усмешкой, показавшейся мне издевательской, заговорил опять:
— Таким образом государство сокращает число случаев смерти от голода и число самоубийств. И, право, это не причиняет им никаких мучений — им только дают понюхать немного ядовитого газа.
558
— Но все же есть их мясо...
— Ах, оставьте, пожалуйста. Если бы вас сейчас услышал наш философ Магг, он лопнул бы от смеха. А не в вашей ли это стране, простите, плебеи продают своих дочерей в проститутки? Странная сентиментальность — возмущаться тем, что мясо рабочих идет в пищу!
Гэр, слушавший наш разговор, спокойно сказал, пододвигая ко мне блюдо с бутербродами, стоявшее на столике рядом:
— Так как же? Может быть, попробуете? Ведь это тоже мясо рабочих...
Я совсем растерялся. Мне стало худо. Провожаемый хохотом Бэппа и Чакка, я выскочил из гостиной Гэра. Ночь была бурная, в небе не сверкала ни одна звезда. Я возвращался домой в полной темноте и блевал без передышки. И моя рвота белела пятнами даже в кромешном ночном мраке.
9
И все же директор стекольной фирмы Гэр был, вне всякого сомнения, весьма симпатичным каппой. Мы с Гэром часто посещали клуб, членом которого он состоял, и приятно проводили там время. Дело в том, что клуб этот был гораздо уютнее клуба сверх-человеков, в котором состоял Токк. И, кроме того, наши беседы с Гэром — пусть они не были так глубоки, как беседы с философом Маггом, — открывали передо мною совершенно новый, беспредельно широкий мир. Гэр с охотой и удовольствием разглагольствовал на самые различные темы, помешивая кофе ложечкой из чистого золота.
Как-то туманным вечером я сидел среди ваз с зимними розами и слушал Гэра. Помнится, разговор этот происходил в комнате, отделанной и обставленной в новейшем стиле, — тонкие золотые линии прорезали белизну стен, потолка и мебели. Гэр с усмешкой еще более самодовольной, чем обычно, рассказывал о кабинете министров партии «Куоракс», вставшей недавно у кормила государства. Слово «куоракс» является междометием, не имеющим никакого особенного смысла, и иначе, чем «ого», его не переведешь. Впрочем, как бы то ни было, партия действует под лозунгом «В интересах всех капп».
— Партией «Куоракс» заправляет известный политический деятель Роппэ. Бисмарк когда-то сказал: «Честность — лучшая дипломатия». А Роппэ возвел честность и в принцип внутренней
— Да ведь речи Роппэ...
559
— Не прерывайте, выслушайте меня сначала. Да, все его речи — сплошная ложь. Но поскольку всем хорошо известно, что его речи — ложь, то в конечном счете это все равно, как если бы он говорил сущую правду. И только такие предубежденные существа, как вы, люди, могут называть его лжецом. Мы, каппы, вовсе не так... Впрочем, это не суть важно. Мы говорили о Роппэ. Итак, Роппэ заправляет партией «Куоракс». Но и у Роппэ есть хозяин. Это Куикуи, владелец газеты «Пу-Фу» («пу-фу» тоже междометие, которое можно перевести примерно как «ох»). Однако Куикуи тоже имеет своего хозяина. И этот хозяин — некий господин Гэр, сидящий сейчас перед вами.
— Однако... Простите, возможно, я не совсем понял... Но ведь газета «Пу-Фу», насколько мне известно, защищает интересы рабочих. И если, как вы утверждаете, владелец этой газеты подчиняется вам...
— Что касается сотрудников газеты «Пу-Фу», то они действительно являются защитниками интересов рабочих. Но распоряжается ими не кто иной, как Куикуи. А Куикуи шагу ступить не может без поддержки вашего покорного слуги Гэра.
Гэр, по-прежнему ухмыляясь, играл своей золотой ложечкой. Я глядел на него и испытывал не столько ненависть к нему, сколько сочувствия к несчастным сотрудникам «Пу-Фу». Видимо, Гэр разгадал мои мысли и, выпячивая огромное брюхо, сказал:
— Да нет же, далеко не все сотрудники «Пу-Фу» защищают интересы рабочих. Ведь каждый каппа прежде всего защищает свои собственные интересы, так уж мы устроены... И, кроме того, положение осложняется еще одним обстоятельством. Дело в том, что и я, Гэр, не свободен в своих действиях. Как по-вашему, кто руководит мною? Моя супруга. Прекрасная госпожа Гэр.
Гэр загоготал.
— Выполнять повеления госпожи Гэр — большое счастье, — любезно сказал я.
— Во всяком случае, я доволен. Но говорить обо всем этом так откровенно я могу, конечно, только с вами — поскольку вы не каппа.
— Итак, в конечном счете кабинетом «Куоракса» управляет госпожа Гэр?
— Гм... Право, не знаю, можно ли так сказать... Впрочем, война, которую мы вели семь лет назад, началась действительно из-за самки.
— Война? Значит, у вас тоже были войны?
— Конечно, были. И сколько их еще будет! Знаете, пока существуют соседние государства...
560
Так я впервые узнал, что страна водяных не является единственным в своем роде государством в этом мире. Гэр рассказал мне, что испокон веков потенциальными противниками капп были выдры. Вооружение и оснащение выдр ни в чем не уступает вооруже-жению и оснащению, которыми располагают каппы. Этот разговор о войнах между каппами и выдрами очень заинтересовал меня. Действительно, тот факт, что каппы имеют в лице выдр сильного противника, не был известен ни автору «Суйко-коряку», ни тем более господину Янагида Кунио, автору «Сборника народных легенд Ямасима».
— Само собой разумеется, — продолжал Гэр, — что до начала войны обе стороны непрерывно шпионили друг за другом. Ведь мы испытывали панический страх перед выдрами, а выдры точно так же боялись нас. И вот в такое время некий выдра, проживавший в нашей стране, нанес визит одной супружеской чете. Между тем самка в этой чете как раз замышляла убийство мужа. Он был изрядным распутником, и, кроме того, жизнь его была застрахована, что тоже, вероятно, не в малой степени искушало самку.
— Вы были знакомы с ними?
— Да... Впрочем, нет. Я знал только самца, мужа. Моя супруга считает его извергом, но, на мой взгляд, он не столько изверг, сколько несчастный сумасшедший с извращенным половым воображением, ему вечно мерещились преследования со стороны самок... Так вот, жена подсыпала ему в какао цианистого калия. Не знаю, как уж это получилось, но только чашка с ядом оказалась перед гостем-выдрой. Выдра выпил и, конечно, издох. И тогда...
— Началась война?
— Да. К несчастью, этот выдра имел ордена.
— И кто же победил?
— Разумеется, мы. Ради этой победы мужественно сложила головы триста шестьдесят девять тысяч пятьсот капп! Но эти потери ничтожны по сравнению с потерями противника. Кроме выдры, у нас не увидишь никакого другого меха. Я же во время войны, помимо производства стекла, занимался доставкой на фронт каменноугольного шлака.
— А зачем на фронте каменноугольный шлак?
— Это же продовольствие. Мы, каппы, если у нас подведет животы, можем питаться чем угодно.
— Ну, знаете... Не обижайтесь, пожалуйста, но для капп, находившихся на полях сражений... У нас в Японии такую вашу деятельность заклеймили бы позором.
— И у нас тоже заклеймили бы, можете не сомневаться. Только раз я сам говорю об этом, никто больше позорить меня не
561
станет. Знаете, как говорит философ Магг? «О содеянном тобою зле скажи сам, и зло исчезнет само собой...» Заметьте кстати, что двигало мною не одно лишь стремление к наживе, но и благородное чувство патриотизма!
В эту минуту к нам приблизился клубный лакей. Он поклонился Гэру и произнес, словно декламируя на сцене:
— В доме по соседству с вашим — пожар.
— По... Пожар!
Гэр испуганно вскочил на ноги. Я, разумеется, тоже встал. Лакей бесстрастно добавил:
— Но пожар уже потушен.
Физиономия Гэра, провожавшего взглядом лакея, выражала нечто вроде смеха сквозь слезы. И именно тогда я обнаружил, что давно ненавижу этого директора стекольной фирмы. Но предо мною был уже не крупнейший капиталист, а самый обыкновенный каппа. Я извлек из вазы букет зимних роз и, протянув его Гэру, сказал:
— Пожар потушен, но ваша супруга, вероятно, переволновалась. Возьмите эти цветы и отправляйтесь домой.
— Спасибо...
Гэр пожал мне руку. Затем он вдруг самодовольно ухмыльнулся и произнес шепотом:
— Ведь этот соседний дом принадлежит мне. И теперь я получу страховую премию.
Эта ухмылка... Я и сейчас еще помню эту ухмылку Гэра, которого я тогда не мог ни презирать, ни ненавидеть.
10
— Что с тобой сегодня? — спросил я студента Раппа. — Что тебя так угнетает?
Это было на другой день после пожара. Мы сидели у меня в гостиной. Я курил сигарету, а Рапп с расстроенным видом, закинув ногу на ногу и опустив голову так, что не видно было его сгнившего клюва, глядел в пол.
— Так что же с тобой, Рапп? Рапп наконец поднял голову.
— Да нет, пустяки, ничего особенного, — печально отозвался он гнусавым голосом. — Стою я это сегодня у окна и так, между прочим, говорю тихонько: «Ого, вот уж и росянки-мухоловки расцвели...» И что вы думаете, сестра моя вдруг взъярилась и на меня набросилась: «Это что же, мол, ты меня мухоловкой считаешь?» И пошла меня пилить. Тут же к ней присоединилась и мать, которая ее всегда поддерживает.
— Позволь, но какое отношение цветущие мухоловки имеют к твоей сестре?
— Она, наверное, решила, будто я намекаю на то, что она все время гоняется за самцами. Ну, в ссору вмешалась тетка — она вечно не в ладах с матерью. Скандал разгорелся ужасный. Услыхал нас вечно пьяный отец и принялся лупить всех без разбора. В довершение всего мой младший братишка, воспользовавшись суматохой, стащил у матери кошелек с деньгами и удрал... не то в кино, не то еще куда-то. А я... Я уже...
Рапп закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Само собой разумеется, что мне стало жаль его. Само собой разумеется и то, что я тут же вспомнил, как презирает систему семейных отношений поэт Токк. Я похлопал Раппа по плечу и стал по мере своих сил и возможностей утешать его.
— Это случается в каждой семье, — сказал я. — Не стоит так расстраиваться.
— Если бы... Если бы хоть клюв был цел...
— Ну, тут уж ничего не поделаешь... Послушай, а не пойти ли нам к Токку, а?
— Господин Токк меня презирает. Я ведь не способен, как он, раз навсегда порвать с семьей.
— Тогда пойдем к Крабаку.
После концерта, о котором я упоминал, мы с Крабаком подружились, поэтому я мог отважиться повести Раппа в дом этого великого музыканта. Крабак жил гораздо роскошнее, чем, скажем, Токк, хотя, конечно, не так роскошно, как капиталист Гэр. В его комнате, битком набитой всевозможными безделушками — терракотовыми статуэтками и персидской керамикой, — помещался турецкий диван, и сам Крабак обычно восседал на этом диване под собственным портретом, играя со своими детишками. Но на этот раз он был почему-то один. Он сидел с мрачным видом, скрестив на груди руки. Пол у его ног был усыпан клочьями бумаги. Рапп вместе с поэтом Тонком неоднократно, должно быть, встречался с Крабаком, но сейчас, увидев, что Крабак не в духе, перетрусил и, отвесив ему робкий поклон, молча присел в углу.
— Что с тобой, Крабак? — осведомился я, едва успев поздороваться.
— Ты еще спрашиваешь! — отозвался великий музыкант. — Как тебе нравится этот кретин критик? Объявил, будто моя лирика никуда не годится по сравнению с лирикой Токка!
— Но ведь ты же музыкант...
— Погоди. Это бы еще можно вытерпеть. Но ведь этот негодяй, кроме того, утверждает, что в сравнении с Рокком я ничто, меня нельзя даже назвать музыкантом!
563
Рокк — это музыкант, которого постоянно сравнивают с Кра-баком. К сожалению, он не состоял членом клуба сверхчеловеков, и я не имел случая с ним побеседовать. Но его характерную физиономию со вздернутым клювом я хорошо знал по фотографиям в газетах.
— Рокк, конечно, тоже гений, — сказал я. — Но его произведениям не хватает современной страстности, которая льется через край в твоей музыке.
— Ты действительно так думаешь?
— Да, именно так.
Крабак вдруг вскочил на ноги и, схватив одну из танагрских статуэток, с размаху швырнул ее на пол. Перепуганный Рапп взвизгнул и бросился было наутек, но Крабак жестом предложил нам успокоиться, а затем холодно сказал:
— Ты думаешь так потому, что, как и всякая посредственность, не обладаешь слухом. А я — я боюсь Рокка.
— Ты? Не скромничай, пожалуйста!
— Да кто же скромничает? G какой стати мне скромничать? Я корчу из себя скромника перед вами не больше, чем перед критиками! Я — Крабак, гений! В этом смысле Рокк мне не страшен.
— Чего же ты тогда боишься?
— Чего-то неизвестного... Может быть, звезды, под которой родился Рокк.
— Что-то я тебя не понимаю.
— Попробую выразиться иначе, чтобы было понятнее. Рокк не воспринимает моего влияния. А я всегда, незаметно для себя, оказываюсь под влиянием Рокка.
— Твоя восприимчивость...
— Ах, оставь, пожалуйста! При чем здесь восприимчивость? Рокк работает спокойно и уверенно. Он всегда занимается вещами, с которыми может справиться он один. А я вот не таков. Я неизменно пребываю в состоянии раздражения и растерянности. Возможно, с точки зрения Рокка, расстояние между нами не составляет и шага. Я же считаю, что нас разделяют десятки миль.
— Но ваша «Героическая симфония», маэстро!.. — робко проговорил Рапп.
— Замолчи! — Узкие глаза Крабака сузились еще больше, и он с отвращением поглядел на студента. — Что ты понимаешь? Ты и тебе подобные! Я знаю Рокка лучше, чем все эти собаки, которые лижут ему ноги!
— Ну, хорошо, хорошо. Успокойся.
— Если бы я мог успокоиться... Я только и мечтаю об этом... Кто-то неведомый поставил на моем пути этого Рокка, чтобы глумиться надо мною, Крабаком. Философ Магг хорошо понимает все
564
это. Да-да, понимает, хотя только и делает, что листает растрепанные фолианты под своим семицветным фонарем...
— Как так?
— Прочитай его последнюю книгу—«Слово идиота». Крабак подал, вернее, швырнул мне книгу. Затем он вновь
скрестил на груди руки и грубо сказал:— До свидания.
И снова мы с окончательно приунывшим Раппом оказались на улице. Как всегда, улица была полна народу, в тени буковых аллей тянулись ряды всевозможных лавок и магазинов. Некоторое время мы шли молча. Неожиданно нам повстречался длинноволосый поэт Токк. Завидев нас, он остановился, вытащил из сумки на животе носовой платок и принялся вытирать пот со лба.
— Давно мы с вами не виделись, — сказал он. — А я вот иду к Крабаку. У него я тоже давно не бывал...
Мне не хотелось, чтобы между этими двумя деятелями искусства возникла ссора, и я кое-как, намеками, объяснил Токку, что Крабак сейчас немного не в себе.
— Вот как? — сказал Токк. — Ну, что же, визит придется отложить. Да ведь Крабак — неврастеник... Между прочим, я тоже в последнее время мучаюсь от бессонницы.
— Может быть, прогуляешься с нами?
— Нет, лучше не надо... Ай!
Токк вдруг судорожно вцепился в мою руку. Он весь, с ног до головы, покрылся холодным потом.
— Что с тобой?
— Что с вами?
— Мне показалось, что из окна вон той машины высунулась зеленая обезьяна...
Обеспокоенный, я посоветовал Токку на всякий случай показаться доктору Чакку. Но как я ни настаивал, он и слушать не хотел об этом. Ни с того ни с сего он стал подозрительно к нам приглядываться и в конце концов заявил:
— Я никогда не был анархистом. Запомните это и никогда не забывайте... А теперь прощайте. И простите, пожалуйста, не нужен мне ваш доктор Чакк.
Мы стояли в растерянности и смотрели в спину удалявшемуся Токку. Мы... Впрочем, нет, не мы, а я один. Студент Рапп вдруг очутился на середине улицы. Он стоял нагнувшись и через широко расставленные ноги разглядывал беспрерывный поток автомобилей и прохожих. Решив, что и этот каппа свихнулся, я поспешил выпрямить его:
— Что еще за шутки? Что ты делаешь?
565
Рапп, протирая глаза, ответил неожиданно спокойно: — Ничего особенного. Просто так гадко стало на душе, что я решил посмотреть, как выглядит мир вверх ногами. Оказывается, все то же самое.
11
Вот некоторые выдержки из книги философа Магга «Слово идиота».
*
Идиот убежден, что все, кроме него, — идиоты.
*
Наша любовь к природе объясняется, между прочим, и тем, что природа не испытывает к нам ни ненависти, ни зависти.
*
Самый мудрый образ жизни заключается в том, чтобы, презирая нравы и обычаи своего времени, тем не менее ни в коем случае их не нарушать.
*
Больше всего нам хочется гордиться тем, чего у нас нет.
*
Никто не возражает против того, чтобы разрушить идолов. В то же время никто не возражает против того, чтобы самому стать идолом. Однако спокойно пребывать на пьедестале могут только удостоенные особой милости богов — идиоты, преступники, герои. (Это место Крабак отчеркнул ногтем.)
*
Вероятно, все идеи, необходимые для нашей жизни, были высказаны еще три тысячи лет назад. Нам остается, пожалуй, только добавить нового огня.
*
Наша особенность состоит в постоянном преодолении собственного сознания.
*
Если счастье немыслимо без боли, а мир немыслим без разочарования, то?..
566
*
Защищать себя труднее, нежели защищать постороннего. Сомневающийся да обратит взгляд на адвоката.
*
Гордыня, сластолюбие, сомнение — вот три причины всех пороков, известные по опыту последних трех тысяч лет. Вероятно, и всех добродетелей тоже.
*
Обуздание физических потребностей вовсе не обязательно приводит к миру. Чтобы обрести мир, мы должны обуздать и свои духовные потребности. (Здесь Крабак тоже оставил след своего ногтя.)
*
Мы, каппы, менее счастливы, чем люди. Люди не так развиты, как каппы. (Читая эти строки, я не мог сдержать улыбку.)
*
Свершить — значит мочь, а мочь — значит свершить. В конечном итоге наша жизнь не в состоянии вырваться из этого порочного круга. Другими словами, в ней нет никакой логики.
*
Став слабоумным, Бодлер выразил свое мировоззрение одним только словом, и слово это было — «женщина». Но для самовыражения ему не следовало так говорить. Он слишком полагался на свой гений, гений поэта, который обеспечивал ему существование. И потому он забыл другое слово. Слово это — «желудок». (Здесь тоже остался след ногтя Крабака.)
*
Полагаясь во всем на разум, мы неизбежно придем к отрицанию собственного существования. То обстоятельство, что Вольтер, обожествивший разум, был счастлив в своей жизни, лишний раз доказывает отсталость людей по сравнению с каппами.
12
Рднажды, в довольно прохладный день, когда мне наскучило читать «Слово идиота», я отправился к философу Маггу. На углу какого-то пустынного переулка я неожиданно увидел тощего, как
567
комар, каппу, стоявшего, лениво прислонившись к стене. Ошибки быть не могло, это был тот самый каппа, который когда-то украл у меня автоматическую ручку. «Попался!» —подумал я и немедленно подозвал проходившего мимо громадного полицейского.
— Задержите, пожалуйста, вон того каппу, — сказал я. — Около месяца назад он украл мою автоматическую ручку.
Полицейский поднял дубинку (в этой стране полицейские вместо сабель имеют при себе дубинки из тиса) и окликнул вора: «Эй ты, поди-ка сюда!» Я ожидал, что вор кинется бежать. Ничего подобного. Он очень спокойно направился к полицейскому. Мало того, скрестив на груди руки, он как-то надменно глядел нам прямо в лицо. Это, впрочем, нисколько не рассердило полицейского, который извлек из сумки на животе записную книжку и тут же приступил к допросу:
— Имя?
— Грук.
— Чем занимаешься?
— До недавнего времени был почтальоном.
— Отлично. Вот этот человек утверждает, что ты украл у него автоматическую ручку.
— Да. Это было около месяца назад.
— Для чего?
— Дал ее поиграть моему ребенку. Полицейский вперил в Грука острый взгляд.
— И что же этот ребенок?
— Неделю назад умер.
— Свидетельство о смерти при тебе?
Тощий каппа вытащил из сумки на животе лист бумаги и протянул полицейскому. Тот пробежал его глазами, улыбнулся и, похлопав Грука по плечу, сказал:
— Все в порядке. Прости за беспокойство.
Совершенно ошеломленный, я уставился на полицейского. Тощий каппа, что-то бурча себе под нос, удалился. Придя наконец в себя, я спросил:
— Почему вы его отпустили?
— Он невиновен, — ответил полицейский.
— Но ведь он украл мою ручку...
— Украл, чтобы дать поиграть своему ребенку, а ребенок умер. Если вы в чем-либо сомневаетесь, прочтите статью номер одна тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса.
Полицейский повернулся ко мне спиной и быстро зашагал прочь. Что мне оставалось делать? Я торопливо направился к Магту, твердя про себя: «Статья тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса».
568
Философ Магг любил гостей. В тот день в его полутемной комнате собрались судья Бэпп, доктор Чакк и директор стекольной фирмы Гэр. Все они курили, и дым от их сигар поднимался к семицветному фонарю. Самой большой удачей для меня было то, что явился судья Бэпп. Едва успев сесть, я обратился к нему, но вместо вопроса о статье тысяча двести восемьдесят пять задал другой вопрос:
— Тысяча извинений, господин Бэпп. Скажите, наказывают ли преступников в вашей стране?
Бэпп не спеша выпустил дым от сигары с золотым ободком и со скучающим видом ответил:
— Разумеется, наказывают. Практикуется даже смертная казнь.
— Дело в том, что месяц назад...
Изложив подробно всю историю с авторучкой, я осведомился о содержании статьи одна тысяча двести восемьдесят пять уголовного кодекса.
— Угу, — сказал Бэпп. — Статья эта гласит: «Каково бы ни было преступление, лицо, совершившее это преступление, наказанию не подлежит, после того как причина или обстоятельство, побудившие к совершению этого преступления, исчезли». Возьмем ваш случай. Совершена кража, этот каппа был отцом, но теперь он больше не отец, и потому преступление его само собой перестало существовать.
— Какая нелепость!
— Ничего подобного. Нелепостью было бы приравнивать каппу, который был отцом, к каппе, который является отцом. Впрочем, простите, ведь японские законы не видят в этом никакого различия. Но нам это, простите, кажется смешным. Хо-хо-хо-хо-хо...
И, бросив сигару, Бэпп разразился пронзительным смехом. Тогда в разговор вмешался доктор Чакк, лицо весьма далекое от юриспруденции. Поправив пенсне, он задал мне вопрос:
— В Японии тоже существует смертная казнь?
— Конечно, существует. Смертная казнь через повешение. Меня разозлило равнодушие Бэппа, и я поспешил добавить
язвительно:— Но в вашей стране, несомненно, казнят более просвещенным способом, не так ли?
— Да, у нас казнят более просвещенным способом, — по-прежнему спокойно подтвердил Бэпп. — В нашей стране казнь через повешение не практикуется. Иногда для этого используется электричество. А вообще и электричество нам не приходится при-
569
менять. Как правило, у нас просто провозглашают перед преступником название преступления.
— И преступник умирает от этого?
— Совершенно верно, умирает. Не забудьте, что у нас, у капп, нервная организация гораздо тоньше, чем у вас, людей.
— Такой вот метод применяется не только для смертных казней, но и для убийства, — сказал директор стекольной фирмы Гэр. Он был весь сиреневый от падающих на него разноцветных бликов и благодушно мне улыбался. — Совсем недавно один социалист обозвал меня вором, и я чуть не умер от разрыва сердца.
— Это случается гораздо чаще, чем мы полагаем. Недавно вот так умер один мой знакомый адвокат.
Это заговорил философ Магг, и я повернулся к нему. Магг продолжал, ни на кого не глядя, с обычной своей иронической усмешкой:
— Кто-то обозвал его лягушкой... Вы, конечно, знаете, что в нашей стране обозвать лягушкой — это все равно что назвать подлецом из подлецов... И вот он задумался, и думал дни и ночи напролет, лягушка он или не лягушка, и в конце концов умер.
— Это, пожалуй, самоубийство, — сказал я.
— И все же его назвали лягушкой с намерением убить. С вашей, человеческой, точки зрения, это, может быть, можно рассматривать как самоубийство...
В этот самый момент за стеной, там, где находилась квартира поэта Токка, треснул сухой, разорвавший воздух пистолетный выстрел.
13
Мы немедленно бросились туда. Токк лежал на полу среди горшков с высокогорными растениями. В правой его руке был зажат пистолет, из блюдца на голове текла кровь. Рядом с ним, прижимаясь лицом к его груди, навзрыд плакала самка. Я взял ее за плечи и поднял. (Обыкновенно я избегаю прикасаться к скользкой коже каппы.) Я спросил ее:
— Как это случилось?
— Не знаю. Ничего не знаю. Он сидел, что-то писал и вдруг выстрелил себе в голову... Что теперь будет со мной?.. Qur-r-r-r... Qur-r-r-r... (Так каппы плачут.)
Директор стекольной фирмы Гэр, грустно качая головой, сказал судье Бэшгу:
— Вот к чему приводят все эти капризы.
Бэпп ничего не ответил и закурил сигару с эолотым ободком. Доктор Чакк, который осматривал рану, присев на корточки, под-
570
нялся и произнес профессиональным тоном, обращаясь ко всем нам:
— Все кончено. Токк страдал заболеванием желудка, и одного этого было достаточно, чтобы он совершенно расклеился.
— Смотрите, однако, — проговорил, словно пытаясь оправдать самоубийцу, философ Магт, — здесь лежит какая-то записка.
Он взял со стола лист бумаги. Все (за исключением, впрочем, меня) сгрудились позади него, вытягивая шеи, и через его широкие плечи уставились на записку.
Вставай и иди. В долину, что ограждает наш мир. Там священные холмы и ясные воды, Благоухание трав и цветов.
Магг повернулся к нам и сказал с горькой усмешкой:
— Это плагиат. «Миньона» Гете. Видимо, Токк пошел на самоубийство еще и потому, что выдохся как поэт.
Случилось так, что именно в это время у дома Токка остановился автомобиль. Это приехал Крабак. Некоторое время он молча стоял в дверях, глядя на труп Токка. Затем он подошел к нам и заорал в лицо Маггу:
— Это его завещание?
— Нет. Это его последние стихи.
— Стихи?
Волосы на голове Крабака встали дыбом. Магт, невозмутимый, как всегда, протянул ему листок. Ни на кого не глядя, Крабак впился глазами в строчки стихов. Он читал и перечитывал их, почти не обращая внимания на вопросы Магга.
— Что вы думаете по поводу смерти Токка?
— Вставай... Я тоже когда-нибудь умру... В долину, что ограждает наш мир...
— Ведь вы были, кажется, одним из самых близких друзей Токка?
— Друзей? У Токка никогда не было друзей. В долину, что ограждает наш мир... К сожалению, Токк... Там священные холмы...
— К сожалению?..
— Ясные воды... Вы-то счастливы... Там священные холмы... Самка Токка все еще продолжала плакать. Мне стало жаль
ее, и я, обняв ее за плечи, отвел к дивану в углу комнаты. Там смеялся ничего не подозревавший детеныш двух или трех лет. Я усадил самку, взял на руки детеныша и немного покачал его. Я почувствовал, как на глаза мои навернулись слезы. Это был первый и единственный случай, когда я плакал в стране водяных.— Жаль семью этого бездельника, — заметил Гэр.
571
— Да, таким нет дела до того, что будет после них, — отозвался судья Бэпп, раскуривая свою обычную сигару.
Громкий возглас Крабака заставил нас вздрогнуть. Размахивая листком со стихами, Крабак кричал, ни к кому не обращаясь:
— Превосходно! Это будет великолепный похоронный марш!
Блестя узкими глазами, он наспех пожал руку Маггу и бросился к выходу. В дверях тем временем уже собралась, конечно, изрядная толпа соседей Токка, которые с любопытством заглядывали в комнату. Крабак грубо и бесцеремонно растолкал их и вскочил в свою машину. В ту же минуту автомобиль затарахтел, сорвался с места и скрылся за углом.
— А ну, а ну, разойдитесь, нечего глазеть, — прикрикнул на любопытных судья Бэпп.
Взяв на себя обязанности полицейского, он разогнал толпу и запер дверь на ключ. Вероятно, поэтому в комнате воцарилась внезапная тишина. В этой тишине — из душной смеси запахов цветов высокогорных растений и крови Токка — мы стали обсуждать вопрос о похоронах. Только философ Магг молчал, рассеянно глядя на труп и о чем-то задумавшись. Я похлопал его по плечу и спросил:
— О чем вы думаете?
— О жизни каппы.
— И что же?
— Для того чтобы наша жизнь удовлетворяла нас, мы, каппы, что бы там ни было... — Магг как-то стыдливо понизил голос, — как бы там ни было, должны поверить в могущество того, кто не является каппой.
14
Слова Магга напомнили мне о религии. Будучи материалистом, я никогда, разумеется, не относился к религии серьезно. Но теперь, потрясенный смертью Тонка, я вдруг задумался: а что представляет собой религия в стране водяных? С этим вопросом я немедленно обратился к студенту Раппу.
— У нас есть и христиане, и буддисты, и мусульмане, и огнепоклонники, — ответил он. — Наибольшим влиянием, однако, пользуется все же так называемая «современная религия». Ее называют еще «религией жизни».
(Возможно, «религия жизни» — не совсем точный перевод. На языке капп это слово звучит как «Куэмуча». Окончание «ча» соответствует английскому «изм». Корень же «куэмал» слова «ку-эму» означает не просто «жить», «существовать», но «насыщаться едой», «пить вино» и «совокупляться».)
572
— Следовательно, в этой стране тоже есть общины и храмы?
— В этом нет ничего смешного. Великий храм современной религии является крупнейшей постройкой в стране. Хотите пойти поглядеть?
И вот в один душный туманный день Рапп гордо повел меня осматривать Великий храм. Действительно, это колоссальное здание, раз в десять грандиознее Николаевского собора в Токио. Мало того, в этом здании смешались самые разнообразные архитектурные стили. Стоя перед этим храмом и глядя на его высокие башни и круглые купола, я ощутил даже нечто вроде ужаса. Они» словно бесчисленные пальцы, тянулись к небу. Мы стояли перед парадными воротами (и как ничтожно малы мы были по сравнению с ними!), мы долго смотрели, задрав головы, на это странное сооружение, похожее скорее на нелепое чудище.
Залы храма тоже были громадны. Между коринфскими колоннами во множестве бродили молящиеся. Все они, как и мы с Раппом, казались здесь совсем крошечными. Вскоре мы повстречались с согбенным пожилым каппой. Рапп, склонив голову, почтительно заговорил с ним:
— Весьма рад видеть вас в добром здравии, почтенный настоятель.
Старец тоже отвесил нам поклон и так же учтиво отозвался:
— Если не ошибаюсь, господин Рапп? Надеюсь, вы тоже... — Тут он, видимо, обнаружил, что у Раппа сгнил клюв, и запнулся. — Э-э... Да. Во всяком случае, я надеюсь, что вы не очень страдаете. Чему обязан?..
— Я привел в храм вот этого господина, — сказал Рапп. — Как вам, вероятно, уже известно, этот господин...
И Рапп принялся пространно рассказывать обо мне. Кажется, этими своими объяснениями он старался, помимо всего прочего, дать понять старцу, что от посещения храма в последнее время его отвлекали сугубо важные обстоятельства.
— ...И вот, кстати, я хотел бы вас попросить показать этому господину храм.
Милостиво улыбаясь, настоятель поздоровался со мною, а затем молча повел нас к алтарю в передней части зала.
— Я с удовольствием покажу вам все, — заговорил он, — но боюсь, что не смогу быть вам особенно полезен. Мы, верующие, поклоняемся «древу жизни», которое находится здесь, в алтаре. Как изволите видеть, на «древе жизни» зреют золотые и зеленые плоды. Золотые плоды именуются «плодами добра», а зеленые — «плодами зла»...
Я слушал его, и мне становилось невыносимо скучно. Любезные объяснения настоятеля звучали как старая, заезженная прит-
573
ча. Разумеется, я делал вид, что стараюсь не пропустить ни единого слова, но при этом не забывал время от времени украдкой озираться, чтобы разглядеть внутреннее устройство храма.
Коринфские колонны, готические своды, мозаичный мавританский пол, молитвенные столики в модернистском стиле — все это вместе создавало впечатление какой-то странной варварской красоты. Больше всего внимание мое привлекали каменные бюсты, установленные в нишах по сторонам алтаря. Мне почему-то казалось, что мне знакомы этж изображения. И я не ошибся. Закончив объяснения относительно «древа жизни», согбенный настоятель подвел меня и Раппа к первой справа нише и сказал, указывая на бюст:
— Вот один из наших святых — Стриндберг, выступавший против всех. Считается, что этот святой много и долго страдал, а затем нашел спасение в философии Сведенборга. Но в действительности он не спасся. Как и мы, он исповедовал «религию жизни». Вернее, ему пришлось исповедовать эту религию. Возьмите хотя бы «Легенды», которые оставил нам этот святой. В них он сам признается, что покушался на свою жизнь.
Мне стало тоскливо, и я обратил взгляд на следующую нишу. В следующей нише был установлен бюст густоусого немца.
— А это Ницше, бард Заратустры. Этому святому пришлось спасаться от сверхчеловека, которого он сам же и создал. Впрочем, спастись он не смог и сошел с ума. Если бы он не сошел с ума, попасть в святые ему, возможно, и не удалось бы...
Настоятель немного помолчал и подвел нас к третьей нише.
— Третьим святым является у нас Толстой. Этот святой изводил себя больше всех. Дело в том, что по происхождению он был аристократом и терпеть не мог выставлять свои страдания перед любопытствующей толпой. Этот святой все силился поверить в Христа, в которого поверить, конечно, невозможно. А ведь ему случалось даже публично объявлять, что он верит. И вот на склоне лет ему стало невмочь быть трагическим лжецом. Известно ведь, что и этот святой испытывал иногда ужас перед перекладиной на потолке своего кабинета. Но самоубийцей он так и не стал — это видно хотя бы из того, что его сделали святым.
В четвертой нише красовался бюст японца. Разглядев лицо этого японца и узнав его, я, как и следовало ожидать, ощутил грусть.
— Это Куникида Доппо, — сказал настоятель. — Поэт, до конца понявший душу рабочего, погибшего под колесами поезда. Думаю, говорить вам о нем что-либо еще не имеет смысла. Поглядите на пятую нишу...
— Это, кажется, Вагнер?
574
— Да. Революционер, являвшийся другом короля. Святой Вагнер на склоне лет читал даже застольные молитвы. И все же он был скорее последователем «религии жизни», чем христианином. Из писем, оставшихся после Вагнера, явствует, что мирские страдания не раз подводили этого святого к мысли о смерти.
Настоятель все еще говорил о Вагнере, когда мы остановились перед шестой нишей.
— И это друг святого Стриндберга, француз-художник. Он бросил свою многодетную жену и взял себе четырнадцатилетнюю таитянку. В широких жилах этого святого текла кровь моряка. Но взгляните на его губы. Они изъедены мышьяком или чем-то вроде этого. Что же касается седьмой ниши... Но вы, кажется, уже утомились. Извольте пройти сюда.
Я действительно устал. Вслед за настоятелем я и Рапп прошли по коридору, пронизанному ароматом благовоний, и очутились в какой-то комнате. Комната была мала, в углу возвышалась черная статуя Венеры, у ног статуи лежала кисть винограда. Я ожидал увидеть строгую монашескую келью безо всяких украшений и был несколько смущен. Видимо, настоятель почувствовал мое недоумение. Прежде чем предложить нам сесть, он сказал с состраданием:
— Не забывайте, пожалуйста, что наша религия — это «религия жизни». Ведь наш бог... наше «древо жизни» учит: «Живите вовсю». Да, господин Рапп, вы уже показывали этому господину наше Священное писание?
— Нет, — ответил Рапп и честно признался, почесывая блюдце на голове: — По правде говоря, я и сам толком его не читал.
Настоятель, по-прежнему спокойно улыбаясь, продолжал:
— Тогда, разумеется, вам еще не все понятно. Наш бог создал вселенную за один день. («Древо жизни» хоть и дерево, но для него нет ничего невозможного.) Мало того, он создал еще и самку. Самка же, соскучившись, принялась искать самца. Наш бог внял ее печали, взял у нее мозг и из этого мозга изготовил самца. И сказал наш бог этой первой паре капп: «Жрите, совокупляйтесь, живите вовсю...»
Слушая настоятеля, я вспоминал поэта Токка. К своему несчастью, поэт Токк, так же как и я, был атеистом. Я не каппа и потому понятия не имел о «религии жизни». Но Токк, родившийся к проживший всю жизнь в стране водяных, не мог не знать, что такое «древо жизни». Мне стало жаль Токка, не принявшего такого учения, и я, перебив настоятеля, спросил, что он думает об этом поэте.
— А-а, этот поэт достоин всяческого сожаления, — сказал настоятель, тяжело вздохнув. — Что определяет нашу судьбу? Вера,
575
обстоятельства, случай. Вы, вероятно, присовокупите сюда еще и наследственность. К несчастью, господин Токк не был верующим.
— Наверное, Токк завидовал вам. Вот и я тоже завидую. Да и молодежь, как, например, Рапп...
— Если бы клюв у меня был цел, я, быть может, и стал бы оптимистом.
Выслушав нас, настоятель снова глубоко вздохнул. Глаза его были полны слез, он неподвижно глядел на черную Венеру.
— Сказать по правде... — вымолвил он. — Только не говорите об этом никому, это мой секрет... Сказать по правде, я тоже не в состоянии верить в нашего бога. Когда-нибудь мои моления...
Настоятель не успел закончить. Как раз в этот момент дверь распахнулась, в комнату ворвалась огромная самка и набросилась на него. Мы попытались было остановить ее, но она в одно мгновение повергла настоятеля на пол.
— Ах ты дрянной старикашка! — вопила она. — Опять сегодня стащил у меня из кошелька деньги на выпивку!
Минут через десять, оставив позади настоятеля и его супругу, мы почти бегом спускались по ступеням храма. Некоторое время мы молчали, затем Рапп сказал: .
— Теперь понятно, почему настоятель тоже не верит в «древо жизни».
Я не ответил. Я невольно оглянулся на храм. Храм по-прежнему, словно бесчисленными пальцами, тянулся в туманное небо высокими башнями и круглыми куполами. И от него веяло жутью, какую испытываешь при виде миражей в пустыне...
15
Примерно через неделю я неожиданно услыхал от доктора Чакка необычайную новость. Оказывается, в доме покойного Тонка завелось привидение. К тому времени сожительница нашего несчастного друга куда-то уехала, и в доме открылась фотостудия. По словам Чакка, на всех снимках, сделанных в этой студии, позади изображения клиента непременно запечатлевается неясный силуэт Токка. Впрочем, Чакк, будучи убежденным материалистом, не верил в загробную жизнь. Рассказав обо всем этом, он с ядовитой усмешкой прокомментировал: «Надо полагать, сие привидение так же материально, как и мы с вами». Я тоже не верил в привидения и в этом отношении не слишком отличался от Чакка. Но я очень любил Токка, а потому немедленно бросился в книжную лавку и скупил все газеты и журналы со статьями
576
о призраке Токка и с фотографиями привидения. И в самом деле, на фотографиях, за спинами старых и молодых капп, туманным силуэтом выделялось нечто напоминающее фигуру каппы. Еще больше, нежели фотографии привидения, меня поразили статьи о призраке Токка — особенно один отчет спиритического общества. Я перевел для себя эту статью почти дословно и привожу ее здесь по памяти.
«Отчет о беседе с призраком поэта Токка («Журнал спиритического общества», № 8274).
Специальное заседание комиссии нашего общества имело место в бывшей резиденции покончившего самоубийством поэта Токка, ныне фотостудии господина имярек — в доме 251 по улице Н. Н. На заседании присутствовали члены общества (имена опускаю).
Мы, семнадцать членов общества, во главе с председателем общества господином Пэкком, 27 сентября в десять часов тридцать минут утра собрались в одной из комнат названной фотостудии. В качестве медиума нас сопровождала госпожа Хопп, пользующаяся нашим безграничным доверием. Едва оказавшись в названной студии, госпожа Хопп немедленно ощутила приближение духа. У нее начались конвульсии, и ее несколько раз вырвало. По ее словам, это было вызвано тем, что покойный господин Токк при жизни отличался сильной приверженностью к табаку, и теперь дух его оказался пропитанным никотином.
Члены комиссии и госпожа Хопп в молчании заняли места за круглым столом. Спустя три минуты двадцать пять секунд госпожа Хопп внезапно впала в состояние глубокого транса, и дух поэта Токка вошел в нее. Мы, члены комиссии, в порядке старшинства по возрасту задали духу господина Токка, овладевшему госпожой Хопп, следующие вопросы и получили следующие ответы.
Вопрос. Для чего ты вновь посетил этот мир?
Ответ. Чтобы познать посмертную славу.
Вопрос. Ты и остальные господа духи — разве вы жаждете славы и после смерти?
Ответ. Я, во всяком случае, не могу не жаждать. Но один поэт, японец, которого я как-то случайно встретил, — он презирает посмертную славу.
Вопрос. Ты знаешь имя этого поэта?
Ответ. К сожалению, я его забыл. Помню только одно его любимое стихотворение.
Вопрос. Что же это за стихотворение?
19 Акутагава Рюноскэ
577
Ответ,
Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине.
Вопрос. И ты считаешь, что это выдающееся произведение?
Ответ. Разумеется, я не считаю его плохим. Только я заменил бы слово «лягушка» на «каппа», а вместо слова «прыгнула» употребил бы выражение «блистательно взлетела».
Вопрос. Почему?
Ответ. Нам, каппам, свойственно в любом произведении искусства настойчиво искать каппу.
Здесь председатель общества господин Пэкк прерывает беседу и напоминает членам комиссии, что они находятся на спиритическом сеансе, а не на литературной дискуссии.
Вопрос. Каков образ жизни господ духов?
Ответ. Ничем не отличается от вашего.
Вопрос. Сожалеешь ли ты в таком случае о своем самоубийстве?
Ответ. Разумеется, нет. Если мне наскучит жизнь призрака, я снова возьму пистолет и покончу самовоскрешением.
Вопрос. Легко ли кончать самовоскрешением?
Этот вопрос призрак Токка парирует вопросом. Такая манера Токка известна всем, кто знал его при жизни.
Ответ. А легко ли кончать самоубийством?
Вопрос. Духи живут вечно?
Ответ. Относительно продолжительности нашей жизни существует масса теорий, и ни одна из них не внушает доверия. Не следует забывать, что и среди нас есть приверженцы различных религий — христиане, буддисты, мусульмане, огнепоклонники.
Вопрос. А какую религию исповедуешь ты?
Ответ. Я всегда скептик.
Вопрос. Но в существовании духов ты, по-видимому, все же не сомневаешься?
Ответ. В существовании духов я убежден меньше, чем вы.
Вопрос. Много ли у тебя друзей в этом твоем мире?
Ответ. У меня не меньше трехсот друзей во всех временах ж народах.
Вопрос. Все твои друзья — самоубийцы?
Ответ. Отнюдь нет. Правда, например, Монтень, оправдывавший самоубийства, является одним из моих наиболее почитае-
1 Перевод В. Марковой.
578
мых друзей. А с этим типом Шопенгауэром — этим пессимистом, так и не убившим себя, — я знаться не желаю.
Вопрос. Здоров ли Шопенгауэр?
Ответ. В настоящее время он носится со своим новым учением о пессимизме духов и выясняет, хорошо или плохо кончать самовоскрешением. Впрочем, узнав, что холера тоже инфекционное заболевание, он, кажется, немного успокоился.
Затем мы, члены комиссии, задали вопросы о духах Наполеона, Конфуция, Достоевского, Дарвина, Клеопатры, Сакья Муни, Демосфена, Данте и других выдающихся личностей. Однако ничего интересного о них Токк, к сожалению, не сообщил и, в свою очередь, принялся задавать нам вопросы о самом себе.
Вопрос. Что говорят обо мне после моей смерти?
Ответ. Какой-то критик назвал тебя «одним из заурядных поэтов».
Вопрос. Это один из обиженных, которому я не подарил сборника своих стихов. Издано ли полное собрание моих сочинений?
Ответ. Издано, но, говорят, почти не раскупается.
Вопрос. Через триста лет, когда исчезнет понятие об авторском праве, мои сочинения будут покупать миллионы людей. Что стало с моей самкой и подругой?
Ответ. Она вышла замуж за господина Ракка, хозяина книжной лавки.
Вопрос. Бедняга, она, должно быть, еще не знает, что у Ракка вставной глаз. А мои дети?
Ответ. Кажется, они в государственном приюте для сирот.
Некоторое время Токк молчит, затем задает следующий вопрос.
Вопрос. Что с моим домом?
Ответ. Сейчас в нем студия фотографа такого-то.
Вопрос. А что с моим письменным столом?
Ответ. Мы не знаем.
Вопрос. В ящике стола я тайно хранил некоторые письма... Но вас, господа, как занятых людей, это, к счастью, не касается. А теперь в нашем мирке наступают сумерки, и я вынужден проститься с вами. Прощайте, господа, прощайте. Прощайте, мои добрые господа.
При этих последних словах госпожа Хопп внезапно вышла из состояния транса. Мы все, семнадцать членов комиссии, перед лицом бога небесного клятвенно подтверждаем истинность изложенной беседы. Примечание: наша достойная всяческого доверия госпожа Хопп получила в качестве вознаграждения сумму, которую она выручала за день в бытность свою актрисой».
19*
579
16
После того как я прочитал эту статью, мною постепенно овладело уныние, я больше не хотел оставаться в этой стране и стал думать о том, как вернуться в наш мир, в мир людей. Я ходил и искал, но так и не смог найти яму, через которую когда-то провалился сюда. Между тем рыбак Багг однажды рассказал мне о том, что где-то на краю страны водяных живет в тишине и покое один старый каппа, который проводит свои дни в чтении книг и игре на флейте. «Что, если попробовать обратиться к тому каппе? — подумал я. — Может быть, он укажет мне путь из этой страны?» И я тут же отправился на окраину города. Но там, в маленькой хижине, я увидел не старика, а каппу-юношу, двенадцати или тринадцати лет, с еще мягким блюдцем на голове. Он тихонько наигрывал на флейте. Разумеется, я решил, что ошибся домом. Чтобы проверить себя, я обратился к нему по имени, которое мне назвал Багг. Нет, это оказался тот самый старый каппа.
— Но вы выглядите совсем ребенком... — пробормотал я.
— А ты разве не знал? Волею судеб я покинул чрево матери седым старцем. А затем я становился все моложе и моложе и вот теперь превратился в мальчика. Но на самом деле, когда я родился, мне было, по крайней мере, лет шестьдесят, так что в настоящее время мне что-то около ста пятидесяти или ста шестидесяти лет.
Я оглядел комнату. Может быть, у меня было такое настроение, но мне показалось, что здесь, среда простых стульев и столиков, разлито какое-то ясное счастье.
— Видимо, вы живете более счастливо, чем все остальные каппы?
— Вполне возможно. В юности я был старцем, а к старости стал молодым. Я не высох от неутоленных желаний, как это свойственно старикам, и не предаюсь плотским страстям, как это делают молодые. Во всяком случав, жизнь моя если и не была счастливой, то уж наверняка была спокойной.
— Да, при таких обстоятельствах жизнь ваша должна быть спокойной.
— Ну, одного этого для спокойствия еще недостаточно. У меня всю жизнь было отличное здоровье и состояние достаточное, чтобы прокормиться. Но, конечно, самое счастливое обстоятельство в моей жизни — это то, что я родился стариком.
Некоторое время мы беседовали. Говорили о самоубийце Ток-ке, о Гэре, который ежедневно вызывает к себе врача. Но почему-то лицо старого каппы не выражало никакого интереса к этим разговорам. Я наконец спросил:
580
— Вы, наверное, не испытываете такой привязанности к жизни, как другие каппы?
Глядя мне в лицо, старый каппа тихо ответил:
— Как и другие каппы, я покинул чрево матери не раньше, чем мой отец спросил меня, хочу ли я появиться в этом мире.
— А вот я оказался в этом вашем мире совершенно случайным образом, — сказал я. — Так будьте добры, расскажите, как отсюда выбраться.
— Отсюда есть только одна дорога.
— Какая же?
— Дорога, которой ты попал сюда.
Когда я услыхал это, волосы мои встали дыбом.
— Мне не найти эту дорогу, — пробормотал я.
Старый каппа пристально поглядел на меня своими чистыми, как ключевая вода, глазами. Затем он поднялся, отошел в угол комнаты и потянул свисавшую с потолка веревку. Сейчас же в потолке открылся круглый люк, которого я раньше не замечал. И за этим люком, над ветвями сосен и кипарисов, я увидел огромное ясное синее небо. А в небо, подобно гигантскому наконечнику стрелы, поднимался пик Яригатакэ. Я даже подпрыгнул от радости, словно ребенок при виде аэроплана.
— Ну вот, — сказал старый каппа. — Можешь уходить.
С этими словами он указал мне на веревку. Но это была ни веревка, как мне показалось вначале. Это была веревочная лестница.
— Что ж, — сказал я. — С вашего разрешения, я пойду.
— Только подумай прежде. Как бы тебе не пожалеть потом,
— Ничего, — сказал я. — Жалеть не буду.
Я уже поднимался по лестнице, цепляясь за перекладины. Поглядывая вниз, я видел далеко под собою блюдце на голове старого каппы.
17
Вернувшись из страны водяных, я долго не мог привыкнуть к запаху человеческой кожи. Ведь каппы необычайно чистоплотны по сравнению с нами. Мало того, я так привык видеть вокруг себя одних только капп, что лица людей представлялись мне просто безобразными. Вам, вероятно, этого не понять. Ну, глаза и рты еще туда-сюда, но вот носы вызывали у меня чувство какого-то странного ужаса. Естественно, что в первое время я старался ни с кем не встречаться. Затем я понемногу стал, видимо, привыкать к людям и уже через полгода смог бывать где угодно. Неприятности доставляло лишь то обстоятельство, что в разговоре
581
у меня то и дело вырывались слова из языка страны водяных. Получилось примерно так:
— Ты завтра будешь дома?
— Qua.
— Что ты сказал?
— Да-да, буду.
Через год после возвращения я разорился на одной спекуляции и поэтому...
(Тут доктор С. заметил: «Об этом рассказывать не стоит». Он сообщил мне, что, как только больной начинает говорить об этом, он впадает в такое буйство, что с ним не могут справиться несколько сторожей.)
Хорошо, об этом не буду. Словом, разорившись на одной спекуляции, я захотел снова вернуться в страну водяных. Да, именно вернуться. Не отправиться, не поехать, а вернуться. Потому что к тому времени я уже ощущал страну водяных как свою родину.
Я потихоньку ушел из дому и попытался сесть на поезд Центральной линии. К сожалению, я был схвачен полицией, и меня водворили в эту больницу. Но и здесь я некоторое время продолжал тосковать по стране водяных. Чем сейчас занят доктор Чакк? А философ Магг? Наверное, он по-прежнему размышляет о чем-нибудь под своим семицветным фонарем. А мой добрый друг студент Рапп со сгнившим клювом? Однажды в такой же туманный, как сегодня, день я, по обыкновению, погрузился в воспоминания о своих друзьях и вдруг чуть не закричал от изумления, увидев рыбака Багга. Не знаю, когда он проник ко мне, но он сидел передо мной на корточках и кланялся, приветствуя меня. Когда я немного успокоился... не помню, плакал я или смеялся. Помню только, с какой радостью я впервые после долгого перерыва заговорил на языке страны водяных.
— Послушай, Багг, зачем ты пришел сюда?
— Проведать вас. Вы, говорят, заболели.
— Откуда же ты узнал?
Багг засмеялся. Он был доволен.
— Услыхал по радио.
— А как ты сюда добрался?
— Ну, это дело нетрудное. Реки и рвы в Токио для нас, капп, все равно что улицы.
И я вспомнил, словно только что узнал об этом, что каппы относятся к классу земноводных, как и лягушки.
— Но ведь здесь поблизости нигде реки нет.
— Нет. Сюда я пробрался по водопроводным трубам. А здесь приоткрыл пожарный кран...
582
— Открыл пожарный кран?
— Вы что, забыли, господин? Ведь и среди капп есть меха-вики.
Каппы стали навещать меня раз в два-три дня. Доктор С. считает, что я болен dementia ргаесох1. Но вот доктор Чакк (простите за откровенность) утверждает, что никакого dementia ргаесох у меня нет, что это вы сами все, начиная с доктора С, страдаете dementia ргаесох. Само собой разумеется, что раз уж доктор Чакк приходит ко мне, то навещают меня и студент Рапп, и философ Магг. Впрочем, если не считать рыбака Багга, никто из них не является в дневное время. Они приходят по двое, по трое, и всегда ночью... в лунные ночи. Вот и вчера ночью при свете луны я беседовал с директором стекольной фирмы Гэром и философом Маггом. А композитор Крабак играл мне на скрипке. Видите на столе этот букет черных лилий? Это мне принес в подарок вчера ночью Крабак...
(Я обернулся. Конечно, никаких лилий на столе не было. Стол был пуст.)
Вот эту книгу мне принес философ Магг. Прочтите первые стихи. Впрочем, нет. Вы же не знаете их языка. Давайте я сам прочту. Это один из томов полного собрания сочинений Тонка, которое недавно вышло из печати.
(Он раскрыл старую телефонную книгу и громким голосом прочел такие стихи:)
В кокосовых цветах, среди стволов бамбука Давно почиет Будда.
И под иссохшею смоковницею старой Почил Христос усталый.
Так не пора ль и нам вкусить отдохновенье, Хотя бы только здесь на театральной сцене?
(Но если заглянуть за декорации, — ведь там мы увидим лишь заплатанные холсты?)
Но я не такой пессимист, как этот поэт. И пока ко мне будут приходить каппы... Да, совсем забыл. Вы, вероятно, помните моего приятеля судью Бэппа. Так вот, этот каппа потерял место и в самом деле сошел с ума. Говорят, что сейчас он находится в психиатрической лечебнице в стране водяных. Если бы мне только разрешил доктор С, я охотно навестил бы его...
11 февраля 1927 г.
1 Раннее слабоумие (лат.).
583
В теплом пальто и каракулевой шапке я направлялся к тюрьме Итигая. В эту тюрьму несколько дней тому назад посадили моего кузена — мужа двоюродной сестры. А я шел туда как представитель родственников, чтобы утешить его.
Хотя на предфевральских улицах все еще висели флаги, обозначавшие места дешевых распродаж, во всем городе чувствовался зимний «мертвый сезон». Взбираясь вверх по склону, я тоже всем своим существом физически ощутил смертельную усталость. В ноябре прошлого года скончался от рака горла мой дядя. Кроме того, под новый год сбежал из дому сынишка моих дальних родственников. Вдобавок... Однако то, что мой кузен угодил в тюрьму, было для меня самым чувствительным ударом. Мне вместе с его младшим братом приходилось вести совершенно непривычные для меня бесконечные переговоры со множеством людей. К тому же возникали всякого рода сложности, связанные с чувствами родственников, задетых случившимся, — сложности, суть которых трудно понять тому, кто не родился в Токио. Меня не покидала надежда, что после свидания с кузеном я все-таки смогу поехать куда-нибудь на недельку отдохнуть и подкрепить свои силы.
Тюрьма Итигая была окружена высокой насыпью с поросшими сухой травой склонами. Сквозь решетчатые из толстых деревянных брусьев ворота в средневековом стиле виднелся усыпанный галькой двор с заиндевевшими кипарисами. Я остановился у ворот и подал визитную карточку добродушному на вид надзирателю с седеющими бакенбардами. После этого меня проводили в комнату ожидания — отдельное помещение с навесом, покрытым толстым слоем высохшего мха. Здесь на скамейках с тонкой обивкой сидело уже немало людей. Среди них особое внимание привлекала женщина лет тридцати пяти в дорогом черном хаори. Она читала какой-то журнал.
Время от времени заходил удивительно нелюбезный надзиратель. Монотонным, без малейшего выражения, голосом выкликал он номера тех, кому подошла очередь идти на свидание. Я ждал и ждал, но мой номер все не выкликали. Я ждал... Когда я проходил через ворота тюрьмы, было около десяти утра. А теперь часы на моей руке показывали уже без десяти час.
Я, естественно, успел проголодаться. Но еще нестерпимее казался холод: здесь и в помине не было какого-либо отопления. Я непрерывно пританцовывал и старался подавить раздражение. Но, как ни странно, все ожидающие казались спокойными. Так, одетый в два кимоно мужчина, с виду профессиональный игрок, все время не спета ел мандарины и даже не читал газету.
584
С каждым приходом надзирателя число ожидающих уменьшалось. Я вышел наружу и стал ходить по усыпанному галькой двору перед дверью. Сюда хоть доходили лучи зимнего солнца. Но вдруг поднялся ветер и швырнул мне в лицо мелкую пыль. Однако я решил пойти стихии наперекор, — по крайней мере, часов до четырех не заходить в помещение. Но вот наступило четыре часа, а мой номер, как ни странно, все не выкликали. В то же время я заметил, что большая часть тех, кто пришел после меня, уже оказались вызванными и ушли. Наконец я не выдержал, вошел в комнату ожидания и, поклонившись, обратился к мужчине с внешностью игрока за советом. В ответ он, не шевельнув ни одним мускулом лица, произнес вдруг неожиданно низким и сиплым, как у исполнителя нанивабуси, голосом:
— Они здесь только по одному в день пускают. Небось до вас уже кто-нибудь приходил.
Естественно, эти слова не могли не озаботить меня. Я решил спросить у надзирателя, пришедшего объявить очередные номера, смогу ли я в конце концов получить свидание с кузеном. Однако надзиратель ничего не ответил и ушел, даже не взглянув в мою сторону. Вместе с ним ушел человек с внешностью игрока и еще два-три посетителя. Стоя посередине прихожей, я курил сигарету за сигаретой. И по мере того, как шло время, чувствовал, как растет во мне ненависть к мрачному надзирателю. (До сих пор удивляюсь, как мог я так спокойно, не возмутившись сразу, перенести нанесенное мне оскорбление.)
Когда надзиратель снова явился, было уже около пяти часов вечера. Я снял свою каракулевую шапку и попытался было опять обратиться с прежним вопросом. Но в этот момент надзиратель, который стоял ко мне боком, быстро вышел, не обратив на меня никакого внимания. Мое состояние тогда можно было определить словами «чаша переполнилась». Я отшвырнул окурок и, выйдя во двор, направился к тюремной конторе, находившейся напротив. За стеклянным окошком слева от входа, к которому вели каменные ступеньки, корпели над бумагами несколько человек в штатском. Я открыл окошко и насколько мог спокойно обратился к мужчине в черном чесучовом кимоно с гербами:
— Я пришел на свидание с Т. Скажите, могу я с ним повидаться?
— Ждите, когда придут и объявят ваш номер.
— Но я жду уже с десяти утра!
— Сейчас придут и вас вызовут.
— А если не вызовут, все равно ждать? Ждать, даже когда ночь наступит?
585
— Ну, как бы там ни было, ждите... Во всяком случае, подождите еще.
Видно, мой резкий тон обескуражил служащего. И я, хоть и был рассержен, посочувствовал этому человеку. В то же время я невольно ощущал и некоторую курьезность положения: это были переговоры представителя родственников с представителем тюрьмы.
— Но ведь уже шестой час! Сделайте хоть что-нибудь, чтобы я мог получить свидание.
С этими словами я вышел из тюремной конторы и вернулся в комнату ожидания. Уже спустились сумерки, и женщина с прической марумагэ перестала читать. Она сидела, опустив журнал на колени и высоко подняв голову. Ее лицо анфас напоминало готическую скульптуру. Я сел впереди этой женщины, все еще чувствуя собственную беспомощность и враждебность ко всему, с чем пришлось мне здесь столкнуться.
Когда меня в конце концов вызвали, стрелки часов приближались к шести. В сопровождении другого надзирателя, круглоголового и шустрого, я вошел в комнату для свиданий. Хотя помещения для свиданий именовались «комнатами», на самом деле это были крохотные каморки размером едва метр на метр. К тому же длинный ряд окрашенных масляной краской дверей вместе с той, через которую я вошел, удивительно напоминал общественную уборную. Внутри каморки, впереди, отделенное узким коридором, виднелось полукруглое окошко, через которое и происходило свидание.
Вот с другой стороны этого окошка — темного, застекленного — показалось полное, круглое лицо кузена. То, что он совсем не переменился, несколько ободрило меня. Отбросив сентиментальность, мы заговорили сразу о деле. А из каморки справа до нас доносились безудержные рыданья девушки лет шестнадцати, пришедшей, видимо, к старшему брату. Ее плач невольно отвлекал мое внимание, когда я говорил с кузеном.
— Это обвинение от начала до конца ложное. Прошу вас, расскажите всем об этом, — напыщенно произнес кузен.
На это я ничего не ответил и только пристально посмотрел на него. Я молчал, потому что от его слов у меня будто перехватило дыхание. Тем временем слева от нас старик с плешинами на голове говорил через полукруглое окошечко мужчине — очевидно, сыну:
— Когда сидишь здесь один и никто тебя не навещает, много всяких вещей вспоминаешь, а как встретишься, так все из головы вон.
Когда я вышел из комнаты для свиданий, у меня было такое
586
ощущение, будто я в чем-то виноват перед кузеном. И мне казалось, что все мы несем ответственность. Снова в сопровождении надзирателя я быстро прошел по холодному тюремному коридору к выходу...
В одном из домов на Яманотэ — в доме кузена — меня ждала двоюродная сестра. По пыльным, замусоренным улицам я вышел наконец к остановке у Ёцуя и сел в переполненный трамвай. В ушах все еще звучали странно беспомощные слова старика: «Когда сидишь один и никто не навещает...» Они казались мне даже более человеческими, чем рыдания той девушки. Держась за ремень, я смотрел на загоравшиеся в вечерних сумерках огни домов Кодзимати, и мне невольно приходили на ум слова: «О люди, люди, какие вы разные!» Через полчаса я стоял перед домом кузена и нажимал кнопку в бетонной стене. Донесшийся до моего слуха слабый звук звонка зажег лампочку за стеклянной дверью подъезда. Затем дверь приоткрыла пожилая горничная. Увидев меня, она удивленно вскрикнула «Ой!..»—и быстро проводила на второй этаж в комнату с окнами на улицу. Сбросив пальто и шапку на стоявший там стол, я вдруг снова ощутил усталость, о которой на какое-то время забыл. Горничная зажгла газовый камин и вышла, оставив меня одного. Кузен, у которого была страсть к коллекционированию, и здесь развесил несколько картин и акварелей. Я разглядывал их от нечего делать и вспоминал старые изречения о превратностях судьбы.
Тут в комнату вошла моя двоюродная сестра с младшим братом своего мужа. Я как можно точнее передал им все, что говорил кузен, и мы приступили к обсуждению мер, которые нужно было на этот раз принимать. Сестра не проявляла особой активности в поисках выхода из положения. Больше того, во время разговора она взяла мою каракулевую шапку и сказала, обращаясь ко мне:
— Странная шапка. В Японии, наверное, таких не делают.
— Эта? Она из России, такие шапки носят русские. Однако брат кузена, еще более оборотистый человек, чем сам
кузен, уже предвидел разнообразные препятствия:— Представляете себе, на днях какой-то приятель брата прислал мне со своей визитной карточкой корреспондента из отдела светской хроники газеты. На карточке было написано, чтобы я передал этому корреспонденту остаток суммы за то, чтобы тот молчал, поскольку половину денег этот приятель будто бы уже заплатил ему из своего кармана. Когда я, со своей стороны, проверил, то оказалось, что с корреспондентом говорил приятель брата по собственной инициативе. И никакой половины суммы он ему не передавал. Просто прислал ко мне за деньгами. Да и этот корреспондент тоже... Одним словом, газетчик есть газетчик!
587
— Но я как-никак тоже газетчик! Пощадите мои уши, умоляю.
Я не мог удержаться от шутки, чтобы как-то подбодрить хотя бы самого себя. Но брат кузена с налитыми кровью, затуманенными глазами продолжал говорить так, словно произносил речь. У него и в самом деле был грозный вид, и здесь уж было не до шуток.
— Больше того, находятся еще такие деятели, которые, словно нарочно, чтобы разозлить следователя, буквально ловят его и защищают перед ним брата.
— А вы бы поговорили с ними...
— Разумеется, я так и делаю. Я им и говорю, что, мол, весьма обязан вам за вашу любезность, но если вы задеваете чувства следователя, то ваши добрые намерения оборачиваются своей противоположностью, и потому покорнейше прошу не делать этого.
Двоюродная сестра, сидя перед газовым камином, вертела в руках мою каракулевую шапку. Признаюсь откровенно, что все время, пока я разговаривал с братом кузена, мое внимание было приковано к этой шапке. Я очень боялся, как бы сестра не уронила ее в огонь. Вот об этом-то я и думал время от времени. Эту шапку мне с трудом удалось достать в Москве, где я случайно оказался. Когда-то я безуспешно пытался найти такую в еврейском квартале Берлина, где жил один мой товарищ.
— И ваши просьбы не помогают?
— Какое там помогают! В ответ только и слышишь, что вот, мол, для вас стараешься, голову ломаешь, а от вас — одни оскорбления...
— Да, тут уж, действительно, ничего не поделаешь. Да, ничего не поделаешь. Ведь тут ни к чему не придерешься ни с юридической, ни с этической точки зрения. Во всяком случае, внешне все выглядит так, словно они не жалеют ни сил, ни времени ради товарища. На деле же помогают рыть для него яму. Я тоже из тех, чей принцип — бороться до конца, но против таких я бессилен.
Вдруг в наш разговор ворвались голоса, заставившие нас вздрогнуть: «Ура Т.!» Я приподнял рукой штору на окне. Узкая улица была запружена народом. Многие несли фонарики с надписью: «Молодежная группа квартала***». Я переглянулся с двоюродной сестрой и тут вдруг вспомнил, что кузен был еще и старшиной молодежной группы.
— Надо бы, пожалуй, выйти поблагодарить за приветствие. Двоюродная сестра со страдальческим выражением лица,
всем своим видом показывая, что ей это уже невмоготу, посмотрела на нас испытующим взглядом.588
— В чем дело? Я выйду!
Брат кузена, не раздумывая, быстро вышел из комнаты. Немного завидуя его боевому духу, я, чтобы не встречаться взглядом с сестрой, рассматривал картины на стенах. Мне было тяжело сидеть вот так, не произнося ни слова. И все же было бы еще тяжелее, если бы, заговорив, мы оба расчувствовались. Я молча закурил сигарету и, глядя на одну из висящих на стене картин — портрет самого кузена, — стал отыскивать в ней нарушения законов перспективы.
— Нам совсем не до приветствий. Но сколько ни говори им об этом, все бесполезно, — странно притворным тоном заговорила наконец сестра.
— А что, разве в квартале еще не знают?..
— Нет... А как, собственно, обстоят дела?
— Какие дела?
— Да у Т., у мужа.
— Если встать на место Т.-сана, можно найти много объяснений случившемуся...
— В самом деле?
Я вдруг почувствовал раздражение и, отвернувшись от сестры, подошел к окну. Внизу опять раздались крики. Это собравшиеся прокричали троекратное «ура». Брат кузена вышел к подъезду и кланялся толпе, размахивавшей поднятыми вверх фонариками. Мало того, брат кузена вышел не один: с ним были две маленькие девочки — дочери Т. Он держал их за руки, и они время от времени наклоняли головки в церемонном поклоне.
* * *
С тех пор прошло уже несколько лет. В один из пронзительно холодных вечеров я сидел в доме кузена в гостиной и, потягивая недавно начатую трубку с мятой, беседовал с глазу на глаз с двоюродной сестрой. В доме, где только что проводили седьмой день траура, стояла гнетущая тишина. Перед табличкой с именем кузена, сделанной из некрашеного дерева, теплился огонек свечи. А перед столиком с табличкой стояли две девочки в ночных рубашонках. Разглядывая заметно постаревшее лицо сестры, я вдруг вспомнил события того неприятного для меня дня. Но вслух я произнес лишь такие банальные слова:
— Знаешь, когда куришь трубку с мятой, кажется, будто всего тебя пронизывает холод.
— Вот как? У меня тоже руки и ноги замерзли. И она, словно нехотя, поправила угли в жаровне...
4 июня 1927 г.
Было самое начало июня, когда броненосец первого класса ** вошел в военный порт Йокосука. Горы, окружавшие порт, были окутаны пеленой дождя. Не бывает такого случая, чтобы военный корабль стал на якорь, а количество крыс не увеличилось, ** не являлся исключением. И под палубой броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн, полоскавшего флаг в бесконечном дожде, крысы начали лезть в сундучки, в мешки с одеждой.
Не прошло и трех дней, как корабль стал на якорь, и, чтобы выловить крыс, был издан приказ помощника капитана, гласивший, что каждому поймавшему крысу будет разрешено на день сойти на берег. Как только был издан приказ, матросы и кочегары стали, конечно, с усердием охотиться на крыс. И благодаря их усилиям количество крыс таяло буквально на глазах. Поэтому матросам приходилось бороться за каждую крысу.
— Крыса, которую теперь приносят, вся растерзана. Это потому, что ее тянут в разные стороны.
Так со смехом говорили между собой офицеры, собираясь в кают-компании. Одним из них был лейтенант А., с виду совсем еще юноша. Он вырос, не зная забот, и мало что смыслил в жизни. Но даже он отчетливо понимал состояние матросов и кочегаров, жаждавших сойти на берег. Дымя сигаретой, он обычно говорил:
— Да, это верно. Я бы сам на их месте не остановился перед тем, чтобы хоть кусок урвать от крысы.
Такие слова мог произнести только холостяк. Его товарищ лейтенант У., у которого были короткие рыжие усы, женился с год назад и поэтому обычно подсмеивался над матросами и кочегарами. Здесь сказывалось также, разумеется, его постоянное стремление ни в чем не проявлять собственной слабости. Но даже он, захмелев от бутылки пива, опускал голову на руки, покоившиеся на столе, и говорил иногда лейтенанту А.:
— Ну как, может, и нам поохотиться на крыс?
Однажды утром после дождя лейтенант А., бывший вахтенным офицером, разрешил матросу S. сойти на берег. Это за то, что тот поймал крысу, притом целую крысу. Могучего телосложения, крупнев остальных матросов, S., залитый лучами солнца, спускался вниз по узкому трапу. А в это время его приятель-матрос, легко взбегавший вверх, поравнявшись с ним, шутливо бросил:
— Эй, импорт?
590
— Угу, импорт.
Этот диалог не мог пройти мимо ушей лейтенанта А. Он позвал S., заставил его вернуться на палубу и спросил, что означает их диалог.
— Что такое импорт? В S. вытянулся, глядя прямо в лицо лейтенанта. А., — он явно
приуныл.— Импорт — это то, что приносят из города.
— А зачем приносят?
Лейтенант А. понимал, конечно, зачем приносят. Но, поскольку S. не отвечал, он сразу же разозлился на него и наотмашь ударил по щеке. S. пошатнулся, но тут же снова вытянулся.
— Кто принес это из города?
S. опять ничего не ответил. Лейтенант А., пристально глядя на него, представлял себе, как он снова влепит ему пощечину.
— Кто?
— Жена.
— Принесла, когда приходила повидаться с тобой?
— Так точно.
Лейтенант А. не мог не усмехнуться про себя.
— В чем она его принесла?
— В коробке с печеньем принесла.
— Где твой дом?
— На Хирасакасита.
— Родители твои живы?
— Никак нет. Мы живем вдвоем с женой. В
— А детей нет?
— Никак нет.
Во время этого разговора вид у S. оставался растерянным. Лейтенант А., не скомандовав «вольно», перевел взгляд на Йоко-сука. Город высился среди гор грязными пятнами крыш. В лучах солнца он являл собой удивительно жалкое зрелище.
— Не пойдешь на берег.
— Слушаюсь.
S. заметил, что лейтенант А. молча стоит, в замешательстве не зная, что делать.
А лейтенант в это время подбирал в уме слова, чтобы отдать следующий приказ. И некоторое время молча ходил по палубе. «Он боится наказания», — сознавать это, как и всякому старшему по чину, лейтенанту было приятно.
— Ну ладно. Иди, — сказал наконец лейтенант А.
Отдав честь, S. повернулся кругом и пошел было к люку. Но когда он отошел на несколько шагов, лейтенант А., стараясь подавить улыбку, неожиданно окликнул его:
591
— Эй, постой!
— Слушаюсь.
S. резко повернулся. Волнение снова разлилось по всему его телу.
— Мне нужно тебе кое-что сказать. На Хирасакасита есть магазин, где продается крекер?
— Так точно.
— Купи мне пачку этого крекера.
— Сейчас?
— Да. Прямо сейчас.
От лейтенанта А. не укрылось, что по вспыхнувшей огнем щеке S. бежит слеза...
Через два-три дня, сидя за столом в кают-компании, лейтенант А. пробегал глазами письмо, подписанное женским именем. Оно было написано неуверенной рукой на желтоватой почтовой бумаге. Прочитав письмо, лейтенант закурил и протянул его находившемуся рядом лейтенанту У.
— Что это? «...Во вчерашнем виновен не муж — все случилось из-за моего легкомыслия. Простите, пожалуйста, у меня и в мыслях не было обидеть вас... Вашу доброту я никогда, никогда не забуду...»
На лице лейтенанта У., продолжавшего держать письмо, постепенно всплывала презрительная гримаса. Он с неприязнью посмотрел на лейтенанта А. и холодно спросил:
— Тебе что, нравится делать добрые дела?
— Почему же, иногда можно, — парировал лейтенант А., глядя в иллюминатор. За иллюминатором было лишь бесконечное море в дымке дождя. Но через некоторое время, будто устыдившись чего-то, он вдруг сказал лейтенанту У.:
— Знаешь, он ужасно тихий. Но, дав ему оплеуху, я ни жалости, ничего подобного не испытывал...
Лейтенант У. всем своим видом показал, что ему чужды сомнения и колебания. Ничего не ответив, он принялся читать газету, лежавшую на столе. В кают-компании, кроме них, не было никого. На столе стояло несколько вазочек с цветами. Глядя на их прозрачные лепестки, лейтенант А. по-прежнему дымил сигаретой. Как ни странно, продолжая испытывать к этому резкому лейтенанту У. дружеские чувства...
После одного из боев броненосец первого класса ** в сопровождении пяти кораблей медленно шел к бухте Чэнхэ. На море уже опустилась ночь. С левого борта над горизонтом висел боль-
592
шой красный серп луны. На броненосце водоизмещением в двадцать тысяч тонн покой еще, конечно, не наступил. Это было возбуждение после победы. И только малодушный лейтенант К. даже среди этого возбуждения нарочно слонялся по кораблю, с усталым лицом, будто был чем-то очень озабочен.
В ночь перед боем, проходя по палубе, он заметил тусклый свет фонаря и сразу же пошел на него. Он увидел молодого музыканта из военного оркестра, который лежал ничком и при свете фонаря, поставленного так, чтобы его не мог видеть противник, читал Священное писание. Лейтенант К. был тронут и сказал музыканту несколько теплых слов. Музыкант вначале как будто испугался. Но, поняв, что старший командир не ругает его, сразу же заулыбался, точно девушка, и стал робко отвечать ему... Однако сейчас этот молодой музыкант лежал, убитый снарядом, попавшим в основание грот-мачты. Глядя на его тело, лейтенант К. вдруг вспомнил фразу: «Смерть успокаивает человека». Если бы жизнь самого молодого лейтенанта К. была оборвана снарядом... Из всех смертей такая представлялась ему самой приятной.
И все же сердце впечатлительного лейтенанта К. до сих пор хранило все, что случилось перед этим боем. Броненосец первого класса **, закончив подготовку к бою, в сопровождении тех же пяти кораблей шел по морю, катившему огромные волны. Но у одного из орудий правого борта с жерла почему-то не была снята заглушка. А в это время на горизонте показались далекие дымки вражеской эскадры. Один из матросов, заметивший эту оплошность, быстро уселся верхом на ствол орудия, проворно дополз до жерла и попытался обеими ногами открыть заглушку. Неожиданно это оказалось совсем не просто. Матрос, повиснув над морем, раз за разом, точно лягаясь, бил обеими ногами. И время от времени поднимал голову и еще улыбался, показывая белые зубы. Вдруг броненосец начал резко менять курс, поворачивая вправо. И тогда весь правый борт оказался накрытым огромной волной. Вмиг матрос, оседлавший орудие, был смыт. Упав в море, он отчаянно махал рукой и что-то громко кричал. В море вместе с проклятиями матросов полетел спасательный круг. Но, конечно же, поскольку перед броненосцем была вражеская эскадра, о спуске шлюпки не могло быть и речи. И матрос в мгновение ока остался далеко позади. Его судьба была решена — рано или поздно он утонет. Да и кто бы мог поручиться, что в этом море мало акул...
Смерть молодого музыканта не могла не воскресить в памяти лейтенанта К. это происшествие, случившееся перед боем. Он поступил в морскую офицерскую школу, но когда-то мечтал стать писателем-натуралистом. И, даже окончив школу, все еще увле-
593
кался Мопассаном. Жизнь часто представлялась ему сплошным мраком. Придя на броненосец, он вспомнил слова, высеченные на египетском саркофаге: «Жизнь — борьба», и подумал, что, не говоря уже об офицерах и унтер-офицерах, даже сам броненосец как бы воплотил в стали этот египетский афоризм. И перед мертвым музыкантом он не мог не почувствовать тишины всех окончившихся для него боев. И не мог не ощутить печали об этом матросе, собиравшемся еще так долго жить.
Отирая пот со лба, лейтенант К., чтобы хоть остыть на ветру, поднялся через люк на шканцы. Перед башней двенадцатидюймового орудия в одиночестве вышагивал, заложив руки за спину, гладко выбритый палубный офицер. А немного впереди унтер-офицер, опустив скуластое лицо, стоял навытяжку перед орудийной башней. Лейтенанту К. стало немного не по себе, и он суетливо подошел к палубному офицеру.
— Ты что?
— Да вот хочу перед поверкой в уборную сходить.
На военном корабле наказание унтер-офицера не было каким-то диковинным событием. Лейтенант К. сел и стал смотреть на море, на красный серп луны с левого борта, о которого сняли пиллерсы. Кругом не было слышно ни звука, лишь постукивали по палубе каблуки офицера. Лейтенант К. почувствовал некоторое облегчение и стал наконец вспоминать свое состояние во время сегодняшнего боя.
— Я еще раз прошу вас. Даже если меня лишат награды за отличную службу — все равно, — подняв вдруг голову, обратился унтер-офицер к палубному офицеру.
Лейтенант К. невольно взглянул на него и увидел, что его смуглое лицо стало серьезным. Но бодрый палубный офицер, по-прежнему заложив руки за спину, продолжал спокойно прохаживаться по палубе.
— Не говори глупостей.
— Но стоять эдесь — да ведь я своим подчиненным в глаза смотреть не могу. Уж лучше бы мне задержали повышение в чине.
— Задержка повышения в чине — дело очень серьезное. Лучше стой здесь.
Палубный офицер, сказав это, с легким сердцем стал снова ходить по палубе. Лейтенант К. разумом был согласен с палубным офицером. Больше того, он не мог не считать, что унтер-офицер слишком честолюбив, слишком чувствителен. Но унтер-офицер, стоявший с опущенной головой, чем-то растревожил лейтенанта К,
594
— Стоять здесь — позор, — продолжал причитать тихим голосом унтер-офицер.
— Ты сам в этом виноват.
— Наказание я понесу охотно. Только, пожалуйста, сделайте так, чтобы мне здесь не стоять.
— Ты говоришь: позор, но ведь, в конце концов, любое наказание — позор. Разве не так?
— Потерять авторитет у подчиненных — это для меня очень тяжело.
Палубный офицер ничего не ответил. Унтер-офицер... унтер-офицер, казалось, тоже махнул на все рукой. Вложив всю силу в «это», он замолчал и стоял неподвижно, не произнося ни слова. Лейтенант К. начал испытывать беспокойство (в то же время ему казалось, что он может остаться в дураках из-за чувствительности унтер-офицера) и ощутил желание замолвить за него слово. Но это «слово», сорвавшись с губ, превратилось в обыденное.
— Тихо как, верно?
— Угу.
Так ответил палубный офицер и продолжал ходить, поглаживая подбородок. В ночь перед боем он говорил лейтенанту К.: «Еще давным-давно Кимура Сигэнари...» — и поглаживал тщательно выбритый подбородок...
Уже отбыв наказание, унтер-офицер вдруг исчез. Поскольку на корабле было установлено дежурство, утопиться он никак не мог. Не прошло и полдня, как стало ясно, что его нет и в угольной яме, где легко совершить самоубийство. Но причиной исчезновения унтер-офицера была, несомненно, смерть. Он оставил прощальные письма матери и брату. Палубный офицер, наложивший на него взыскание, старался никому не попадаться на глаза. Лейтенант К. из-за своего малодушия ужасно ему сочувствовал, чуть ли не силой заставлял его бутылку за бутылкой пить пиво, которое сам не брал в рот. И в то же время беспокоился, что тот опьянеет.
— Все из-за своего упрямства. Но ведь можно и не умирать, верно?.. — без конца причитал палубный офицер, с трудом удерживаясь на стуле. — Я и сказал-то ему только — стой. И из-за этого умирать?..
Когда броненосец бросил якорь в бухте Чэнхэ, кочегары, занявшиеся чисткой труб, неожиданно обнаружили останки унтер-офицера. Он повесился на цепочке, болтавшейся в трубе. Но висел лишь скелет — форменная одежда, даже кожа и мясо — все сгорело дотла. Об этом, конечно же, узнал в кают-компании и лейтенант К. И он вспомнил фигуру унтер-офицера, замерше-
595
го перед орудийной башней, и ему почудилось, что где-то еще висит красный серп месяца.
Смерть этих трех человек навсегда оставила в душе лейтенанта К. мрачную тень. Он начал понимать даже, что такое жизнь. Но время превратило этого пессимиста в контр-адмирала, пользующегося прекрасной репутацией у начальства. Хотя ему и советовали стать каллиграфом, он редко брал в руки кисть. И лишь когда его вынуждали к этому, писал в альбомах:
В твоих глазах, смотрящих на меня Без слов, я вижу — нет печали.
Броненосец первого класса ** ввели в док военного порта Йокосука. Ремонтные работы продвигались с большим трудом. Броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн, на высокий бортах которого, снаружи и внутри, копошились бесчисленные рабочие, все время испытывал необычайное нетерпение. Ему хотелось выйти в море, но, вспоминая о прилипших ко дну ракушках, он ощущал противный зуд,
В порту Йокосука стоял на якоре приятель броненосца, военный корабль ***. Этот корабль водоизмещением в двенадцать тысяч тонн был моложе броненосца. Иногда они беззвучно переговаривались через морской простор.
*** сочувствовал, естественно, возрасту броненосца, сочувствовал тому, что по оплошности, допущенной кораблестроителями, руль его легко выходит из строя. Но, сочувствуя, он ни разу не заговаривал с ним об этом. Больше того, из уважения к броненосцу, много раз участвовавшему в боях, всегда употреблял в разговоре с ним самые вежливые выражения.
Однажды в пасмурный день из-за огня, попавшего в пороховой склад на ***, раздался вдруг ужасающий взрыв, и корабль наполовину ушел под воду. Броненосец был, конечно, потрясен (многочисленные рабочие объяснили, разумеется, вибрацию броненосца законами физики). Не участвовавший в боях *** мгновенно превратился в калеку — броненосец просто не мог в это поверить. Он с трудом скрыл свое потрясение и попытался подбодрить ***. Но ***, накренившись, окутанный пламенем и дымом, лишь жалобно ревел.
Через три-четыре дня у броненосца водоизмещением в двадцать тысяч тонн, из-за того, что на его борта перестала давить вода, начала трескаться палуба. Увидев это, рабочие ускорили ремонтные работы. Но в какой-то момент броненосец сам махнул на себя рукой. *** еще совсем был молод, но утонул на его
596
глазах. Если подумать о судьбе ***, в жизни его, броненосца, уж во всяком случае, были не только горести, но и радости. Он вспомнил один бой, теперь уже давний. Это был бой, в котором и флаг был разодран в клочья, и даже мачты сломаны...
В доке, высохшем до белизны, броненосец водоизмещением в двадцать тысяч тонн гордо поднял свой нос. Перед ним сновали крейсеры и миноносцы. А иногда показывались подводные лодки и даже гидропланы. Они лишь заставляли броненосец чувствовать эфемерность всего сущего. Осматривая военный порт Йокосука, над которым то светило солнце, то собирались тучи, броненосец терпеливо ждал своей судьбы. В то же время испытывая некоторое беспокойство оттого, что палуба все больше коробится...
10 июня 1927 г.
С чемоданом в руке я ехал в автомобиле из дачной местности на станцию Токайдоской железной дороги, чтобы принять участие в свадебном банкете одного моего приятеля. По обеим сторонам шоссе росли только сосны. Что мы успеем на поезд в Токио, было довольно сомнительно. В автомобиле вместе со мной ехал мой знакомый, владелец парикмахерской, кругленький толстяк с маленькой бородкой. Я время от времени с ним разговаривал и очень беспокоился, что опаздываю.
— Странная вещь, знаете ли! Говорят, в доме у господина N. даже днем появляется привидение!
— Даже днем? — из вежливости переспросил я, глядя вдаль на поросшие соснами горы, освещенные закатным зимним солнцем.
— И будто в хорошую погоду оно не показывается. Чаще всего в дождливые дни.
— А промокнуть оно не боится?
— Вы шутите... Впрочем, говорят, что это привидение носит макинтош.
Автомобиль засигналил и остановился. Я простился с владельцем парикмахерской и пошел на станцию. Как я и ожидал, поезд на Токио две-три минуты назад ушел. В зале ожидания сидел на скамье и рассеянно смотрел в окно какой-то человек в макинтоше. Я вспомнил только что услышанный рассказ о при-
597
видении. Однако лишь усмехнулся и пошел в кафе у станции — так или иначе, надо было ждать следующего поезда.
Это кафе, пожалуй, не заслуживало названия кафе. Я сел за столик в углу и заказал чашку какао. Клеенка на столе была белая, с простым решетчатым узором из тонких голубых лилий по белому фону. Но углы облупились, и видна была грязноватая парусина. Я пил какао, пахнувшее клеем, и оглядывал пустое кафе. На пыльных стенах висели надписи: «Ояко-домбури», «Котлеты», «Яйца», «Омлет» и тому подобное.
В этих надписях чувствовалась близость деревни, подходящей вплотную к Токайдоской железной дороге. Деревни, где среди ячменных и капустных полей проходит электричка.
Я сел на следующий поезд, который пришел уже почти в сумерки. Я всегда езжу вторым классом. Но на этот раз по каким-то соображениям взял третий.
В вагоне было довольно тесно. Вокруг меня сидели ученицы начальной школы, по-видимому, ехавшие на экскурсию в Осио или еще куда-то. Закуривая папиросу, я смотрел на эту группу школьниц. Все они были оживленны и болтали без умолку.
— Господин фотограф, «рау-сийн»1 — это что такое?
Господин фотограф, сидевший напротив меня, тоже, по-видимому, участник экскурсии, ответил что-то невразумительное. Но школьница лет четырнадцати продолжала его расспрашивать. Я вдруг заметил, что у нее зловонный насморк, и не мог удержаться от улыбки. Потом другая девочка, лет двенадцати, села к молодой учительнице на колени и, одной рукой обняв ее за шею, другой стала гладить ее щеки. При этом она разговаривала с подругами, а в паузах время от времени говорила учительнице:
— Какая вы красивая! Какие у вас красивые глаза!
Они производили на меня впечатление не школьниц, а скорее взрослых женщин. Если не считать того, что они ели яблоки вместе с кожурой, а конфеты держали прямо в пальцах, сняв с них обертку. Одна из девочек, постарше, проходя мимо меня и, видимо, наступив кому-то на ногу, произнесла «извините!». Она была взрослее других, но мне, напротив, показалась больше похожей на школьницу. Держа папиросу в зубах, я невольно усмехнулся противоречивости своего восприятия.
Тем временем в вагоне зажгли свет, и поезд подошел к пригородной станции. Я вышел на холодную ветреную платформу, перешел мост и стал ожидать трамвая. Тут я случайно столкнулся с неким господином Т., служащим одной фирмы. В ожидании трамвая мы говорили о кризисе и других подобных вещах.
1 Искаженное love scene — любовная сцена (англ.).
598
Господин Т., конечно, был осведомлен лучше меня. Однако на его среднем пальце красовалось кольцо с бирюзой, что не очень вязалось с кризисом.
— Прекрасная у вас вещь!
— Это? Это кольцо мне буквально всучил товарищ, уехавший в Харбин. Ему тоже пришлось туго: нельзя иметь дело с кооперативами.
В трамвае, к счастью, было не так тесно, как в поезде. Мы сели рядом и продолжали беседовать о том о сем. Господин Т. этой весной вернулся в Токио из Парижа, где он служил. Поэтому разговор зашел о Париже, о госпоже Кайо, о блюдах из крабов, о некоем принце, совершающем заграничное путешествие.
— Во Франции дела не так плохи, как думают. Только эти французы искони не любят платить налоги, вот почему у них летит один кабинет за другим.
— Но ведь франк падает?
— Это по газетам. Нужно там пожить. Что пишут в газетах о Японии? Только про землетрясения или наводнения.
Тут вошел человек в макинтоше и сел напротив нас. Мне стало как-то не по себе и отчего-то захотелось передать господину Т. слышанный днем рассказ о привидении. Но господин Т., резко повернув влево ручку трости и подавшись вперед, прошептал мне:
— Видите ту женщину? В серой меховой накидке? — С европейской прической?
— Да, со свертком в фуросики. Этим летом она была в Ка-руидзава. Элегантно одевалась.
Однако теперь, на чей угодно взгляд, она была одета бедно. Разговаривая с господином Т., я украдкой посматривал на эту женщину. В ее лице, особенно в складке между бровями, было что-то ненормальное. К тому же из свертка высовывалась губка, похожая на леопарда.
— В Каруидзава она танцевала с молодым американцем. Настоящая «модан»... или как их там.
Когда я простился с господином Т., человека в макинтоше уже не было. Я сошел на нужной мне остановке и с чемоданом в руке направился в отель. По обеим сторонам улицы высились здания. Шагая по тротуару, я вдруг вспомнил сосновый лес. Мало того, в поле моего зрения я заметил нечто странное. Странное? Собственно, вот что: беспрерывно вертящиеся полупрозрачные зубчатые колеса. Это случалось со мной и раньше. Зубчатых колес обычно становилось все больше, они наполовину заполняли мое поле зрения, но длилось это недолго, вскоре они пропадали,
599
а следом начиналась головная боль — всегда было одно и то же. Из-за этой галлюцинации (галлюцинация ли?) глазной врач неоднократно предписывал мне меньше курить. Но мне случалось видеть эти зубчатые колеса и до двадцати лет, когда я еще не привык к табаку. «Опять начинается!» — подумал я и, чтобы проверить зрительную способность левого глаза, закрыл рукой правый. В левом глазу, действительно, ничего не было. Но под веком правого глаза вертелись бесчисленные зубчатые колеса. Наблюдая, как постепенно исчезают здания справа от меня, я торопливо шел по улице.
Когда я вошел в вестибюль отеля, зубчатые колеса пропали. Но голова еще болела. Я сдал в гардероб пальто и шляпу и попросил отвести мне номер. Потом позвонил в редакцию журнала и переговорил насчет денег.
Свадебный банкет, по-видимому, начался уже давно. Я сел на углу стола и взял в руки нож и вилку. Пятьдесят с лишним человек, сидевших за белыми, поставленными «покоем», столами, все, начиная с новобрачных, разумеется, были веселы. Но у меня на душе от яркого электрического света становилось все тоскливей. Чтобы не поддаться тоске, я заговорил со своим соседом. Это был старик с белой львиной бородой; знаменитый синолог, имя которого я не раз слыхал. Поэтому наш разговор сам собой перешел на сочинения китайских классиков.
— Цилинь — это единорог. А птица фынхуан — феникс...
Знаменитый синолог, по-видимому, слушал меня с интересом. Машинально продолжая свою речь, я начал постепенно чувствовать болезненную жажду разрушения и не только превратил Яо и Шуня в вымышленных персонажей, но и высказал мысль, что даже автор «Чунь-цю» жил гораздо позже — в Ханьскую эпоху. Тогда синолог обнаружил явное недовольство и, не глядя на меня, прервал мою речь, зарычав, почти как тигр:
— Если Яо и Шунь не существовали, значит, Конфуций лжет. А мудрец лгать не может.
Понятно, я замолчал. И опять потянулся ножом и вилкой к мясу на тарелке. Тут по краешку куска мяса медленно пополз червячок. Червяк вызвал в моей памяти английское слово worm1. Это слово, несомненно, тоже означало легендарное животное, вроде единорога или феникса. Я положил нож и вилку и стал смотреть, как мне в бокал наливают шампанское.
После банкета я пошел по пустынному коридору, спеша забраться в свой номер. Коридор напоминал не столько отель, сколько тюрьму. К счастью, головная боль стала легче.
1 Червяк (англ.).
600
Ко мне, в номер разумеется, уже принесли чемодан и даже пальто и шляпу. Мне показалось, что пальто, висящее на стене, — это я сам, и я поспешно швырнул его в шкаф, стоявший в углу. Потом подошел к трюмо и внимательно посмотрел в зеркало. У меня на лице под кожей обозначились впадины черепа. Червяк вдруг отчетливо всплыл у меня в памяти.
Я открыл дверь, вышел в коридор и побрел, сам не зная куда. В углу, в стеклянной двери холла ярко отражался торшер с зеленым абажуром. Это вселило мне в душу некоторый покой. Я сел на стул и задумался. Но я не просидел и пяти минут. Опять макинтош, кем-то небрежно сброшенный, висел на спинке дивана сбоку от меня.
«А ведь теперь самые холода...»
С этой мыслью я встал и пошел по коридору обратно. В дежурной комнате, в углу коридора, не видно было ни одного боя, но голоса их до меня долетали. Я услышал, как в ответ на чьи-то слова было сказано по-английски «all right» к Я старался уловить истинный смысл разговора. «Олл раит»? «Олл раит»? Собственно, что именно «олл раит»?
В комнате у меня, разумеется, была полная тишина. Но открыть дверь и войти было почему-то жутковато. Немного поколебавшись, я решительно вошел в комнату. Потом, стараясь не смотреть в зеркало, сел за стол. Кресло было обито синей кожей, похожей на кожу ящерицы. Я раскрыл чемодан, достал бумагу и хотел продолжать работу над рассказом. Но перо, набрав чернил, все не двигалось с места. Больше того, когда оно наконец сдвинулось, то выводило все одни и те же слова: all right... all right... ail right...
Вдруг раздался звонок — зазвонил телефон у постели. Я испуганно встал и поднес трубку к уху:
— Кто?
— Это я! Я...
Говорила дочь моей сестры.
— Что такое? Что случилось?
— Случилось несчастье. Поэтому... Случилось несчастье. Я сейчас звонила тете.
— Несчастье?
— Да, приезжайте сейчас же! Сейчас же!
На этом разговор оборвался. Я положил трубку и машинально нажал кнопку звонка. Но что рука у меня дрожит, я все же отчетливо сознавал. Бой все не являлся. Это меня не так раздражало, как мучило, и я вновь и вновь нажимал кнопку звонка. Нажимал,
1 Все в порядке, хорошо (англ.).
601
начиная понимать слова «олл раит», которым научила меня судьба...
В тот день муж сестры где-то в деревне недалеко от Токио бросился под колеса. Он был одет не по сезону — в макинтош. Я все еще в номере того же отеля пишу тот самый рассказ. Поздней ночью по коридору не проходит никто. Но иногда за дверью слышится хлопанье крыльев. Вероятно, кто-нибудь держит птиц.
23 марта 1927 г.
Я проснулся в номере отеля в восемь часов утра. Но когда хотел встать с постели, обнаружил почему-то только одну туфлю. Такие явления в последние год-два всегда внушали мне тревогу, страх. Вдобавок это заставило меня вспомнить царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию. Я позвонил, позвал боя и попросил найти вторую туфлю. Бой с недоумевающим видом принялся обшаривать тесную комнату.
— Вот она, в ванной!
— Как она туда попала?
— Са-а1. Может быть — крысы?
Когда бой ушел, я выпил чашку черного кофе и принялся за свой рассказ. Четырехугольное окно в стене из туфа выходило в занесенный снегом сад. Когда перо останавливалось, я каждый раз рассеянно смотрел на снег. Он лежал под кустами, на которых уже появились почки, грязный от городской копоти. Это отдавалось в моем сердце какой-то болью. Непрерывно куря, я, сам того не заметив, перестал водить пером и задумался о жене, о детях. И о муже сестры...
До самоубийства мужа сестры подозревали в поджоге. И этому никак нельзя было помочь. Незадолго до пожара он застраховал дом на сумму, вдвое превышающую настоящую стоимость. Притом над ним еще висел условный приговор за лжесвидетельство. Но сейчас меня мучило не столько его самоубийство, сколько то, что каждый раз, когда я ехал в Токио, я непременно видел пожар. То из окна поезда я наблюдал, как горит лес в горах, то из автомобиля (в тот раз я был с женой и детьми) глазам моим, иредставал пылающий район Токивабаси. Это случалось еще до того, как сгорел его дом, и не могло не вызвать у меня предчувствия пожара.
— Может быть, у нас в этом году произойдет пожар.
1 Са-а — междометие, выражающее раздумье при ответе (японск.).
602
— Что за мрачные предсказания!.. Если случится пожар — это будет ужасно. И страховка ничтожная...
Мы не раз говорили об этом. Но мой дом не сгорел... Я постарался прогнать видения и хотел было опять взяться за перо. Но перо не могло вывести как следует ни одной строки. В конце концов я встал из-за стола, бросился на постель и стал читать «Поли-кушку» Толстого. У героя этой повести сложный характер, в котором переплетены тщеславие, болезненные наклонности и честолюбие. И трагикомедия его жизни, если ее только слегка подправить, — это карикатура на мою жизнь. И оттого, что я чувствовал в его трагикомедии холодную усмешку судьбы, мне становилось жутко. Не прошло и часа, как я вскочил с постели и швырнул книгу в угол полутемной комнаты.
— Будь ты проклята!
Тут большая крыса выскочила из-под опущенной оконной занавески и побежала наискось по полу к ванной. Я бросился за ней, в один скачок очутился у ванной, распахнул дверь и осмотрел всю комнату. Но даже за самой ванной никакой крысы не оказалось. Мне сразу стало не по себе, я торопливо скинул туфли, надел ботинки и вышел в безлюдный коридор.
Здесь и сегодня все выглядело мрачно, как в тюрьме. Понурив голову, я ходил вверх и вниз по лестницам и как-то незаметно попал на кухню. Против ожиданий в кухне было светло. В плитах, расположенных в ряд по одной стороне, полыхало пламя. Проходя по кухне, я чувствовал, как повара в белых колпаках насмешливо смотрят мне вслед. И в то же время всем своим существом ощущал ад, в который давно попал. И с губ моих рвалась молитва: «О боже! Покарай меня, но не гневайся! Я погибаю».
Выйдя из отеля, я отправился к сестре, переступая через лужи растаявшего снега, в которых отражалась синева неба. На деревьях в парке, вдоль которого шла улица, ветви и листья были черными. Мало того, у всех у них были перед и зад, как у нас, у людей. Это тоже показалось мне неприятным, более того, страшным. Я вспомнил души, превращенные в деревья в Дантовом аду, и свернул на улицу, где проходила трамвайная линия и по обеим сторонам сплошь стояли здания. Но и здесь пройти спокойно хоть один квартал мне так и не удалось.
— Простите, что задерживаю вас...
Это был юноша лет двадцати двух в форменной куртке с металлическими пуговицами. Я молча на него взглянул и заметил, что на носу у него слева родинка. Сняв фуражку, он робко обратился ко мне:
— Простите, вы господин А[кутагава]?..
— Да.
603
— Я так и подумал, поэтому...
— Вам что-нибудь угодно?
— Нет, я только хотел с вами познакомиться. Я один из читателей и поклонников сэнсэя...
Тут я приподнял шляпу и пошел дальше. Сэнсэй, А[кутагава]-сэнсэй — в последнее время это были самые неприятные для меня слова. Я был убежден, что совершил массу всяких преступлений. А они по-прежнему называли меня: «сэнсэй!». Я невольно усматривал тут чье-то издевательство над собой. Чье-то? Но мой материализм неизбежно отвергал любую мистику. Несколько месяцев назад в журнальчике, издаваемом моими друзьями, я напечатал такие слова: «У меня нет никакой совести, даже совести художница: у меня есть только нервы...»
Сестра с тремя детьми нашла приют в бараке в глубине опустевшего участка. В этом бараке, оклеенном коричневой бумагой, было холодней, чем на улице. Мы разговаривали, грея руки над хибати. Отличаясь крепким сложением, муж сестры инстинктивно презирал меня, исхудавшего донельзя. Мало того, он открыто заявлял, что мои произведения безнравственны. Я всегда смотрел на него с насмешкой и ни разу откровенно с ним не поговорил. Но, беседуя с сестрой, я понемногу понял, что он, как и я, был низвергнут в ад. В самом деле, с ним однажды случилось, что в спальном вагоне он увидел привидение. Я закурил папиросу и старался говорить только о денежных вопросах.
— Что ж, раз так сложилось, придется все продавать!
— Да, пожалуй. Пишущая машинка сколько теперь стоит?
— И еще есть картины.
— Портрет N. (муж сестры) тоже продашь? Ведь он...
Но, взглянув на портрет, висевший без рамы на стене барака, я почувствовал, что больше не могу легкомысленно шутить. Говорили, что его раздавило колесами, лицо превратилось в кусок мяса и уцелели только усы. Этот рассказ сам по себе, конечно, жутковат. Однако на портрете, хотя в целом он был написан превосходно, усы почему-то едва виднелись. Я подумал, что это обман зрения, и стал всматриваться в портрет, отходя то в одну, то в другую сторону.
— Что ты так смотришь?
— Ничего... В этом портрете вокруг рта...
Сестра, полуобернувшись, ответила, словно ничего не замечая:
— Усы какие-то жидкие.
То, что я увидел, не было галлюцинацией. Но если это не галлюцинация, то... Я решил уйти, пока не доставил сестре хлопот с обедом.
— Не уходи!
604
— До завтра... Мне еще нужно в Аояма.
— А, туда! Опять плохо себя чувствуешь?
— Все глотаю лекарства, даже наркотики, просто ужас. Веронал, нейронал, торионал...
Через полчаса я вошел в одно здание и поднялся лифтом на третий этаж. Потом толкнул стеклянную дверь ресторана. Но дверь не подавалась. Мало того, на ней висела табличка с надписью: «Выходной день». Я все больше расстраивался и, поглядев на груды яблок и бананов за стеклянной дверью, решил уйти и спустился вниз, к выходу. Навстречу мне с улицы, весело болтая, вошли двое, по-видимому, служащие. Один из них, задев меня плечом, кажется, произнес: «Нервничает, а?»
Я остановился и стал ждать такси. Такси долго не показывалось, а те, которые наконец стали подъезжать, все были желтые. (Эти желтые такси постоянно вызывают у меня представление о несчастном случае.) Наконец я заметил такси благоприятного для меня зеленого цвета и отправился в психиатрическую лечебницу недалеко от кладбища Аояма.
«Нервничает». ...Tantalising1 ...Tantalus2 ...Inferno.
Тантал — это был я сам, глядевший на фрукты сквозь стеклянную дверь. Проклиная дантов ад, опять всплывший у меня перед глазами, я пристально смотрел на спину шофера. Опять стал чувствовать, что все ложь. Политика, промышленность, искусство, наука — все для меня в эти минуты было не чем иным, как цветной эмалью, прикрывающей ужас человеческой жизни. Я начинал задыхаться и опустил окно такси. Но боль в сердце не проходила.
Зеленое такси подъехало к храму. Там должен был находиться переулок, ведущий к психиатрической лечебнице. Но сегодня я почему-то никак не мог его найти. Я заставил шофера несколько раз проехать туда и обратно вдоль трамвайной линии, а потом, махнув рукой, отпустил его.
Наконец я нашел переулок и пошел по грязной дороге. Тут я вдруг сбился с пути и вышел к похоронному залу Аояма. Со времени погребения Нацумэ десять лет назад я не был даже у ворот этого здания. Десять лет назад у меня тоже не было счастья. Но, по крайней мере, был мир. Я заглянул через ворота во двор, усыпанный гравием, и, вспомнив платан в «Горной келье» Нацумэ, невольно почувствовал, что и в моей жизни чему-то пришел конец. Больше того, я невольно почувствовал, что именно после десяти лет привело меня к этой могиле.
1 Мучительно (англ.).
2 Тантал (лат.).
605
Выйдя из психиатрической лечебницы, я опять сел в автомобиль и поехал обратно в отель. Но когда я вылезал из такси, у входа в отель какой-то человек в макинтоше ссорился с боем. С боем? Нет, это был не бой, а агент по найму такси в зеленом костюме. Все это показалось мне дурной приметой, я не решился войти в отель и поспешно пошел прочь.
Когда я вышел на Гиндза, уже надвигались сумерки. Магазины по обе стороны улицы, головокружительный поток людей — все это нагнало на меня еще большую тоску. В особенности неприятно было шагать как ни в чем не бывало, с таким видом, будто не знаешь о преступлениях этих людей. При сумеречном свете, мешавшемся со светом электричества, я шел все дальше и дальше к северу. В это время мой взгляд привлек книжный магазин с грудой журналов на прилавке. Я вошел и рассеянно посмотрел на многоэтажные полки. Потом взял в руки «Греческую мифологию». Эта книга в желтой обложке, по-видимому, была написана для детей. Но строка, которую я случайно прочел, сразу сокрушила меня.
«Даже Зевс, самый великий из богов, не может справиться с духами мщения...»
Я вышел из лавки и зашагал в толпе. Зашагал, сутулясь, чувствуя за своей спиной непрестанно преследующих меня духов мщения...
27 марта 1927 г.
На втором этаже книжного магазина «Марудзэн» я увидел на полке «Легенды» Стриндберга и просмотрел две-три страницы. Там говорилось примерно о том же, что пережил я сам. К тому же книга была в желтой обложке. Я поставил «Легенды» обратно на полку и вытащил первую попавшуюся под руку толстую книгу. Но и в этой книге на иллюстрациях были все те же ничем не отличающиеся от нас, людей, зубчатые колеса с носом и глазами. (Это были рисунки душевнобольных, собранные одним немцем.) Я ощутил, как при всей моей тоске во мне подымается дух протеста, и, словно отчаявшийся игрок, стал открывать книгу за книгой. Но почему-то в каждой книге, в тексте или в иллюстрациях, были скрыты иглы. В каждой книге? Даже взяв в руки много раз читанную «Мадам Вовари», я почувствовал, что в конце концов я сам просто мосье Бовари среднего класса...
На втором этаже магазина в это время, под вечер, кроме меня, кажется, никого не было. При электрическом свете я бродил между полками. Потом остановился перед полкой с надписью «Ре-
606
лигия» и просмотрел книгу в зеленой обложке. В оглавлении, в названии какой-то главы, стояли слова: «Четыре страшных врага — сомнения, страх, высокомерие, чувственность». Едва я увидел эти слова, как во мне усилился дух протеста. То, что адесь именовалось врагами, было, по крайней мере для меня, просто другим названием восприимчивости и разума. Но что и дух традиций, и дух современности делают меня несчастным — этого я вынести не мог. Держа в руках книгу, я вдруг вспомнил слова: «Юноша из Шоулина», когда-то взятые мною в качестве литературного псевдонима. Этот юноша из рассказа Хань Фэй-цзы, не выучившись ходить, как ходят в Ганьдане, забыл, как ходят в Шоулине, и ползком вернулся домой. Такой, какой я теперь, я в глазах всех, несомненно, «Юноша из Шоулина». Но что я взял себе этот псевдоним, еще когда не был низринут в ад... Я отошел от высокой полки и, стараясь отогнать мучившие меня мысли, перешел в комнату напротив, где была выставка плакатов. Но и там на одном плакате всадник, видимо, святой Георгий, пронзал копьем крылатого дракона. Вдобавок у этого всадника из-под шлема виднелось искаженное лицо, напоминающее лицо одного моего врага. Я опять вспомнил Хань Фэй-цзы — его рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона и, не осмотрев выставки, спустился по широкой лестнице вниз, на улицу.
Уже совсем завечерело. Проходя по Нихонбасидори, я продолжал думать о словах «убиение дракона». Такая надпись была и на моей тушечнице. Эту тушечницу прислал мне один молодой коммерсант. Он потерпел неудачу в целом ряде предприятий и в конце концов в прошлом году разорился. Я посмотрел на высокое небо и хотел подумать о том, как ничтожно мала земля среди сияния бесчисленных звезд, — следовательно, как ничтожно мал я сам. Но небо, днем ясное, теперь было покрыто облаками. Я вдруг почувствовал, что кто-то затаил против меня враждебные замыслы, и нашел себе убежище в кафе неподалеку от линии трамвая.
Это действительно было «убежище». Розовые стены кафе навеяли на меня мир, и я наконец спокойно сел за столик в самой глубине зала. К счастью, посетителей, кроме меня, было всего два-три. Прихлебывая маленькими глотками какао, я, как обычно, закурил. Дым от папиросы поднялся голубой струйкой к розовой стене. Эта нежная гармония цветов была мне приятна. Но немного погодя я заметил портрет Наполеона, висевший на стене слева, и мало-помалу опять почувствовал тревогу. Когда Наполеон был еще школьником, он записал в конце своей тетради по географии: «Святая Елена — маленький остров». Может быть, это была, как мы говорим, случайность. Но нет сомнения, что в нем самом она вызвала страх...
607
Глядя на портрет, я вспомнил свои произведения. Прежде всего всплыли в моей памяти афоризмы из «Слов пигмея» (в особенности— слова: «Человеческая жизнь—больше ад, чем сам ад»). Потом судьба героя «Мук ада» — художника Ёсихидэ. Потом... про-» должая курить, я, чтобы избавиться от этих воспоминаний, обвел взглядом кафе. С того момента, как я нашел здесь убежище, не прошло и пяти минут. Но за этот короткий промежуток времени вид зала совершенно изменился. Особенно расстроило меня, что столы и стулья под красное дерево совсем не гармонировали с розовыми стенами. Я боялся, что опять погружусь в невидимые человеческому глазу страдания, и, бросив серебряную монетку, хотел быстро уйти из кафе.
— С вас двадцать сэнов...
Оказывается, я бросил не серебряную монету, а медную.
Я шел по улице, посрамленный, и вдруг вспомнил свой дом в далекой сосновой роще. Не дом моих приемных родителей в пригороде, а просто дом, снятый для моей семьи, главой которой был я. Десять лет назад я жил в таком доме. А потом, в силу сложившихся обстоятельств, бездумно поселился вместе с приемными родителями. И тотчас же превратился в раба, в деспота, в бессильного эгоиста...
В свой отель я вернулся уже в десять. Усталый от долгого хождения, я не нашел в себе сил пойти в номер и тут же опустился в кресло перед камином, в котором пылали толстые круглые поленья. Потом я вспомнил о задуманном романе. Героем этого романа должен быть народ во все периоды своей истории от Суйко до Мэйдзи, а состоять роман должен был из тридцати с лишним новелл, расположенных в хронологическом порядке. Глядя на разлетавшиеся искры, я вдруг вспомнил медную статую перед дворцом. На всаднике были шлем и латы, он твердо сидел верхом на коне, словно олицетворение духа верноподданности. А враги этого человека...
Ложь!
Я опять перенесся из далекого прошлого в близкое настоящее. Тут, к счастью, подошел один скульптор из числа моих старших друзей. Он был в своей неизменной бархатной куртке, с торчащей козлиной бородкой. Я встал с кресла и пожал его протянутую руку. (Это не в моих привычках. Но это привычно для него, проводившего полжизни в Париже и Берлине.) Рука у него почему-то была влажная, как кожа пресмыкающегося.
— Ты здесь остановился?
— Да...
— Для работы?
— Да, работаю.
608

«В стране водяных»
Он внимательно поглядел на меня. В его глазах мне почудилось такое выражение, словно он что-то высматривает.
— Не зайдешь ли поболтать ко мне в номер? — заговорил я развязно. (Вести себя развязно, несмотря на робость, — одна из моих дурных привычек.) Тогда он, улыбаясь, спросил:
— А где он, твой номер?
Как добрые друзья, плечо к плечу, мы прошли ко мне в номер мимо тихо беседовавших иностранцев. Войдя в комнату, он сел спиной к зеркалу. Потом заговорил о разных вещах. О разных? Главным образом о женщинах. Конечно, я был одним из тех, кто за совершенные преступления попал в ад. Поэтому фривольные разговоры все более наводили на меня тоску. На минуту я стал пуританином и принялся высмеивать женщин.
— Посмотри на губы С. Она ради поцелуев с кем попало... Вдруг я замолчал и уставился на отражение собеседника в
зеркальце. Как раз под ухом у него был желтый пластырь.— Ради поцелуев с кем попало?
— Да, мне кажется, она такая.
Он улыбнулся и кивнул. Я чувствовал, что он все время следит за мной, чтобы выведать мою тайну. Однако разговор все еще вертелся вокруг женщин. Мне не столько был противен этот собеседник, сколько стыдно было своей собственной слабости, и оттого становилось все тоскливее.
Когда он ушел, я бросился на постель и стал читать «Путь в темную ночь». Душевная борьба героя причиняла мне муки. Я почувствовал, каким был идиотом по сравнению с ним, и у меня вдруг полились слезы. И в то же время слезы незаметно успокоили меня. Впрочем, ненадолго. Мой правый глаз опять увидел прозрачные зубчатые колеса. Они вертелись, их становилось все больше. Боясь, как бы у меня снова не разболелась голова, я отложил книгу, принял таблетку в 0,8 веронала и постарался уснуть.
Мне приснился пруд. В нем плавали и ныряли мальчики и девочки. Я повернулся и пошел в сосновый лес. Тогда сзади кто-то окликнул меня: «Отец!» Оглянувшись, я заметил на берегу пруда жену. И меня охватило острое раскаяние.
— Отец, а полотенце?
— Полотенца не нужно. Смотри за детьми!
Я пошел дальше. Но дорога вдруг превратилась в перрон. Это, по-видимому, была провинциальная станция, вдоль перрона тянулась длинная живая изгородь. У изгороди стояли студент и пожилая женщина. Увидев меня, они подошли ко мне и заговорили:
— Большой пожар был!
— Я еле спасся.
Мне показалось, что эту пожилую женщину я уже где-то ви-
20 Акутагава Рюноскэ
609
дел. Мало того, разговаривая с ней, я чувствовал приятное возбуждение. Тут поезд, выбрасывая дым, медленно подошел к перрону. Я один сел в поезд и зашагал по спальному вагону мимо свисавших по обеим сторонам белых занавесок. На одной полке лежала лицом к проходу обнаженная, похожая на мумию женщина. Это тоже был мой дух мщения — дочь одного сумасшедшего...
Проснувшись, я сразу же невольно вскочил с постели. В комнате по-прежнему ярко горело электричество. Но откуда-то слышалось хлопанье крыльев и писк мышей. Открыв дверь, я вышел в коридор и торопливо направился к камину. Я опустился в кресло и стал смотреть на колеблющееся неверное пламя, Тут подошел бой в белом костюме, чтобы подложить дров.
— Который час?
— Половина четвертого.
Однако в отдаленном углу холла какая-то американка все еще читала книгу. Даже издали видно было, что на ней зеленое платье. Я почувствовал себя спасенным и стал терпеливо ждать рассвета. Как старик, который много лет страдал и тихо ждет смерти...
28 марта 1927 г.
Я наконец закончил в номере отеля начатый рассказ и решил послать его в журнал. Впрочем, моего гонорара не хватило бы даже на недельное пребывание здесь. Но я был доволен, что закончил работу, и пошел в одну книжную лавку на Гиндза достать себе какое-нибудь успокаивающее душу лекарство.
На асфальте, залитом зимним солнцем, валялись обрывки бумаги. Эти обрывки, может быть, из-за освещения, казались точь-в-точь лепестками ров. Я почувствовал в этом чье-то доброжелательство и вошел в лавку. Там тоже было как-то необычно уютно. Только какая-то девочка в очках разговаривала с приказчиком, что не могло не обеспокоить меня. Но я вспомнил рассыпанные на улице бумажные лепестки роз и купил «Разговоры Анатоля Франса» и «Письма Мериме».
С двумя книгами под мышкой я пошел в кафе. И, усевшись за столик в самой глубине, стал ждать, пока мне принесут кофе. Против меня сидели, по-видимому, мать с сыном. Сын был удивительно похож на меня, только моложе. Они разговаривали, наклонившись друг к другу, как влюбленные. Рассматривая их, я заметил, что, по крайней мере, сын сознает, что он сексуально приятен матери. Для меня это, безусловно, был пример столь памятной мне силы влечения. И в то же время — пример тех стремлений, которые
610
превращают реальный мир в ад. Однако... Я испугался, что опять погружусь в страдания, и, обрадовавшись, что как раз принесли кофе, раскрыл «Письма Мериме». В своих письмах, как и в рассказах, он блещет афоризмами. Его афоризмы мало-помалу внушили мне железную твердость духа. (Быстро поддаваться влиянию — одна из моих слабостей.) Выпив чашку кофе, с настроением «будь что будет!» я поспешно вышел из кафе.
Идя по улице, я рассматривал витрины. В витрине магазина, где торговали рамами, был выставлен портрет Бетховена. Это был портрет настоящего гения, с откинутыми назад волосами. Глядя на этого Бетховена, я не мог отделаться от мысли, что в нем есть что-то смешное...
В это время со мной вдруг поравнялся старый товарищ, которого я не видел со школьных времен, преподаватель прикладной химии в университете. Он нес большой портфель; один глаз у него был воспаленный, налитый кровью.
— Что у тебя с глазом?
— Ничего особенного, конъюнктивит.
Я вдруг вспомнил, что лет пятнадцать назад каждый раз, когда я испытывал влечение, глаза у меня воспалялись, как у него. Но я ничего не сказал. Он хлопнул меня по плечу и заговорил о наших товарищах. Потом, продолжая говорить, повел меня в кафе.
— Давно не виделись: с тех пор как открывали памятник Сю Сюнсую! — закурив, заговорил он через разделявший нас мраморный столик.
— Да. Этот Сю Сюн...
Я почему-то не мог как следует выговорить имя Сю Сюнсуй, хотя произносилось оно по-японски; это меня встревожило. Но он не обратил на эту заминку никакого внимания и продолжал болтать о писателе К., о бульдоге, которого купил, об отравляющем газе люизите...
— Ты что-то совсем перестал писать. «Поминальник» я читал... Это автобиографично?
— Да, это автобиографично.
— В этой вещи есть что-то болезненное. Ты вдоров?
— Все так же приходится глотать лекарства.
— У меня тоже последнее время бессонница.
— Тоже? Почему ты сказал «тоже»?
— А разве ты не говорил, что у тебя бессонница? Бессонница — опасная штука!
В его левом, налитом кровью глазу мелькнуло что-то похожее на улыбку. Еще не ответив, я почувствовал, что не могу правильно выговорить последний слог слова «бессонница».
«Для сына сумасшедшей это вполне естественно!»
20*
611
Не прошло и десяти минут, как я опять шагал один по улице. Теперь клочки бумаги, валявшиеся на асфальте, минутами напоминали человеческие лица. Мимо прошла стриженая женщина. Издали она казалась красивой. Но когда она поравнялась со мной, оказалось, что лицо у нее морщинистое и безобразное. Вдобавок она была, по-видимому, беременна. Я невольно отвел глаза и свернул на широкую боковую улицу. Немного погодя я почувствовал геморроидальные боли. Избавиться от них можно было только одним средством — поясной ванной.
«Поясная ванна»... Бетховен тоже делал себе поясные ванны.
Запах серы, употребляющейся при поясных ваннах, вдруг ударил мне в нос. Но, разумеется, никакой серы нигде на улице не было. Я старался идти твердо, опять вспоминая бумажные лепестки роз.
Час спустя я заперся в своем номере, сел за стол перед окном и приступил к новому рассказу. Перо летало по бумаге так быстро. что я сам удивлялся. Но через два-три часа оно остановилось, точно придавленное кем-то невидимым. Волей-неволей я встал из-за стола и принялся шагать по комнате. В эти минуты я был буквально одержим манией величия. В дикой радости мне казалось, что у меня нет ни родителей, ни жены, ни детей, а есть только жизнь, льющаяся из-под моего пера.
Однако несколько минут спустя мне пришлось подойти к телефону. В трубке, сколько я ни отвечал, слышалось только одно и то же непонятное слово. Во всяком случае, оно, несомненно, звучало, как «моул». Наконец я положил трубку и опять зашагал по комнате. Только слово «моул» как-то странно беспокоило меня.
— Моул...
Mole по-английски значит «крот». Эта ассоциация не доставила мне никакого удовольствия. Через две-три секунды я превратил mole в la mort. «Ля мор» — французское слово «смерть» — сразу вселило в меня тревогу. Смерть гналась и за мной, как за мужем сестры. Но в самой своей тревоге я чувствовал что-то смешное. И даже стал улыбаться. Это чувство смешного — откуда оно бралось? Я сам не понимал. Я подошел к зеркалу, чего давно не делал, и посмотрел в упор на свое отражение. Оно, понятно, тоже улыбалось. Рассматривая свое отражение, я вспомнил о двойнике. Двойник — немецкий Doppelganger — к счастью, мне являлся. Но жена господина К., ныне американского киноактера, видела моего двойника в театре. (Я помню, как я смутился, когда она сказала мне: «Последний раз вы мне даже не поклонились...») Затем некий одноногий переводчик, теперь покойный, видел моего двойника в табачной лавке на Гиндза. Может быть, смерть придет к моему
612
двойнику раньше, чем ко мне? Если даже она уже стоит за мной... Я повернулся к зеркалу спиной и вернулся к столу.
Четырехугольное окно в стене из туфа выходило на высохший газон и пруд. Глядя в сад, я вспомнил о записных книжках и незаконченных пьесах, сгоревших в далеком сосновом лесу. Потом опять взялся за перо и начал новый рассказ.
29 марта 1927 г.
Свет солнца стал меня мучить. В самом деле, я работал, как крот, даже днем при электрическом свете, опустив занавески на окнах. Я усердно писал рассказ, а устав от работы, раскрывал историю английской литературы Тэна и просматривал биографии поэтов. Все они были несчастны. Даже гиганты елисаветинского двора, даже выдающийся ученый Бен Джонсон дошел до такого нервного истощения, что видел, как на большом пальце его ноги начинается сражение римлян с карфагенянами. Я не мог удержаться от жестокого злорадства.
Однажды вечером, когда дул сильный восточный ветер (для меня это хорошая примета), я вышел на улицу, решив навестить одного старика. Он служил посыльным в каком-то библейском обществе и там на чердаке в одиночестве предавался молитвам и чтению. Мы беседовали под висевшим на стене распятием, грея руки над хибати. Отчего моя мать сошла с ума? Отчего дела моего отца окончились крахом? И отчего я наказан? Он, знавший все эти тайны, долго беседовал со мной с удивительно торжественной улыбкой на губах. Больше того — иногда он в кратких словах рисовал карикатуры на человеческую жизнь. Этого отшельника на чердаке я не мог не уважать. Но в разговоре с ним я открыл, что и им движет сила влечения.
— Дочь этого садовника и хорошенькая и добрая — она всегда ко мне ласкова.
— Сколько ей лет?
— В этом году исполнилось восемнадцать.
Может быть, он считал это отцовской любовью. Но я не мог не заметить в его глазах выражения страсти. На желтоватой кожуре яблока, которым он меня угостил, обозначилась фигура единорога. (Я не раз обнаруживал мифологических животных в рисунке разреза дерева или в трещинах на кофейной чашке.) Единорог — это было чудище. Я вспомнил, как один враждебный мне критик назвал меня «чудищем девятьсот десятых годов», и почувствовал, что и этот чердак не является для меня островком безопасности.
613
— Ну, как вы в последнее время?
— Все еще нервы не в порядке.
— Тут лекарства не помогут. Нет у вас охоты стать верующим?
— Если б я мог... Э
— Ничего трудного нет. Если только поверить в бога, поверить в сына божьего — Христа, поверить в чудеса, сотворенные Христом...
— В дьявола я поверить могу...
— Почему же вы не верите в бога? Если верите в тень, почему не можете поверить в свет?
— Но бывает тьма без света.
— Тьма без света — что это такое?
Мне оставалось только молчать. Он, как и я, блуждал во тьме. Но он верил, что над тьмой есть свет. Наши теории расходились только в этом одном пункте. Однако это, по крайней мере, для меня было непроходимой пропастью.
— Свет, безусловно, существует. И доказательством тому служат чудеса. Чудеса — они иногда случаются и теперь.
— Эти чудеса творит дьявол.
— Почему вы опять говорите о дьяволе?
Я почувствовал искушение рассказать ему, что мне пришлось пережить за последние год-два. Но я не мог подавить в себе опасений, что через него это станет известно жене и я, как и моя мать, попаду в сумасшедший дом.
— Что это у вас там?
Крепкий не по годам старик обернулся к книжной полке, и на лице его появилось какое-то пастырское выражение.
— Собрание сочинений Достоевского. «Преступление и наказание» вы читали?
Разумеется, я любил Достоевского еще десять лет назад. И под впечатлением случайно (?) оброненных хозяином слов «Преступление и наказание» я взял у него эту книгу и пошел к себе в отель. Залитые электрическим светом многолюдные улицы по-прежнему были мне неприятны. Встречаться со знакомыми было совершенно невыносимо. Я шел, выбирая, словно вор, улицы потемнее.
Но немного спустя у меня начались боли в желудке. Помочь мог только стакан виски. Я заметил бар, толкнул дверь и хотел было войти. Но там в тесноте в облаках дыма толпились какие-то люди, не то литераторы, не то художники, и пили водку. Вдобавок в самом центре какая-то женщина с зачесанными за уши волосами с увлечением играла на мандолине. Я сразу смутился и, не входя, повернул обратно. Тут я заметил, что моя тень движется из сто-
614
роны в сторону. А освещал меня — и это было как-то жутко — красный свет. Я остановился. Но моя тень все еще шевелилась. Я боязливо обернулся и наконец заметил цветной фонарь, висевший над дверью бара. Фонарь тихо покачивался от сильного ветра. После этого я зашел в погребок. Подошел к стойке и заказал виски.
— Виски? Есть только «Black and white»Ч— Я влил виски в содовую и молча стал прихлебывать. Рядом со мной тихо разговаривали двое мужчин лет около тридцати, похожие на журналистов. Они беседовали по-французски. Стоя к ним спиной, я всем существом чувствовал на себе их взгляды. Они действовали на меня, как электрические волны. Эти люди, наверно, знали мое имя, они, кажется, говорили обо мне.
— Bien... tres mauvais... pourquoi?
— Pourquoi? Le diable est mort!
— Oui, oui... d'enfer...2
Я бросил серебряную монету (мою последнюю) и бежал из подвала. Улицы, по которым носился ночной ветер, успокоили мои нервы, боль в желудке поутихла. Я вспомнил Раскольникова и почувствовал желание исповедаться. Но это, несомненно, окончилось бы трагедией не только для меня и даже не только для моей семьи. Кроме того, я сомневался в искренности самого этого желания. Если бы только мои нервы стали здоровыми, как у всякого нормального человека!.. Но для этого я должен был куда-нибудь уехать. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд...
В это время небольшая белая вывеска над дверью одной лавки вдруг встревожила меня. На ней была изображена торговая марка в виде шины с крыльями. Я сейчас же вспомнил древнего грека, доверившегося искусственным крыльям. Он поднялся на воздух, его крылья расплавились на солнце, и в конце концов он упал в море и утонул. В Мадрид, в Рио-де-Жанейро, в Самарканд... Я невольно посмеялся над своими мечтами. И в то же время невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения.
Я шел по темной улице вдоль канала. И вспомнил дом своих приемных родителей в пригороде. Несомненно, моя приемная мать живет в ожидании моего возвращения. Пожалуй, мои дети тоже... Но я не мог не бояться некоей силы, которая свяжет меня, как только я вернусь. На волнующейся воде канала у пристани стояла барка. Из другой барки пробивался слабый свет. Там, наверное, жили какие-то люди, семья. Тоже — любя друг друга и ненавидя...
1 «Черное и белое» — марка виски (англ.),
2 — Хорошо... очень плохо... почему? — Почему? Дьявол умер!
1 — Да, да... из ада... (франц.)
615
Но я еще раз вызвал в себе воинственный дух и, чувствуя легкое опьянение от виски, вернулся к себе в отель.
Я опять уселся за стол и взялся за неоконченные «Письма Мериме». И опять они влили в меня какую-то жизненную силу. Но, узнав, что к старости Мериме сделался протестантом, я вдруг представил себе его лицо, скрытое под маской. Он тоже был одним из тех, кто, как и мы, бродит во тьме. Во тьме? «Путь в темную ночь» стал превращаться для меня в страшную книгу. Чтобы разогнать тоску, я принялся за «Разговоры Анатоля Франса». Но и этот современный добрый пастырь нес свой крест...
Через час вошел бой и подал мне пачку писем. Одно из них содержало предложение лейпцигской книжной фирмы написать статью на тему: «Современная японская женщина». Почему они заказывали такую статью именно мне? Мало того, в этом написанном по-английски письме имелся постскриптум от руки: «Мы удовлетворимся портретом женщины, сделанным, как в японских рисунках, черным и белым». Я вспомнил название виски «Black and white» — и разорвал письмо в мелкие клочки. Потом взял первый попавшийся под руку конверт, вскрыл его и просмотрел письмо на желтой почтовой бумаге. Писал незнакомый юноша. Но не прочел я и двух-трех строк, как от слов «Ваши «Муки ада» пришел в волнение. Третье письмо было от племянника. Я вздохнул свободно и стал читать о домашних делах. Но даже здесь конец письма меня пришиб.
«Посылаю переиздание сборника стихов «Красный свет».
Красный свет! Я почувствовал, будто кто-то насмехается надо мной, и решил спастись бегством из комнаты. В коридоре не было ни души. Держась рукой за стену, я добрался до холла. Сел в кресло и решил, как бы там ни было, выкурить папиросу. Почему-то у меня оказались папиросы «Airship»1 (С тех пор как я поселился в этом отеле, я намеревался курить только «Star» 2.) Искусственные крылья опять всплыли у меня перед глазами. Я позвал боя и попросил две коробки «Star». Но, если верить бою, именно сорт «Star», к моему сожалению, был весь распродан.
— «Airship» — извольте...
Я покачал головой и обвел взглядом просторный холл. Поодаль, вокруг стола, сидели и беседовали несколько иностранцев. Среди них женщина в красном костюме, тихо разговаривая, иногда как будто поглядывала на меня.
— Миссис Таунзхед, — шепнул мне кто-то невидимый. Имена вроде миссис Таунзхед, конечно, были мне незнакомы.
1 «Дирижабль» (англ.),
2 «Звезда» (англ.).
616
Даже если так звали ту женщину... Я поднялся и, боясь сойти с ума, пошел к себе в номер.
Вернувшись в номер, я собирался сразу же позвонить в психиатрическую лечебницу. Но попасть туда для меня было бы все равно что умереть. После мучительных колебаний я, чтобы рассеять страх, начал читать «Преступление и наказание». Но страница, на которой раскрылась книга, была из «Братьев Карамазовых». Подумав, что по ошибке взял не ту книгу, я взглянул на обложку. «Преступление и наказание» — да, книга называлась: «Преступление и наказание». В ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти вверстанные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит черт... Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате...
Теперь спасти меня мог только сон. Но снотворные порошки кончились все до единого. Мучиться и дальше без сна было совершенно невыносимо. С мужеством отчаяния я все-таки велел принести кофе и, как обезумевший, схватил перо. Две страницы, пять, семь, десять... рукопись росла на глазах. Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Больше того, в одном из этих животных я нарисовал самого себя. Однако усталость мало-помалу затуманивала мою голову. В конце концов я встал из-за стола и лег навзничь на кровать. Наконец я, кажется, заснул и спал минут сорок — пятьдесят. Но услышал, как кто-то шепчет мне на ухо:
— Le diable est mort...
Сразу проснувшись, я вскочил.
За окном начинался холодный рассвет. Я стал прямо перед дверью и оглядел пустую комнату. И вот на оконном стекле на узорах осевшего инея появился крошечный пейзаж. За пожелтевшим сосновым лесом лежало море. Я боязливо подошел к окну и увидел, что на самом деле этот пейзаж образован высохшим газоном и прудом в саду. Но моя галлюцинация пробудила во мне что-то похожее на тоску по родному дому.
Как только настало девять, я позвонил в одну редакцию и, уладив денежные дела, решил вернуться домой. Решил, засовывая книги и рукописи в лежавший на столе чемодан...
30 марта 1927 г.
Я ехал в автомобиле со станции Токайдоской железной дороги в дачную местность. Шофер почему-то в такой холод был в поношенном макинтоше. От этого совпадения мне стало не по себе,
617
и, чтобы не видеть шофера, я решил смотреть в окно. Тут поодаль среди низкорослых сосен — вероятно, на старом шоссе — я заметил похоронную процессию. Фонарей, затянутых белым, как будто не было. Но волотые и серебряные искусственные лотосы тихо покачивались впереди и позади катафалка...
Когда наконец я вернулся домой, то благодаря жене, детям и снотворным средствам два-три дня прожил довольно спокойно. Из моего мезонина вдали за сосновым лесом чуть виднелось море. Здесь, в мезонине, сидя за своим столом, я занимался по утрам, слушал воркованье голубей. Кроме голубей и ворон, на веранду иногда залетали воробьи. Это тоже было мне приятно. «Вхожу в чертог радостных птиц», — каждый раз при виде них я вспоминал эти слова.
Однажды в теплый пасмурный день я пошел в мелочную лавку купить чернил. Но в лавке оказались чернила только цвета сепии. Чернила цвета сепии всегда расстраивают меня больше всяких других. Делать было нечего, и я, выйдя из лавки, побрел один по безлюдной улице. Тут навстречу мне, выпятив грудь, прошел близорукий иностранец лет сорока.
Это был швед, живший по соседству и страдавший манией преследования. И звали его Стриндберг. Когда он проходил мимо, мне показалось, будто я физически ощущаю это.
Улица состояла всего из двух-трех кварталов. Но на протяжении этих двух-трех кварталов ровно наполовину белая, наполовину черная собака пробежала мимо меня четыре раза. Сворачивая в переулок, я вспомнил виски «Black and white». И вдобавок вспомнил, что сейчас на Стриндберге был черный с белым галстук. Я никак не мог допустить, что это случайность. Если же это не случайность, то... Мне показалось, будто по улице идет одна моя голова, и я на минутку остановился. На обочине дороги за проволочной оградой валялась стеклянная миска с радужным отливом. На дне миски проступал узор, напоминавший крылья. С веток сосны слетела стайка воробьев. Но, подскакав к миске, они, точно сговорившись, все до единого разом упорхнули ввысь.
Я пошел к родителям жены и сел в кресло, стоявшее у ступенек в сад. В углу сада за проволочной сеткой медленно расхаживали белые куры из породы леггорн. А потом у моих ног улеглась черная собака. Стараясь разрешить никому не понятный вопрос, я все-таки внешне вполне спокойно беседовал с матерью жены и ее братом.
— Тихо как здесь.
— Это по сравнению с Токио.
— А что, разве и тут бывают неприятности?
618
— Да ведь свет-то все тот же! — сказала теща и засмеялась. В самом деле, и это дачное место было на том же самом свете.
Я хорошо знал, сколько преступлений и трагедий случилось здесь всего за какой-нибудь год. Врач, который намеревался медленно отравить пациента, старуха, которая подожгла дом приемного сына и его жены, адвокат, который пытался завладеть имуществом своей младшей сестры... Видеть дома этих людей для меня было все равно что в человеческой жизни видеть ад.
— У нас в городке есть один сумасшедший.
— Наверно, господин X. Он не сумасшедший, он слабоумный.
— Это есть такая штука — dementia ргаесох. Каждый раз, как я его вижу, мне невыносимо жутко. Недавно он почему-то отвешивал поклоны перед статуей Бато-Кандзэон.
— Жутко?.. Надо быть покрепче.
— Братец крепче, чем я, и все же...
Брат жены, давно не бритый, приподнявшись на постели, как всегда, застенчиво присоединился к нашему разговору.
— И в силе есть своя слабость.
— Ладно, ладно, будет тебе, — сказала теща.
Я посмотрел на него и невольно горько улыбнулся. А брат продолжал говорить с увлечением, слегка улыбаясь и устремив взгляд через изгородь вдаль на сосновый лес. Он был молод, только что оправился от болезни и казался мне иногда чистым духом, освободившимся от своего тела.
— Думаешь, он ушел от людей, а оказывается, он весь во власти человеческих страстей.
— Думаешь, добрый человек, а он, оказывается, злой.
— Нет, есть и большие противоположности, чем добро и зло...
— Ну, например, во взрослом можно обнаружить ребенка.
— Нет, не то! Я не могу ясно выразить, но... что-нибудь вроде двух полюсов электричества. Что-то, что соединяет противоположности.
Тут нас испугал сильный шум аэроплана. Я невольно посмотрел вверх и увидел аэроплан, который, чуть не задев верхушки сосен, взмыл в воздух. Это был редко встречающийся моноплан с крыльями, выкрашенными в желтый цвет. Куры, вспугнутые шумом, разбежались в разные стороны. Особенно струсила собака; она залаяла и, поджав хвост, забилась под балкон.
— Аэроплан не упадет?
— Не беспокойтесь. Братец знает, что такое «летная болезнь»? Закуривая папиросу, я, вместо того чтобы ответить «нет», просто покачал головой.
619
— Люди, постоянно летающие на аэропланах, дышат воздухом высот и поэтому постепенно перестают выносить наш земной воздух...
Выйдя из дома тещи, я зашагал через неподвижно застывший сосновый лес, мало-помалу мне становилось все тоскливей. Почему этот аэроплан пролетел не где-нибудь, а именно над моей головой? И почему в том отеле продавали только папиросы «Air-ship»? Терзаясь разными вопросами, я пошел по самой безлюдной дороге.
Над тусклым морем за низкими дюнами нависла серая мгла. А на песчаном холме высились столбы для качелей, но качелей на них не было. Глядя на эти столбы, я вдруг вспомнил виселицу. И действительно, на перекладине сидело несколько ворон. Хотя они видели меня, но вовсе не собирались улетать. Мало того, ворона, сидевшая посредине, подняла свой длинный клюв и каркнула четыре раза.
Идя вдоль песчаной насыпи, поросшей сухой травой, я решил свернуть на тропинку, по обеим сторонам которой стояли дачи. Слева от тропинки среди высоких сосен должен был белеть деревянный европейский дом с мезонином. (Мой близкий друг назвал этот дом «домом весны»). Но когда я поравнялся с этим местом, на бетонном фундаменте стояла только одна ванна. «Здесь был пожар!» — подумал я сразу и зашагал дальше, стараясь не смотреть в ту сторону. Тут навстречу мне показался мужчина на велосипеде. На нем была коричневая кепка, он всем телом налег на руль, как-то странно уставив взгляд перед собой. Его лицо вдруг показалось мне лицом мужа моей сестры, и я свернул на боковую тропинку, чтобы не попасться ему на глаза. Но на самой середине этой тропинки валялся брюшком вверх полуразложившийся дохлый крот.
Что-то преследовало меня, и это на каждом шагу усиливало мою тревогу. А тут поле моего зрения одно за другим стали заслонять полупрозрачные зубчатые колеса. В страхе, что наступила моя последняя минута, я шел, стараясь держать голову прямо. Зубчатых колес становилось все больше, они вертелись все быстрей. В то же время справа едены с застывшими переплетенными ветвями стали принимать такой вид, как будто я смотрел на них сквозь мелко граненное стекло. Я чувствовал, что сердце у меня бьется все сильнее, и много раз пытался остановиться на краю дороги» Но, словно подталкиваемый кем-то, никак не мог этого сделать.
Через полчаса я лежал у себя в мезонине, крепко закрыв глаза, с жестокой головной болью. И вот под правым веком появилось; крыло, покрытое, точно чешуей, серебряными перьями. Оно ясно
620
отражалось у меня на сетчатке. Я открыл глаза, посмотрел на потолок и, разумеется, убедившись, что на потолке ничего похожего нет, опять закрыл глаза. Но снова серебряное крыло отчетливо обозначилось во тьме. Я вдруг вспомнил, что на радиаторе автомобиля, на котором я недавно ехал, тоже были изображены крылья...
Тут кто-то торопливо взбежал по лестнице и сейчас же опять побежал вниз. Я понял, что это моя жена, испуганно вскочил и бросился в полутемную комнату под лестницей. Жена сидела, низко опустив голову, с трудом переводя дыхание, плечи ее вздрагивали.
— Что такое?
— Ничего.
Жена наконец подняла лицо и, с трудом выдавив улыбку, сказала:
— В общем, право, ничего, только мне почему-то показалось, что вы вот-вот умрете...
Это было самое страшное, что мне приходилось переживать за всю мою жизнь. Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыразимая мука! Неужели не найдется никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?
7 апреля 1927 г. (Опубликовано посмертно.)
1
Голос. Ты оказался совсем другим человеком, чем я думал.
Я. Я за это не в ответе.
Голос. Однако ты сам ввел меня в заблуждение.
Я. Я никогда этого не делал.
Голос. Однако ты любил прекрасное — или делал вид, что любишь.
Я. Я люблю прекрасное.
Голос. Что же ты любишь? Прекрасное? Или одну женщину?
Я. И то и другое.
Голос (с холодной усмешкой). Похоже, что ты не считаешь это противоречием.
Я. А кто же считает? Тот, кто любит женщину, может не любить старинного фарфора. Но это просто потому, что он не понимает прелести старинного фарфора.
621
Голос. Эстет должен выбрать что-нибудь одно.
Я. К сожалению, я не столько эстет, сколько человек, от природы жадный. Но в будущем я, может быть, выберу старинный фарфор, а не женщину.
Голое. Значит, ты непоследователен.
Я. Если это непоследовательность, то в таком случае больной инфлюэнцей, который делает холодные обтирания, вероятно, самый последовательный человек.
Голос. Перестань притворяться, будто ты силен. Внутренне ты слаб. Но, естественно, ты говоришь такие вещи только для того, чтобы отвести от себя нападки, которым ты подвергаешься со стороны общества.
Я. Разумеется, я и это имею в виду. Подумай прежде всего вот о чем: если я не отведу нападки, то в конце концов буду раздавлен.
Голос. Какой же ты бесстыжий малый!
Я. Я ничуть не бесстыден. Мое сердце даже от ничтожной мелочи холодеет, словно прикоснулось ко льду.
Голос. Ты считаешь себя человеком, полным сил?
Я. Разумеется, я один из тех, кто полон сил. Но не самый сильный. Будь я самым сильным, вероятно, спокойно превратился бы в истукана, как человек по имени Гете.
Голос. Любовь Гете была чиста.
Я. Это — ложь. Ложь историков литературы. Гете в возрасте тридцати пяти лет внезапно бежал в Италию. Да. Это было не что иное, как бегство. Эту тайну, за исключением самого Гете, знала только мадам Штейн.
Голос. То, что ты говоришь, — самозащита. Нет ничего легче самозащиты.
Я. Самозащита — не легкая вещь. Если б она была легкой, не появилась бы профессия адвоката.
Голос. Лукавый болтун! Больше никто не захочет иметь с тобой дело.
Я. У меня есть деревья и вода, волнующие мое еердце. И есть более трехсот книг, японских и китайских, восточных и западных.
Голос. Но ты навеки потеряешь своих читателей.
Я. У меня появятся читатели в будущем.
Голос. А будущие читатели дадут тебе хлеба?
Я. И нынешние не дают его вдоволь. Мой высший гонорар — десять иен за страницу.
Голос. Но ты, кажется, имел состояние?..
Я. Все мое состояние — участок в Хондзё размером в лоб кошки. Мой месячный доход в лучшие времена не превышал трехсот иен.
622
Голос. Но у тебя есть дом. И хрестоматия новой литературы...
Я. Крыша этого дома меня давит. Доход от продажи хрестоматии я могу отдать тебе: потому что получил четыреста—пятьсот иен.
Голос. Но ты составитель этой хрестоматии. Этого одного ты должен стыдиться.
Я. Чего же мне стыдиться?
Голос. Ты вступил в ряды деятелей просвещения.
Я. Ложь. Это деятели просвещения вступили в наши ряды. Я принялся за их работу.
Голос. Ты все же ученик Нацумэ-сэнсэя!
Я. Конечно, я ученик Нацумэ-сэнсэя. Ты, может быть, знаешь того Сосэки-сэнсэя, который занимался литературой. Но ты, вероятно, не знаешь другого Нацумэ-сэнсэя, гениального, похожего на безумца.
Голос. У тебя нет идей. А если изредка они и бывают, то всегда противоречивы.
Я. Это доказательство того, что я иду вперед. Только идиот до конца уверен, что солнце меньше кадушки.
Голос. Твое высокомерие убьет тебя.
Я. Иногда я думаю так: может быть, я не из тех, кто умирает в своей постели.
Голос. Похоже, что ты не боишься смерти? А?
Я. Я боюсь смерти. Но умирать не трудно. Я уже не раз набрасывал петлю на шею. И после двадцати секунд страданий начинал испытывать даже какое-то приятное чувство. Я всегда готов без колебаний умереть, когда встречаюсь не столько со смертью, сколько с чем-либо неприятным.
Голос. Почему же ты не умираешь? Разве в глазах любого ты не преступник с точки зрения закона?
Я. С этим я согласен. Как Верлен, как Вагнер или как великий Стриндберг.
Голос. Но ты ничего не делаешь во искупление.
Я. Делаю. Нет большего искупления, чем страдание.
Голос. Ты неисправимый негодяй.
Я. Я скорее добродетельный человек. Будь я негодяем, я бы так не страдал. Больше того, пользуясь любовью женщин, я вымогал бы у них деньги.
Голос. Тогда ты, пожалуй, идиот.
Я. Да. Пожалуй, я идиот. «Исповедь глупца» написал идиот, по духу мне близкий.
Голос. Вдобавок ты не знаешь жизни.
623
Я. Если бы знание жизни было самым главным, деловые люди стояли бы выше всех.
Голос. Ты презирал любовь. Однако теперь я вижу, что с начала и до конца ты ставил любовь выше всего.
Я. Нет, я и теперь отнюдь не ставлю любовь выше всего. Я поэт. Художник.
Голос. Но разве ты не бросил отца и мать, жену и детей ради любви?
Я. Лжешь. Я бросил отца и мать, жену и детей только ради самого себя.
Голос. Значит, ты эгоист.
Я. К сожалению, я не эгоист. Но хотел бы стать эгоистом.
Голос. К несчастью, ты заражен современным культом «эго».
Я. В этом-то я и есть современный человек.
Голос. Современного человека не сравнить с древним.
Я. Древние люди тоже в свое время были современными.
Голос. Ты не жалеешь своей жены и своих детей?
Я. Разве найдется кто-нибудь, кто бы их не жалел? Почитай письма Гогена.
Голос. Ты готов оправдывать все, что ты делал.
Я. Если бы я все оправдывал, я не стал бы с тобой разговаривать.
Голос. Значит, ты не будешь себя оправдывать?
Я. Я просто примиряюсь с судьбой.
Голос. А как же с твоей ответственностью?
Я. Одна четверть — наследственность, другая четверть — окружение, третья четверть — случайности, на моей ответственности только одна четверть.
Голос. Какой же ты мелкий человек!
Я. Все такие же мелкие, как я.
Голос. Значит, ты сатанист.
Я. К сожалению, я не сатанист. Особенно к сатанистам зоны безопасности я всегда чувствовал презрение.
Голос (некоторое время безмолвен). Во всяком случае, ты страдаешь. Признай хоть это.
Я. Не переоценивай! Может быть, я горжусь тем, что страдаю. Мало того, «бояться утерять полученное» — такое с сильными не случается.
Голос. Может быть, ты честен. Но, может быть, ты просто шут.
Я. Я тоже думаю — кто я?
Голос. Ты всегда был уверен, что ты реалист.
Я. Настолько я был идеалистом.
624
Голос Ты, пожалуй, погибнешь.
Я. Но то, что меня создало, — создаст второго меня.
Голос. Ну и страдай сколько хочешь. Я с тобой расстаюсь.
Я. Подожди. Сначала скажи мне: ты, непрестанно меня вопрошавший, ты, невидимый для меня, — кто ты?
Голос. Я? Я ангел, который на заре мира боролся с Иаковом.
2
Голос. У тебя замечательное мужество.
Я. Нет, я лишен мужества. Если бы у меня было мужество, я не прыгнул бы сам в пасть ко льву, а ждал бы, пока он меня сожрет.
Голос. Но в том, что ты сделал, есть нечто человеческое.
Я. Нечто человеческое — это в то же время нечто животное.
Голос. Ты не сделал ничего дурного. Ты страдаешь только из-за нынешнего общественного строя.
Я. Даже если бы общественный строй изменился, все равно мои действия непременно сделали бы кого-либо несчастным.
Голос. Но ты не покончил с собой. Как-никак у тебя есть силы.
Я. Я не раз хотел покончить с собой. Например, желая, чтобы моя смерть выглядела естественной, я съедал по десятку мух в день. Проглотить муху, предварительно ее искрошив, — пустяк. Но жевать ее — противно.
Голос. Зато ты станешь великим.
Я. Я не гонюсь за величием. Чего я хочу — это только мира. Почитай письма Вагнера, Он пишет, что, если бы у него было достаточно денег на жизнь с любимой женщиной и двумя-тремя детьми, он был бы вполне доволен, и не создавая великое искусство. Таков даже Вагнер. Даже такой ярый индивидуалист, как Вагнер.
Голос. Во всяком случае, ты страдаешь. Ты — человек, не лишенный совести.
Я. У меня нет совести. У меня есть только нервы.
Голос. Твоя семейная жизнь была несчастлива.
Я. Но моя жена всегда была мне верна.
Голос. В твоей трагедии больше разума, чем у иных людей.
Я. Лжешь. В моей комедии меньше знания жизни, чем у иных людей.
Голос. Но ты честен. Прежде чем что-то открылось, ты во всем признался мужу женщины, которую ты любишь.
625
Я. И это ложь. Я не признавался до тех пор, пока у меня хватало на это сил.
Голос. Ты поэт. Художник. Тебе все позволено.
Я. Я поэт. Художник. Но я и член общества. Не удивительно, что я несу свой крест. И все же он еще слишком легок.
Голос. Ты забываешь свое «я». Цени свою индивидуальность и презирай низкий народ.
Я. Я и без твоих слов ценю свою индивидуальность. Но народа я не презираю. Когда-то я сказал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». Шекспир, Гете, Тикамацу Мондза-эмон когда-нибудь погибнут. Но породившее их лоно — великий народ — не погибнет. Всякое искусство, как бы ни менялась его форма, родится из его недр.
Голос. То, что ты написал, оригинально.
Я. Нет, отнюдь не оригинально. Да и кто оригинален? То, что написали таланты всех времен, имеет свои прототипы всюду. Я тоже нередко крал.
Голос. Однако ты и учишь.
Я. Я учил только невозможному. Будь это возможно, я сам сделал бы это раньше, чем стал учить других.
Голос. Не сомневайся в том, что ты сверхчеловек.
Я. Нет, я не сверхчеловек. Мы все не сверхчеловеки. Сверхчеловек только Заратустра. Но какой смертью погиб Заратустра, этого сам Ницше не знает.
Голос. Даже ты боишься общества?
Я. А кто не боялся общества?
Голос. Посмотри на Уайльда, который провел три года в тюрьме. Уайльд говорил: «Покончить с собой — значит быть побежденным обществом».
Я. Уайльд, находясь в тюрьме, не раз замышлял самоубийство. И не покончил он с собой только потому, что у него не было способа это сделать.
Голос. Растопчи добро и зло.
Я. А я теперь больше всего хочу стать добродетельным.
Голос. Ты слишком прост.
Я. Нет, я слишком сложен. В Голос. Но можешь быть спокоен. У тебя всегда будут читатели.
Я. Только после того, как перестанет действовать авторское право.
Голос. Ты страдаешь из-за любви.
Я. Из-за любви? Поменьше любезностей, годных для литературных юнцов. Я просто споткнулся о любовь.
Голос. О любовь всякий может споткнуться.
626
Я. Это только значит, что всякий легко может соблазниться деньгами.
Голос. Ты распят на кресте жизни.
Я. Этим не приходится гордиться. Убийца своей любовницы и похититель чужих денег тоже распяты на кресте жизни.
Голос. Жизнь не настолько мрачна.
Я. Известно, что жизнь темна для всех, кроме «избранного меньшинства». А «избранное меньшинство» — это другое название для идиотов и негодяев.
Голос. Так страдай сколько хочешь. Ты знаешь меня? Меня, который пришел нарочно, чтобы утешить тебя?
Я. Ты пес. Ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту под видом пса.
3
Голос. Что ты делаешь?
Я. Я только пишу.
Голос. Почему ты пишешь?
Я. Только потому, что не могу не писать.
Голос. Так пиши. Пиши до самой смерти.
Я. Разумеется, — да мне ничего иного и не остается.
Голос. Ты, сверх ожидания, спокоен.
Я. Нет, я ничуть не спокоен. Если б ты был из тех, кто меня знает, то знал бы и мои страдания.
Голос. Куда пропала твоя улыбка?
Я. Вернулась на небеса к богам. Для того, чтобы дарить жизни улыбку, нужен, во-первых, уравновешенный характер, во-вторых — деньги, в-третьих, более крепкие нервы, чем у меня.
Голос. Но у тебя, кажется, стало легко на сердце.
Я. Да, у меня стало легко на сердце. Но зато мне пришлось возложить на голые плечи бремя целой жизни.
Голос. Тебе не остается ничего иного, как на свой лад жить. Или же на свой лад...
Я. Да. Не остается ничего, как на мой лад умереть.
Голос. Ты станешь новым человеком, отличным от того, каким был.
Я. Я всегда остаюсь самим собой. Только кожу меняю. Как змея...
Голос. Ты все знаешь.
Я. Нет, я не все знаю. То, что я сознаю, — это только часть моего духа. Та часть, которую я не сознаю, Африка моего духа, простирается беспредельно. Я ее боюсь. На свету чудовища не живут. Но в бескрайней тьме еще что-то спит.
627
Голос. И ты тоже мое дитя.
Я. Кто ты — ты, который меня поцеловал? Да, я тебя знаю.
Голос. Кто же я, по-твоему?
Я. Ты тот, кто лишил меня мира. Тот, кто разрушил мое эпикурейство. Мое? Нет, не только мое. Тот, из-за кого мы утратили дух середины, то, чему учил нас мудрец Древнего Китая. Твои жертвы — повсюду. И в истории литературы, и в газетных статьях.
Голос. Как же ты меня назовешь?
Я. Я... как тебя назвать, не знаю. Но если воспользоваться словами других, то ты — сила, превосходящая нас. Ты — владеющий нами демон.
Голос. Поздравь себя самого. Я ни к кому не прихожу для разговоров.
Я. Нет, я больше, чем кто-либо другой, буду остерегаться твоего прихода. Там, где ты появляешься, мира нет. Но ты, как лучи рентгена, проникаешь через все.
Голос. Так будь впредь настороже.
Я. Разумеется, впредь я буду настороже. Но вот когда у меня в руке перо...
Голос. Когда у тебя в руке будет перо, ты скажешь: приходи!
Я. Кто скажет — приходи! Я один из мелких писателей. И хочу быть одним из мелких писателей. Иначе мира не обрести. Но когда в руке у меня будет перо, я, может быть, попаду к тебе в плен.
Голос. Так будь всегда внимателен. Может быть, я воплощу в жизнь, одно за другим, все твои слова. Ну, до свидания. Я ведь приду еще когда-нибудь опять.
Голос (один). Акутагава Рюноскэ! Акутагава Рюноскэ! Вцепись крепче корнями в землю! Ты — тростник, колеблемый ветром. Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются. Только стой крепко на ногах. Ради себя самого. Ради твоих детей. Не обольщайся собой. Но и не принижай себя. И ты воспрянешь.
1927 г. (Опубликовано посмертно.)
Я безумно устал. Затекли плечи, ныл затылок, да еще и бессонница разыгралась. А в тех редких случаях, когда мне удавалось заснуть, я часто видел сны. Кто-то когда-то сказал, что, «цветные сны — свидетельство нездоровья». Сны же, которые я видел, может быть, этому способствовала профессия художника, как правило, были цветными. Я вместе с товарищем вошел в стеклянную
628
дверь какого-то кафе на окраине. Сразу за пыльным стеклом — железнодорожный переезд с ивой, пустившей молодые побеги. Мы сели за столик в углу и начали есть что-то из деревянной чашки.
Мы съели уже почти все, но то, что осталось на дне чашки, оказалось змеиной головой величиной с дюйм...
Этот сон тоже был явно цветным.
Мой дом находился в одном из предместий Токио, в нем было очень холодно. Когда мне становилось тоскливо, я поднимался на дамбу позади дома и смотрел на рельсы, по которым ходила электричка. Рельсы, их было много, сверкали на щебне, покрытом мазутом и ржавчиной. А на противоположной дамбе стоял, опустив ветви, кажется, дуб. Это был пейзаж, который с полным правом можно назвать унылым. Но он соответствовал моему настроению больше, чем Гиндза или Асакуса. «Клин клином вышибают», — так думал я иногда, сидя на корточках на дамбе и дымя сигаретой.
Нельзя сказать, что я не имел приятеля. Это был молодой художник, писавший в европейской манере, сын богача. Видя, что я совсем скис, он много раз предлагал мне отправиться путешествовать. «Денежный вопрос пусть тебя не беспокоит», — любезно говорил он. Но я сам знал лучше, чем кто бы то ни было, что, даже путешествуя, все равно от тоски не избавлюсь. В самом деле, года три-четыре назад на меня напала тоска, и я, чтобы хоть на время отвлечься, решил отправиться в далекий Нагасаки. Приехал я в Нагасаки, но ни одна гостиница мне не понравилась. Мало того, даже в спокойной гостинице, которую я кое-как нашел, всю ночь летала тьма ночных бабочек. Я совсем извелся, не прожил там и недели и собрался обратно в Токио...
Однажды днем, когда на земле еще лежала изморозь, я пошел получить денежный перевод и, возвращаясь, почувствовал желание работать. Причина была, несомненно, в том, что, получив деньги, я мог нанять натурщицу. Но было и еще что-то, отчего вспыхнуло желание работать. Я решил тут же, не заходя домой, пойти к М. и нанять натурщицу, чтобы завершить картину. Такое решение всегда приободряло меня, даже когда одолевала тоска. «Только бы закончить эту картину, а там можно и умирать», — подобная мысль у меня действительно была.
Лицо натурщицы, присланной от М., красотой не отличалось, зато тело, а главное грудь — были, несомненно, прекрасны. И волосы, уложенные в пучок, — несомненно, пушисты. Я остался доволен и, посадив натурщицу на плетеный стул, решил сразу же приступить к работе. Обнаженная женщина вместо букета цветов взяла в руки измятую английскую газету, сжала колени и, слегка повернув голову, приняла позу. Но стоило мне подойти к мольберту, как я снова почувствовал усталость. В моей комнате, об-
629
ращенной на север, стояла лишь одна жаровня. Я раздул огонь до того, что обгорели даже края жаровни. Но комната еще не нагрелась достаточно. Женщина сидела на плетеном стуле, и время от времени бедра ее рефлекторно вздрагивали. Работая кистью, я каждый раз испытывал раздражение. Не столько против женщины, сколько против самого себя, — ведь я даже не смог купить настоящую печку. И в то же время испытывал недовольство собственной мелочной раздражительностью.
— Где твой дом?
— Мой дом? Мой дом на Сансаки-мати в Янака.
— Ты живешь одна?
— Нет, мы снимаем жилье вдвоем с подругой.
Продолжая разговаривать, я медленно наносил краску на старый холст с натюрмортом. Женщина продолжала сидеть, отвернувшись, лицо ее ничего не выражало. Не только голос, но и сами слова женщины казались монотонными. Это навело меня даже на мысль, что такова эта женщина от рождения. Я почувствовал облегчение и с тех пор оставлял ее позировать сверх установленного времени. Но в какой-то момент фигура женщины, у которой глаза и те были неподвижными, начинала действовать на меня угнетающе.
Картина моя подвигалась плохо. Закончив работу, намеченную на день, я обычно валился на розовый ковер, массировал шею и голову и рассеянно оглядывал комнату. Кроме мольберта, в ней стоял лишь плетеный, из тростника, стул. Иногда стул, возможно, из-за перемены влажности воздуха, слегка поскрипывал, даже если на нем никто не сидел. В такие минуты мне делалось жутко, и я тут же отправлялся куда-нибудь погулять. Хоть я и говорю, «отправлялся погулять», это означало лишь, что я выходил на деревенскую улицу, параллельную дамбе позади моего дома, где было множество храмов.
И все же ежедневно, не зная отдыха, я обращался к мольберту. Натурщица тоже приходила ежедневно. Через некоторое время тело женщины стало действовать на меня еще более угнетающе, чем прежде. Я просто завидовал ее здоровью. Глядя без всякого выражения в угол комнаты, она неизменно лежала на розовом ковре.
«Эта женщина похожа скорее на животное, чем на человека», — думал я иногда, водя кистью по холсту.
Однажды теплым ветреным днем я, сидя у мольберта, старательно работал кистью. Натурщица была, кажется, мрачнее обычного. Мне вдруг почудилась в теле этой женщины дикая сила. Больше того, почудился какой-то особый запах, исходящий у нее из-под мышек. Он напоминал запах кожи негра.
630
— Ты где родилась?
— В префектуре Гумма, в городе **.
— В городе **? Там ведь у вас много ткацких фабрик.
— Да.
— А ты ткачихой не была?
— Была в детстве.
Во время этого разговора я вдруг заметил, что у женщины набухли груди. Они напоминали теперь два кочана капусты. Я, разумеется, как обычно, продолжал работать кистью. Но меня странно тянуло к грудям женщины, к их отталкивающей прелести.
В ту ночь ветер не прекращался. Я внезапно проснулся и пошел в уборную. Но окончательно пробудился, только когда отодвинул сёдзи. Невольно я остановился и стал осматривать комнату, особенно розовый ковер под ногами. Потом погладил его босой ногой. Неожиданное ощущение, будто трогаешь мех. «Какого, интересно, цвета ковер с изнанки?» Это тоже почему-то меня беспокоило. Но посмотреть я как-то не решался. Воввратившись из уборной, я быстро нырнул в постель.
На следующий день, закончив работу, я почувствовал, что устал больше, чем обычно. И пребывание в комнате меня ничуть не успокаивало. Поэтому я решил пойти на дамбу за домом. Уже темнело. Но, как ни странно, деревья и электрические столбы все еще ясно вырисовывались на фоне неба. Идя по дамбе, я все время испытывал искушение громко крикнуть. Но, естественно, надо было подавить это искушение. Мне почудилось, что я двигаюсь лишь мысленно, и я спустился на одну из деревенских улиц, идущих параллельно дамбе.
На этой улице по-прежнему почти не было прохожих. Только к одному из электрических столбов была привязана корейская корова. Вытянув шею, корова по-женски смотрела на меня затуманившимися глазами. У нее был такой вид, будто она ждала, что я подойду к ней. Я почувствовал, как внутри у меня медленно поднимается протест против этой стоявшей с таким видом корейской коровы. «Когда ее поведут на бойню, у нее будет точно такой же взгляд». Это чувство вселило в меня тревогу. Постепенно мной овладевала тоска, и я, чтобы не пройти мимо коровы, свернул в переулок.
Дня через два или три я стоял у мольберта и работал. Натурщица лежала с застывшим лицом на розовом ковре. Прошло полмесяца, а работа ничуть не подвигалась. Ни я, ни натурщица не открывали друг другу того, что было у нас на сердце. Скорее наоборот, я все острее ощущал страх перед этой женщиной. Даже во время перерывов она ни разу не надела сорочки. К тому же на все мои вопросы отвечала бесконечно печально. Но сегодня,
631
продолжая лежать на ковре, повернувшись ко мне спиной (я заметил, что на правом плече у нее родинка), она вытянула ноги и почему-то заговорила со мной:
— Сэнсэй, у дорожки, которая ведет к вашему дому, горкой насыпаны небольшие камни, правда?
— Угу...
— Это могила последа?
— Могила последа?
— Ну да, камни, чтобы знать, где похоронен послед.
— Почему ты так решила?
— Потому что на некоторых камнях было даже что-то написано. — Женщина через плечо посмотрела на меня, выражение лица у нее было почти насмешливое. — Все рождаются с последом. Верно ведь?
— Гадости какие-то говоришь.
— А если рождаются с последом...
— ?..
— То это все равно что щенок, а?
Чтобы женщина замолчала, я снова стал работать. Замолчала? Но ведь нельзя сказать, что я остался совершенно равнодушным к ее словам. Я все время чувствовал, что мне нужны суровые выразительные средства, чтобы передать нечто, присущее этой женщине. Но передать это нечто у меня не хватало таланта. Больше того, тут было еще и нежелание передать это нечто. Или, может быть, это было стремление избежать такой передачи, используя холст, кисти, — в общем, все, что употребляется в живописи. Если же говорить о том, что использовать — тут, работая кистью, я вспоминал выставленные иногда в музеях каменные палки и каменные мечи.
Когда женщина ушла, я под тусклой лампой раскрыл большой альбом Гогена и стал лист за листом просматривать репродукции картин, написанных им на Таити. Скоро я неожиданно заметил, что все время повторяю про себя фразу: «Это просто немыслимо». Я, разумеется, не знал, почему повторяю эти слова. Но мне стало не по себе, и, приказав служанке приготовить постель, я лег спать, приняв снотворное.
Проснулся я уже около десяти часов. Может быть, из-за жары ночью я сполз на ковер. Но гораздо больше меня встревожил сон, который я видел перед пробуждением. Я стоял в центре комнаты и пытался задушить женщину (причем сам прекрасно понимал, что это сон). Женщина, чуть отвернувшись от меня, как обычно, без всякого выражения закрывала постепенно глаза. И одновременно грудь ее набухала, становясь все прекраснее. Это была сверкающая грудь, с едва заметными прожилками. Я не чувотво-
632
вал угрызений совести от того, что душил женщину. Наоборот, скорее испытывал нечто близкое к удовлетворению, будто занимался обыденным делом. Женщина наконец совсем закрыла глаза и, казалось, тихо умерла... Пробудившись от сна, я сполоснул лицо и выпил две чашки крепкого чая. Но мне стало еще тоскливее. У меня даже и в мыслях не было убивать эту женщину. Но помимо своей воли... Стараясь унять волнение, я курил сигарету за сигаретой и ждал прихода натурщицы. Однако прошел уже час, а женщина все не появлялась, ожидание было для меня мучительным. Я даже подумал, не пойти ли мне погулять. Но и прогулка пугала меня. Выйти за стены своей комнаты — даже такой пустяк был невыносим для моих нервов.
Сумерки сгущались. Я ходил по комнате и ждал натурщицу, которая уже не придет. И тут я вспомнил о случае, происшедшем двенадцать — тринадцать лет назад. Я, в то время еще ребенок, так же, как сейчас, в сумерки жег бенгальские огни. Это происходило, конечно, не в Токио, а на веранде деревенского дома, где я жил с матерью. Вдруг кто-то громко закричал: «Эй, давай, давай!» Мало того, еще и похлопал меня по плечу. Мне пришлось, конечно, сесть на край веранды. Но когда я растерянно огляделся, то вдруг увидел, что сижу на корточках около луковой грядки за домом и старательно поджигаю лук. Да к тому же коробка спичек уже почти пуста... Дымя сигаретой, я не мог не думать о том, что в моей жизни были моменты, о которых я сам абсолютно ничего не знаю. Подобные мысли не столько беспокоили меня, сколько были неприятны. Ночью во сне я задушил женщину. Ну, а если не во сне?..
Натурщица не пришла и на следующий день. И я решил наконец пойти к М. и узнать, что с ней случилось. Но хозяйка М. тоже ничего не знала о женщине. Тогда я забеспокоился и спросил, где она живет. Женщина, судя по ее собственным словам, должна была жить на улице Сансаки в Янака. Но, судя по словам хозяйки М., — на улице Хигасиката в Хонго. Я добрался до дома женщины в Хонго, на Хигасиката, когда уже зажигались фонари. Это была выкрашенная в розовый цвет прачечная, находившаяся в переулке. Внутри прачечной, за стеклянной дверью, двое работников в одних рубахах старательно орудовали утюгами. Я неторопливо стал открывать стеклянную дверь и неожиданно стукнулся об нее головой. Этот звук напугал работников и меня тоже. Я робко вошел в прачечную и спросил у одного из них:
— **-сан дома?
— **-сан с позавчерашнего дня не возвращалась.
633
Эти слова обеспокоили меня. Но я собирался спросить у него еще кое-что. И в то же время должен был проявлять осторожность, чтобы не вызвать их подозрений, если что-то случилось.
— Да что там, она иногда уйдет из дому и целую неделю не возвращается.
Это сказал, продолжая гладить, один из работников с землистым лицом. В его словах я отчетливо почувствовал нечто близкое презрению и, сам начиная злиться, поспешно покинул прачечную. Но мало этого. Когда я шел по улице Хигасиката, где было сравнительно мало магазинов, то вдруг вспомнил, что все это уже видел во сне. И прачечную, выкрашенную в розовый цвет, и работника с землистым лицом, и утюг, сверкающий огнем, — нет, и то, что я шел навещать эту женщину, я тоже совершенно точно видел во сне сколько-то месяцев (а может быть, лет) назад. Больше того, в том сне, покинув прачечную, я так же шел один по той же тихой улице. Потом... потом воспоминания о прежнем сне начисто стерлись. Но если теперь случается что-нибудь, то мне кажется, что это случилось в том самом сне...
1927.
Это было во втором этаже одного книжного магазина. Он, двадцатилетний, стоял на приставной лестнице европейского типа перед книжными полками и рассматривал новые книги. Мопассан, Бодлер, Стрипдберг, Йбсен, Шоу, Толстой...
Тем временем надвинулись сумерки. Но он с увлечением продолжал читать надписи на корешках. Перед ним стояли не столько книги, сколько сам «конец века». Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер...
Борясь с сумраком, он разбирал их имена. Но книги стали понемногу погружаться в угрюмый мрак. Наконец рвение его иссякло, он уже собрался спуститься с лестницы. В эту минуту как раз над его головой внезапно загорелась электрическая лампочка без абажура. Он посмотрел с лестницы вниз на приказчиков и покупателей, которые двигались среди книг. Они были удивительно маленькими. Больше того, они были какими-то жалкими.
— Человеческая жизнь не стоит и одной строки Бодлера... Некоторое время он смотрел с лестницы вниз на них, вот таких...
634
Сумасшедшие были одеты в одинаковые халаты мышиного цвета. Большая комната из-за этого казалась еще мрачнее. Одна сумасшедшая усердно играла на фисгармонии гимны. Другая посередине комнаты танцевала или, скорее, прыгала.
Он стоял рядом с румяным врачом и смотрел на эту картину. Его мать десять лет назад ничуть не отличалась от них. Ничуть... В самом деле, их запах напомнил ему запах матери.
— Что ж, пойдем!
Врач повел его по коридору в одну из комнат. Там в углу стояли большие стеклянные банки с заспиртованным мозгом. На одном он заметил легкий белесый налет. Как будто разбрызгали яичный белок. Разговаривая с врачом, он еще раз вспомнил свою мать.
— Человек, которому принадлежал этот мозг, был инженером N-ской электрической компании. Он считал себя большой, черной блестящей динамо-машиной.
Избегая взгляда врача, он посмотрел в окно. Там не было видно ничего, кроме кирпичной ограды, усыпанной сверху осколками битых бутылок. Но и они бросали смутные белесые отблески на редкий мох.
Он жил за городом в доме с мезонином. Из-за рыхлого грунта мезонин как-то странно покосился.
В этом доме его тетка часто ссорилась с ним. Случалось, что мирить их приходилось его приемным родителям. Но он любил свою тетку больше всех. Когда ему было двенадцать, его тетка, которая так и осталась не замужем, была уже шестидесятилетней старухой.
Много раз в мезонине за городом он размышлял о том, всегда ли те, кто любит друг друга, друг друга мучают. И все время у него было неприятное чувство, будто покосился мезонин.
Над рекой Сумидагава навис угрюмый туман. Из окна бегущего пароходика он смотрел на вишни острова Мукодзима.
Вишни в полном цвету казались ему мрачными, как развешанные на веревке лохмотья. Но в этих вишнях — в вишнях Мукодзима, посаженных еще во времена Эдо, — он некогда открыл самого себя.
635
Я
Сидя с одним старшим товарищем за столиком в кафе, он непрерывно курил. Мало говорил. Но внимательно прислушивался к словам товарища.
— Сегодня я полдня ездил в автомобиле.
— По делам?
Облокотившись о стол, товарищ самым небрежным тоном ответил:
— Нет, просто захотелось покататься!
Эти слова раскрепостили его — открыли доступ в неведомый ему мир, близкий к богам мир «я». Он почувствовал какую-то боль. И в то же время почувствовал радость.
Кафе было очень маленькое. Но из-под картины с изображением Пана свешивались толстые мясистые листья каучукового деревца в красном вазоне.
При непрекращающемся ветре с моря он развернул английский словарь и водил пальцем по словам.
«Talaria — обувь с крыльями, сандалии.
Tale — рассказ.
Talipot — пальма, произрастающая в восточной Индии. Ствол от пятидесяти до ста футов высоты, листья идут на изготовление зонтиков, вееров, шляп. Цветет раз в семьдесят лет...»
Воображение ясно нарисовало ему цветок этой пальмы. В эту минуту он почувствовал в горле незнакомый до того зуд и невольно выплюнул на словарь слюну.
Слюну? Но это была не слюна.
Он подумал о краткости жизни и еще раз представил себе цветок этой пальмы, гордо высящейся далеко за морем...
Он внезапно... это было действительно внезапно... Он стоял перед витриной одного книжного магазина и, рассматривая собрание картин Ван-Гога, внезапно понял, что такое живопись. Разумеется, это были репродукции. Но и в репродукциях он почувствовал свежесть природы.
Увлечение этими картинами заставило его взглянуть на все по-новому. С некоторых пор он стал обращать пристальное, постоянное внимание на изгибы древесных веток и округлость женских щек.
636
Однажды в дождливые осенние сумерки он шел за городом под железнодорожным виадуком. У насыпи за виадуком остановилась ломовая телега. Проходя мимо, он почувствовал, что по этой дороге еще до него кто-то прошел. Кто? Ему незачем было спрашивать себя об этом.
Он, двадцатитрехлетний, внутренним взором видел, как этот мрачный пейзаж окинул пронизывающим взором голландец с обрезанным ухом, с длинной трубкой в зубах...
Он шагал под дождем по асфальту. Дождь был довольно сильный. В заполнившей все кругом водяной пыли он чувствовал запах резинового макинтоша.
И вот в проводах высоко над его головой вспыхнула лиловая искра. Он как-то странно взволновался. В кармане пиджака лежала рукопись, которую он собирался отдать в журнал своих друзей. Идя под дождем, он еще раз оглянулся на провода.
В проводах по-прежнему вспыхивали острые искры. Во всей человеческой жизни не было ничего, чего ему особенно хотелось бы. И только эту лиловую искру... только эту жуткую искру в воздухе ему хотелось схватить хотя бы ценой жизни.
У трупов на большом пальце болталась на проволоке бирка. На бирке значились имя и возраст. Его приятель, нагнувшись, ловко орудовал скальпелем, вскрывая кожу на лице одного из трупов. Под кожей лежал красивый желтый жир.
Он смотрел на этот труп. Это ему нужно было для новеллы — той новеллы, где действие развертывалось на фоне древних времен. Трупное зловоние, похожее на запах гнилого абрикоса, было неприятно. Его друг, нахмурившись, медленно двигал скальпелем.
— В последнее время трупов не хватает, — сказал приятель.
Тогда как-то сам собой у него сложился ответ: «Если бы мне не хватало трупов, я без всякого злого умысла совершил бы убийство». Но, конечно, этот ответ остался невысказанным.
Под большим дубом он читал книгу учителя. На дубе в сиянии осеннего дня не шевелился ни один листок.
Где-то далеко в небе в полном равновесии покоятся весы со стеклянными чашками — при чтении книги учителя ему чудилась такая картина...
637
Понемногу светало. Он окинул взглядом большой рынок на углу улицы. Толпившиеся на рынке люди и повозки окрасились в розовый цвет.
Он закурил и медленно направился к центру рынка. Вдруг на него залаяла маленькая черная собака. Но он не испугался. Больше того, даже эта собачка была ему приятна.
В самом центре рынка широко раскинул свои ветви платан. Он стал у ствола и сквозь ветви посмотрел вверх, на высокое небо. В небе, как раз над его головой, сверкала звезда.
Это случилось, когда ему было двадцать пять лет, — на третий месяц после встречи с учителем.
В подводной лодке было полутемно. Скорчившись среди заполнявших все кругом механизмов, он смотрел в маленький окуляр перископа. В окуляре отражался залитый светом порт.
— Отсюда, вероятно, виден «Конго»? — обратился к нему один флотский офицер.
Глядя на крошечные военные суда в четырехугольной линзе, он почему-то вдруг вспомнил сельдерей. Слабо пахнущий сельдерей на порции бифштекса в тридцать сэнов.
Он прохаживался по перрону одной новой станции. После дождя поднялся ветер. Было еще полутемно. За перроном несколько железнодорожных рабочих дружно подымали и опускали кирки и что-то громко пели.
Ветер, поднявшийся после дождя, унес песню рабочих и его настроение. Он не зажигал папиросы и испытывал не то страдание, не то радость. В кармане его пальто лежала телеграмма: «Учитель при смерти...»
Из-за горы Мацуяма, выпуская тонкий дымок, извиваясь/ приближался утренний шестичасовой поезд на Токио.
На другой день после свадьбы он выговаривал жене: «Не следовало делать бесполезных расходов!» Но выговор исходил не столько от него, сколько от тетки, которая велела: «Скажи ей».
638
Жена извинилась не только перед ним — это само собой, — но и перед теткой. Возле купленного для него вазона с бледно-желтыми нарциссами...
Они жили мирной жизнью. В тени раскидистых листьев большого банана... Ведь их дом был в прибрежном городке, в целом часе езды от Токио.
Он читал Анатоля Франса, положив под голову благоухающий ароматом роз скептицизм. Он не заметил, как в этой подушке завелся кентавр.
В воздухе, напоенном запахом водорослей, радужно переливалась бабочка. Один лишь миг ощущал он прикосновение ее крыльев к пересохшим губам. Но пыльца крыльев, осевшая на его губах, радужно переливалась еще много лет спустя.
На лестнице отеля он случайно встретился с ней. Даже тогда, днем, ее лицо казалось освещенным луной. Провожая ее взглядом (они ни разу раньше не встречались), он почувствовал незнакомую ему доселе тоску...
От Анатоля Франса он перешел к философам XVIII века. Но за Руссо он не принимался. Может быть, оттого, что сам он одной стороной своего существа — легко воспламеняющейся стороной — был близок к Руссо. Он взялся за автора «Кандида», к которому был близок другой стороной — стороной, полной холодного разума.
Для него, двадцатидевятилетнего, жизнь уже нисколько не была светла. Но Вольтер наделил его, вот такого, искусственными крыльями.
Он раоправил эти искусственные крылья и легко-легко взвился ввысь. Тогда залитые светом разума радости и горести человеческой жизни ушли из-под его взора.
Роняя на жалкие улицы иронию и насмешку, он поднимался по ничем не загражденному пространству прямо к солнцу. Словно
639
забыв о древнем греке, который упал и погиб в море оттого, что сияние солнца растопило его точь-в-точь такие же искусственные крылья...
Он и жена поселились в одном доме с его приемными родителями. Это произошло потому, что он решил поступить на службу в редакцию одной газеты. Он полагался на договор, написанный на листке желтой бумаги. Но впоследствии оказалось, что этот договор, ничем не обязывая издательство, налагает обязательство на него одного.
Двое рикш в пасмурный день бежали по безлюдной проселочной дороге. Дорога вела к морю, это было ясно хотя бы по тому, что навстречу дул морской ветер. Он сидел во второй коляске. Подозревая, что в этом «рандеву» не будет ничего интересного» он думал о том, что же привело его сюда. Несомненно, не любовь... Если это не любовь, то... Чтобы избегнуть ответа, он стал думать: «Как бы то ни было, мы равны».
В первой ноляске ехала дочь сумасшедшего. Мало того: ее младшая сестра из ревности покончила с собой.
— Теперь ничего не поделаешь...
Он уже питал к этой дочери сумасшедшего — к ней, в которой жили только животные инстинкты, — какую-то злобу.
В это время рикши пробегали мимо прибрежного кладбища. За изгородью, усеянной устричными раковинами, чернели надгробные памятники. Он смотрел на море, которое тускло поблескивало за этими памятниками, и вдруг почувствовал презрение к ее мужу, — мужу, не завладевшему ее сердцем.
Это была журнальная иллюстрация. Но рисунок тушью, изоб-ражавший петуха, носил печать удивительного своеобразия. Он стал расспрашивать о художнике одного из своих приятелей.
Неделю спустя художник зашел к нему. Это было замечательным событием в его жизни. Он открыл в художнике никому не ведомую поэзию. Больше того, он открыл в самом себе душу, о которой не знал сам.
Однажды в прохладные осенние сумерки он, взгляпув на стебель маиса, вдруг вспомнил этого художника. Высокий стебель маиса подымался, ощетинившись жесткими листьями, а вспучен-
640

«Жизнь идиота»
ная земля обнажала его тонкие корни, похожие на нервы. Разумеется, это был его портрет, его, так легко ранимого. Но подобное открытие его лишь омрачило.
— Поздно. Но в последнюю минуту...
Начинало смеркаться. Несколько взволнованный, он шел по площади. Большие здания сияли освещенными окнами на фоне слегка посеребренного неба.
Он остановился на краю тротуара и стал ждать ее. Через пять минут она подошла. Она показалась ему осунувшейся. Взглянув на него, она сказала: «Устала!» — и улыбнулась. Плечо к плечу, они пошли по полутемной площади. Так было в первый раз. Чтобы побыть с ней, он рад был бросить все.
Когда они сели в автомобиль, она пристально посмотрела на него и спросила: «Вы не раскаиваетесь?» Он искренне ответил: «Нет». Она сжала его руку и сказала: «Я не раскаиваюсь, но...» Ее лицо и тогда казалось озаренным луной.
Стоя у фусума, он смотрел, как акушерка в белом халате моет новорожденного. Каждый раз, когда мыло попадало в глаза, младенец жалобно морщил лицо и громко кричал. Чувствуя запах младенца, похожий на мышиный, он не мог удержаться от горькой мысли: «Зачем он родился? На этот свет, полный житейских страданий? Зачем судьба дала ему в отцы такого человека, как я?»
А это был первый мальчик, которого родила его жена.
Стоя в дверях, он смотрел, как в лунном свете среди цветущих гранатов какие-то неопрятного вида китайцы играют в «ма-цэян». Потом он вернулся в комнату и у низкой лампы стал читать «Исповедь глупца». Но не прочел и двух страниц, как на губах его появилась горькая улыбка. И Стриндберг в письме к графине — своей любовнице — писал ложь, мало чем отличающуюся от его собственной лжи.
Облупленные будды, небожители, кони и лотосы почти совсем подавили его. Глядя на них, он забыл все. Даже свою собственную счастливую судьбу, которая вырвала его из рук дочери сумасшедшего...
21 Аиутагава Рюноскэ
641
Он шел с товарищем по переулку. Навстречу им приближался рикша. А в коляске с поднятым верхом неожиданно оказалась она, вчерашняя. Ее лицо даже сейчас, днем, казалось озаренным луной. В присутствии товарища они, разумеется, даже не поздоровались.
— Хороша, а? — сказал товарищ.
Глядя на весенние горы, в которые упиралась улица, он без запинки ответил:
— Да, очень хороша.
Проселочная дорога, полого подымавшаяся в гору, нагретая солнцем, воняла коровьим навозом. Он шел по ней, утирая пот. По сторонам подымался душистый запах зрелого ячменя.
— Убей, убей...
Как-то незаметно он стал повторять про себя это слово. Кого? Это было ему ясно. Он вспомнил этого гнусного, коротко стриженного человека.
За пожелтевшим ячменем показался купол католического храма...
Это был железный кувшинчик. Этот кувшинчик с мелкой па-сечкой открыл ему красоту «формы».
Лежа в постели, он болтал с ней о том о сем. За окном спаль-ии шел дождь. Цветы от этого дождя, видимо, стали гнить. Ее лицо по-прежнему казалось озаренным луной. Но разговаривать с ней ему было скучновато. Лежа ничком, он не спеша закурил и подумал, что встречается с ней уже целых семь лет.
«Люблю ли я ее?» — спросил он себя. И его ответ даже для него, внимательно наблюдавшего за самим собой, оказался неожиданным:
«Все еще люблю».
Чем-то это напоминало запах перезрелого абрикоса. Проходя по пожарищу, он ощущал этот слабый запах и думал, что запах трупов, разложившихся на жаре, не так уж плох. Но когда он остано-
642
вился перед прудом, заваленным грудой тел, то понял, что слово «ужас» в эмоциональном смысле отнюдь не преувеличение. Что особенно потрясло его — это трупы двенадцати-тринадцатилетиих детей. Он смотрел на эти трупы и чувствовал нечто похожее на зависть. Он вспомнил слова: «Те, кого любят боги, рано умирают». У его старшей сестры и у сводного брата — у обоих сгорели дома. Но мужу его старшей сестры отсрочили исполнение приговора по обвинению в лжесвидетельстве.
— Хоть бы все умерли!
Стоя на пожарище, он не мог удержаться от этой горькой мысли.
Он подрался со своим сводным братом. Несомненно, что его брат из-за него то и дело подвергался притеснениям. Зато он сам, несомненно, терял свободу из-за брата. Родственники постоянно твердили брату: «Бери пример с него». Но для него самого это было все равно, как если бы его связали по рукам и ногам. В драке они покатились на самый край галереи. В саду за галереей — он помнил до сих пор — под дождливым небом пышно цвел красными пылающими цветами куст индийской сирени.
В тридцать лет он обнаружил, что как-то незаметно для себя полюбил один пустырь. Там только и было что множество кирпичных и черепичных обломков, валявшихся во мху. Но в его глазах этот пустырь ничем не отличался от пейзажа Сезанна.
Он вдруг вспомнил свое прежнее увлечение — семь-восемь лет назад. И в то же время понял, что семь-восемь лет назад он не знал, что такое колорит.
Он хотел жить так неистово, чтоб можно было в любую минуту умереть без сожаления. И все же продолжал вести скромную жизнь со своими приемными родителями и теткой. Поэтому в его жизни были две стороны, светлая и темная. Как-то раз в магазине европейского платья он увидел манекен и задумался о том, насколько он сам похож на такой манекен. Но его подсознательное «я» — его второе «я» — давно уже воплотило это настроение в одном из его рассказов.
21*
643
Он шел с одним студентом по полю, поросшему мискантом.
— У вас у всех, вероятно, еще сильна жажда жизни, а?
— Да... Но ведь и у вас...
— У меня ее нет! У меня есть только жажда творчества, но... Он искренне чувствовал так. Он действительно как-то незаметно потерял интерес к жизни.
— Жажда творчества — это тоже жажда жизни.
Он ничего не ответил. За полем над красноватыми колосьями отчетливо вырисовывался вулкан. Он почувствовал к этому вулкану что-то похожее на зависть. Но отчего, он и сам не знал.
Однажды он встретился с женщиной, которая не уступала ему и в таланте. Но он паписал «Человек из Хокурику» и другие лирические стихотворения и сумел избежать грозящей ему опасности. Однако это вызвало горечь, будто он стряхиул примерзший к стволу дерева сверкающий снег.
По ветру катится сугэгаса И упадет на пыльную дорогу... К чему жалеть об имени моем? Оплакивать — твое лишь имя...
Это было на балконе отеля, стоявшего среди зазеленевших деревьев. Он забавлял мальчика, рисуя ему картинки. Сына дочери сумасшедшего, с которой разошелся семь лет назад.
Дочь сумасшедшего курила и смотрела на их игру. С тяжелым сердцем он рисовал поезда и аэропланы. Мальчик, к счастью, не был его сыном. Но мальчик называл его «дядей», что для него было мучительней всего.
Когда мальчик куда-то убежал, дочь сумасшедшего, затягиваясь сигаретой, кокетливо сказала:
— Разве этот ребенок не похож на вас?
— Ничуть не похож. Во-первых...
— Это, кажется, называется «воздействие в утробный период»?
Он молча отвел глаза. Но в глубине души у него невольно поднялось жестокое желание задушить ее.
644
Сидя в углу кафе, он разговаривал с приятелем. Приятель ел печеное яблоко и говорил о погоде, о холодах, наступивших в последние дни. Он сразу уловил в его словах нечто противоречивое.
— Ты ведь еще холост?
— Нет, в будущем месяце женюсь.
Он невольно замолчал. Зеркала в стенах отражали его бесчисленное множество раз. Будто чем-то холодно угрожая...
— Отчего ты нападаешь на современный общественный строй?
— Оттого, что я вижу зло, порожденное капитализмом.
— Зло? Я думал, ты не признаешь различия между добром и злом. Ну, а твой образ жизни?
...Так он беседовал с ангелом. Правда, с ангелом, на котором был безупречный цилиндр...
На него напала бессонница. Вдобавок начался упадок сил. Каждый врач ставил свой диагноз. Кислотный катар, атония кишок, сухой плеврит, неврастения, хроническое воспаление суставов, переутомление мозга...
Но он сам знал источник своей болезни. Это был стыд за себя и вместе с тем страх перед ними. Перед ними — перед обществом, которое он презирал!
Однажды в пасмурный, мрачный осенний день, сидя в углу кафе с сигарой в зубах, он слушал музыку, льющуюся из граммофона. Эта музыка как-то странно проникала ему в душу. Он подождал, пока она кончится, подошел к граммофону и взглянул на этикетку пластинки.
«Magic flute» — Mozart1.
Он мгновенно понял. Моцарт, нарушивший заповедь, несомненно тоже страдал. Но вряд ли так, как он... Понурив голову, он медленно вернулся к своему столику.
1 «Волшебная флейта» — Моцарт (англ.),
645
Он, тридцатипятилетпий, гулял по залитому весенним солнцем сосновому бору. Вспоминая слова, написанные им два-три года назад: «Боги, к несчастью, не могут, как мы, совершить самоубийство».
Снова надвинулась ночь. В сумеречном свете над бурным морем непрерывно взлетали клочья пены. Под таким небом он вторично обручился со своей женой. Это было для них радостью. Но в то же время и мукой. Трое детей вместе с ними смотрели на молнии над морем. Его жена держала на руках одного ребенка и, казалось, сдерживала слезы.
— Там, кажется, видна лодка?
— Да.
— Лодка со сломанной мачтой.
Воспользовавшись тем, что спал один, он хотел повеситься на своем поясе на оконной решетке. Однако, сунув шею в петлю, вдруг испугался смерти; но не потому, что боялся предсмертных страданий. Он решил проделать это еще раз и, в виде опыта, проверить по часам, когда наступит смерть. И вот, после легкого страдания, он стал погружаться в забытье. Если бы только перешагнуть через него, он, несомненно, вошел бы в смерть. Он посмотрел на стрелку часов и увидел, что его страдания длились одну минуту и двадцать с чем-то секунд. За окном было совершенно темно. Но в этой тьме раздался крик петуха.
«Divan» еще раз влил ему в душу новые силы. Это был неизвестный ему «восточный Гете». Он видел Гете, спокойно стоящего по ту сторону добра и зла, и чувствовал зависть, близкую к отчаянию. Поэт Гете в его глазах был выше Христа. В душе у этого поэта были не только Акрополь и Голгофа, в ней расцвели и розы Аравии. Если бы у него хватило сил идти вслед за ним... Он дочитал «Divan» и, успокоившись от ужасного волнения, не мог не презирать горько самого себя, рожденного евнухом жизни.
646
Самоубийство мужа его сестры нанесло ему внезапный удар. Теперь ему предстояло заботиться о семье сестры. Его будущее, по крайней мере для него самого, было сумрачно, как вечер. Чувствуя что-то близкое к холодной усмешке над своим духовным банкротством (его пороки и слабости были ясны ему все без остатка), он по-прежнему читал разные книги. Но даже «Исповедь» Руссо была переполнена героической ложью. В особенности в «Новой жизни» — он никогда еще не встречал такого хитрого лицемера, как герой «Новой жизни». Один только Франсуа Вийон проник ему в душу. Среди его стихотворений он открыл одно, носившее название «Прекрасный бык».
Образ Вийона, ждущего виселицы, стал появляться в его снах. Сколько раз он, подобно Вийону, хотел опуститься на самое дно! Но условия его жизни и недостаток физической энергии не позволяли ему сделать это. Он постепенно слабел. Как дерево, сохнущее с вершины, которое когда-то видел Свифт...
У нее было сверкающее лицо. Как если бы луч утреннего солнца упал на тонкий лед. Он был к ней привязан, но не чувствовал любви. Больше того, он и пальцем не прикасался к ее телу.
— Вы мечтаете о смерти?
— Да... нет, я не так мечтаю о смерти, как мне надоело жить.
После этого разговора они сговорились вместе умереть.
— Platonic suicide1, не правда ли?
— Double platonic suicide2.
Он не мог не удивляться собственному спокойствию.
Он не умер с нею. Он лишь испытывал какое-то удовлетворение от того, что до сих пор и пальцем не прикоснулся к ее телу. Она иногда разговаривала с ним так, словно ничего особенного но произошло. Больше того, она дала ему флакон синильной кислоты, который у нее хранился, и сказала: «Раз у вас есть это, мы будем сильны».
1 Платоническое самоубийство (англ.).
2 Двойное платоническое самоубийство (англ.).
647
И действительно, это влило силы в его душу. Он сидел в плетеном кресле и, глядя на молодую листву дуба, не мог не думать о душевном покое, который ему принесет смерть.
Последние его силы иссякли, и он решил попробовать написать автобиографию. Но неожиданно для него самого это оказалось нелегко. Нелегко потому, что у него до сих пор сохранились самоуважение, скептицизм и расчетливость. Он не мог не презирать себя вот такого. Но, с другой стороны, он не мог удержаться от мысли: «Если спять с людей кожу, у каждого под кожей окажется то же самое». Он готов был думать, что заглавие «Поэзия и правда», — это заглавие всех автобиографий. Мало того, ему было совершенно ясно, что художественные произведения трогают не всякого. Его произведение могло найти отклик только у тех, кто ему близок, у тех, кто прожил жизнь, почти такую же, как он.
Вот как он был настроен. И поэтому он решил попробовать коротко написать свою «Поэзию и правду».
Когда он написал «Жизнь идиота», он в лавке старьевщика случайно увидел чучело лебедя. Лебедь стоял с поднятой головой, а его пожелтевшие крылья были изъедены молью. Он вспомнил всю свою жизнь и почувствовал, как к горлу подступают слезы и холодный смех. Впереди его ждало безумие или самоубийство. Идя в полном одиночестве по сумеречной улице, он решил терпеливо ждать судьбу, которая придет его погубить.
Один из его приятелей сошел с ума. Он всегда питал привязанность к этому приятелю. Это потому, что всем своим существом, больше, чем кто-либо другой, понимал его одиночество, скрытое под маской веселья. Своего сумасшедшего приятеля он раза два-три навестил.
— Мы с тобой захвачены злым демоном. Злым демоном «коп-ца века»! — говорил ему тот, понижая голос. А через два-три дня на прогулке жевал лепестки роз.
Когда приятели поместили его в больницу, он вспомнил терракотовый бюст, который когда-то ему подарили. Это был бюст любимого писателя его друга, автора «Ревизора». Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и неотвратимо почувствовал какую-то силу, которая поработила их обоих.
Совершенно обессилев, он прочел предсмертные слова Радига и еще раз услышал смех богов. Это были слова: «Воины бога при-
648
шли за мной». Он пытался бороться со своим суеверием и сентиментализмом. Но всякая борьба была для него физически невозможна. Злой демон «конца века» действительно им овладел. Он почувствовал зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить в любовь бога он был не в состоянии. В бога, в которого верил даже Кокто!
У него дрожала даже рука, державшая перо. Мало того, у него стала течь слюна. Голова у него бывала ясной только после пробуждения от сна, который приходил к нему после большой дозы веронала. И то ясной она бывала каких-нибудь полчаса. Он проводил жизнь в вечных сумерках. Словно опираясь на тонкий меч со сломанным лезвием.
Июнь 1927 г. (Опубликовано посмертно.)
В основу настоящего тома положено издание: Акутагава Рюноскэ. Избранное в 2-х томах, М., «Художественная литература», 1971. Новеллы «Куклы-хина» и «Снежок» даются в русском переводе впервые, по изданию: Акутагава Рюноскэ дзэнсю, 1, 2 маки, Токио, 1958.
ВОРОТА РАСЁМОН
Сюжет новеллы заимствован из сборника «Кондзяку моногатари» («Стародавние повести»), свиток XXVIII, повесть 18. Ворота Расёмон находились на южной оконечности улицы Судзаку, центральной улицы старинного Киото.
Стр. 27. Итимэгаса — старинная женская плетеная шляпа с цилиндрической, слегка сужающейся кверху тульей, с широкими, заметно опущенными полями.
Момиэбоси — старинный мужской головной убор, имевший вид высокой мягкой шапки без полей с загнутым вперед верхом. Эти детали одежды предназначены для указания эпохи, к которой относится рассказ.
Статуи будд. — Будда (то есть «Просветленный») — человек, достигший, согласно представлениям буддизма, нирваны, то есть состояния полной духовной отрешенности от реальной жизни и слияния с божественной сущностью бытия.
Стр. 28. ...этого хэйанского слуги. — Хэйан —старинное название Киото периода японской истории (конец VIII — конец XII вв.), у власти тогда находился император и родовая аристократия. Время рассказа относится, очевидно, ко 2-ой половине XI в., когда разорялись многие энатные семьи, столичная власть пошатнулась и сама столица приходила в запустенье.
...часа Обезьяны... — По старинному японскому счислению времени сутки были разделены на двенадцать частей, по два часа каждый. Эти отрезки времени носили названия зодиакальных животных: час Тигра — с 3 до 5 часов утра, час Зайца — с 5 до 7 часов утра, час Дракона — с 7 до 9 часов утра,
653
час Змеи — с 9 до 11 часов утра, час Обезьяны — с 3 до 5 часов дня, час Пса — с 7 до 9 часов вечера.
Кимоно — дословно: «одежда», общераспространенное название обычного типа как старинной, так и современной японской одежды, мужской и женской; имеет вид халата с очень широкими свешивающимися рукавами, запахивающегося спереди и придерживаемого широким поясом.
Стр. 29. Дзори — распространенный тип обуви. Имеет вид деревянной подошвы, покрытой сверху плетеной соломой или узорчатой материей на мягкой подкладке, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец, -щ
...цвета коры дерева хиноки — то есть светло-шоколадного. Хиноки — кипарисовик туполистый.
Стр. 31. Сун — мера длины, равная 3,3 см.
МАСКА ХЁТТОКО
Хетгоко — комическая маска мужского лица с криво посаженными глазами и скошенным ртом.
Стр. 32. Праздник цветущей вишни — праздник любования цветами вишни, широко популярный в Японии.
Кэн — игра, состоящая в том, что двое, сидя друг перед другом, поочередно делают разные движения пальцами, имеющие условное значение.
Сямисэн — щипковый трехструнный музыкальный инструмент.
Стр. 34. Кабуки — старинный японский театр, все роли в котором до нынешнего времени играют мужчины. Сложился в XVII в. Актеры Кабуки, по традиции, слегка подражали в своих движениях куклам японского театра Двёрури, который одно время был более популярен, чем Кабуки.
Стр. 36. Секта Монто — просторечное название крупной буддийской секты Синею.
...бросил в реку изображение Тайсяку, положил под котел изображение Ситимэн... — Тайсяку, сокращенное от Тайсякутэн, Ситимэн, сокращенное от Ситимэн-даймёдзин, — боги — покровители буддизма.
НОС
Сюжет заимствован из «Кондзяку моиогатари», XXVIII, 20.
Стр. 38. ...удостоенный высокого сана найдодзёгубу... — Сан монаха-служителя дворцовой часовни.
Будда Амида (санскр. Амитабха) — один из наиболее почитаемых в Японии будд, властитель «чистой страны», рая, где верящие в Амида и повторяющие его имя избавятся от страданий (см. новеллу «Кончина праведника»).
654
Сяку — мера длины, равная 33 см.
Стр. 39. Сутра «Каннон-кё». — Сутры — буддийское Священное писание. Каннон-кё — название двадцать пятого раздела восьмого свитка сутры «Садхармапундарика», объясняющееся тем, что он посвящен бодисатве Каннон. Кё — сутра.
Мандгалаяна и Шарипутра — входили в число шестнадцати учеников Будды (Гаутамы).
Нагарджуна — один из основателей главного направления буддизма — Махаяны, получившего распространение в Индии, Китае, Корее и Японии.
Асвагхоша — буддийский проповедник, живший через шесть веков после Будды (Гаутамы), автор «Жизни Будды».
...у шуханъского князя Лю Сюанъ-дэ... — Шухань — одна из трех частей Ханьского царства в период так называемого «Троецарствия». Лю Сюань-дэ (160—213) — сын императора, герой битв тех времен.
Стр. 41. Бу — мера длины, равная 3,03 мм.
«Сутра священного лотоса» (санскр. «Садхармапундарика сутра») — одна из главных сутр. По-японски называется «Мёхорэнгэкё» — «Сутра священного лотоса».
Стр. 42. ...изображение Вишвабхадры... — Вишвабхадра — один из двух бодисатв, сопровождавших Будду (Гаутаму). Обычно изображается восседающим на белом слоне.
Стр. 43. Гинко — цветущее дерево.
БАТАТОВАЯ КАША
Сюжет заимствован из «Кондзяку моногатари», XXVI, 17.
Стр. 43. ...в конце годов Гэнкэй, а может быть, в начале правления Нинна. — С начала исторического периода в Японии установилось летосчисление по правлению императора. Годам каждого правления присваивалось название. Годы Гэнкэй — 877—884 гг., годы Нинна — 884—888 гг.
Стр. 44. Фудзивара Мотоцунэ (836—891)—крупный государственный деятель.
Гои — низший придворный ранг.
Суйкан — короткое, как куртка, кимоно.
Эбоси — высокая мягкая шапка; принадлежность костюма знати.
Стр. 45. Сакэ — рисовая водка, национальный алкогольный напиток.
Стр. 46. Сасинуки — род хакама, составлявший часть старинного костюма.
Хакама — широкие штаны, по силуэту приближающиеся к юбке. Часть официального мужского костюма.
Стр. 48. Мальга из Удзи — небольшая рыбка, водящаяся только в озере Б ива.
Черное сакэ — сакэ, в которое подбавлен порошок из верен черного
655
кунжута и пепел кустарника. Полагалось употреблять черную водку только по особым праздникам.
Стр. 49. Мупабаки — короткие, до половины икр, кожаные или меховые штаны для верховой езды.
Каригину — короткое, как куртка, кимоно особого покроя, принадлежность старинного костюма.
Стр. 52. Мискант — растение, напоминающее осоку.
Ну, лиса, слушай меня хорошенько! — Лиса — один из распространенных животных образов японского фольклора; считается, что лиса обладает волшебной силой, может быть оборотнем, наводить злые чары и т. п.
Стр. 54. Вариео — ящичек с внутренними делениями для разных закусок.
ОБЕЗЬЯНА
Стр. 58. аХатёкуь — молоденькая, еще не доучившаяся гейша.
НОСОВОЙ ПЛАТОК
Стр. 63. Стриндберг (1849—1912) — шведский писатель и Уайльд (1856—1900) — английский писатель — были в Японии во втором десятилетии XX в. самыми «модными» из иностранных писателей. «Изысканность» вкусов профессора сказывается в том, что он читает не художественные произведения этих авторов — романы, повести или драмы, а критические статьи Стриндберга «Драматургия» (1907—1910), эссе «Замыслы» и лирическую исповедь Уайльда «De profundis».
Фонарь-гифу — особый тип японского фонаря яйцеобразной формы; называется по имени местности, где первоначально такие фонари только и изготовлялись.
Стр. 64. Бусидо — система морали и норм поведения японского воинского сословия в эпоху феодализма. Требовала огромной самодисциплины.
Тэйкоку (буквально: «Императорский») — крупный драматический театр в Токио.
«Тайкоки» — тринадцатиактная пьеса Тикамацу Япаги и др. (конец XVIII—начало XIX вв.). Наиболее популярным был ее десятый акт.
Стр. 65. Хаори — тип длинного жакета японского покроя; принадлежность нарядного и выходного японского костюма.
Стр. 66. чМарумагэь — прическа, которую носят только замужние женщины.
Нисияма-кун. — Кун — приставка после мужского имени, носящая фамильярный характер.
...чашку черного чая. — В Японии обычно пьют зеленый чай, черный чай — принадлежность европейского стола.
656
Стр. 68. Таби — японские носки, шьются из плотной, обычно белой материи, большой палец отделен, чтобы его можно было продеть в ремешок обуви.
Стр. 69. Госпожа Хайберг — жена датского поэта Иоганна Людвига Хайберга.
ТАБАК И ДЬЯВОЛ
Христианство проникло в Японию во второй половине XVI века, но в 1587 году уже было запрещено, и христиане стали жестоко преследоваться. Поскольку проводниками христианства были преимущественно португальские (реже испанские) миссионеры, в язык японских христиан вошли европейские имена, названия и ряд слов христианского культа из португальского языка, измененные согласно законам японского произношения, например: padre — патэрэн — патер, cruz — курусу — крест, deus — дэусу — бог и т. п.
Стр. 70. Годы Кэйтё — 1596—1615 гг.
Годы Тэммон — 1532—1555 гг.
Времена Бунроку — 1592—1596 гг.
Святой Франциск — Франциск Ксавье (1506—1552) — иезуит, первый проповедник христианства в Японии, куда прибыл в 1549 г. Причислен католической церковью к лику святых.
...с богом Южных Варваров... — Южными Варварами до революции 1867 г. называли европейцев.
...как писал о том Анатоль Франс... — См. рассказ Франса «Резеда господина кюре».
Стр. 71. Черный корабль. — Так до революции 1867 г. называли корабли европейцев.
Парайсо — (португ. paraiso) — рай.
Стр. 72. ...сестра дурака Ивана... — См. сказку Л. Н. Толстого «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях...».
Стр. 73. ...вид у красноволосого... — Красноволосыми до XX в. называли европейцев.
Стр. 74. Дзэсусу Кирисито (искаж. португ. Jesu Cristo) — Иисус Христос.
Стр. 75. Виру дзэн Мария (искаж. португ. Virgem Maria) — Дева Мария.
Стр. 76. Храм Намбандзи — католический храм, построенный в 1568 г. Буквальный перевод названия: «Храм Южных Варваров».
Касин Кодзи (? — 1617) — прославлен в Японии как знаток чайной церемонии.
Мацунага Дандзё, чаще именуемый Мацунага Хисахидэ (1510—1577)— крупный японский феодал и военачальник.
657
...к трудам достопочтенного Лефкадио Хёрна. — Лефкадио Хёрн (1850—1904) с 1890 г. жил в Японии, написал ряд книг о Японии, и очерковых и беллетристических: «К ok ого» (л а т.) («Душа»), «Japanese fairy tales» («Японские сказки») и ряд других.
...Тоётоми и Токугава запретили заморскую веру... — Христианство было запрещено в правление Тоётоми Хидэёси (1536—1598). При Токугава Иэясу (1542—1616), основателе третьей династии правителей Японии, запрет был сохранен.
После Мэйдзи — то есть после революции 1867 г.
MENSURA ZOILI
Стр. 76. Киносита Мокутаро (1885—1945) — японский драматург и поэт, также врач.
Стр. 79. Кумэ — Кумэ Macao (1891—1952) — японский писатель, личный друг Акутагава. Описание внешности незнакомца — портрет Кумэ.
Стр. 80. Сент Джон Эрвин (1833—?) — ирландский драматург и новеллист.
СЧАСТЬЕ
В новелле использован сюжет из «Кондзяку моногатари», XVI, 33.
Стр. 81. Каннон-сама. — Каннон — буддийское божество (санскр. Авалокитешвара), в Китае и Японии — богиня милосердия; сама — вежливая приставка к именам женским и мужским, а также персонифицирующая.
Епископ Тоба — собственное имя Какую (1053—1140) — монах буддийской секты Тэндай, чьи жанровые картины особенно прославились в XVII— XVIII вв., получив название тобаэ.
...с богами и буддами. — Под «богами» подразумеваются боги синтоистского пантеона (синто — национальная религия Японии), под «буддами» — божества буддийского пантеона, то есть существа совершенные, достигшие нирваны.
Стр. 84. ...обменялись чарками... — Имеется в виду один из моментов свадебного обряда.
ПОКАЗАНИЯ ОГАТА РЁСАЙ
Стр. 89. ...трижды, наступила на него ногой. — Попирание ногами креста было официальной формой отречения от христианства.
658
ОИСИ КУРАНОСКЭ В ОДИН ИЗ СВОИХ ДНЕЙ
Рассказ касается популярного эпизода из истории японского самурайства, известного под названием «Истории мести сорока семи ронинов» (ронином назывался самурай, либо утерявший связь со своим кланом, либо лишившийся клана ввиду осуждения или казни своего сюзерена и конфискации его владений), — эпизода, считающегося одним из самых ярких проявлений так называемого бусидо — системы морали и норм поведения японского воинского сословия, самураев, в эпоху феодализма. Краеугольным камнем ее были верность господину, то есть своему сюзерену, мужество, презрение к смерти, самообладание. Верность требовала самоубийства в случае гибели сюзерена и мести, если эта гибель была кем-либо причинена. Кстати сказать, хотя месть за своего господина, как социально обязательное явление, существовала и всячески культивировалась только в среде самурайства, рассказы о разных актах мести приобрели в Японии широчайшую популярность в народной среде. (Научно определяет содержание бусидо Н. И. Конрад в статье «Японский феодальный эпос» в сб. «Восток», М., 1935, в частности с. 265— 268; блестящую художественную характеристику его дает Р. Н. Ким в своих лоссах «Ноги к змее» к книге Б. Пильняка «Корни японского солнца», Л., 1927, с. 135—146.)
История мести сорока семи ронинов такова: главе клана Ако, крупному феодалу Асано Наганори, было при дворе сегуна поручено совместно с церемониймейстером Кира Ёсинака принять послов императора. Наганори отказался выполнить некоторые требовавшиеся обычаем правила этикета, за что Кира Ёсинака стал его публично укорять. Тогда Наганори в раздражении ранил его мечом, а сёгун приговорил за это Наганори к смерти через харакири. Его феодальные владения были отняты (в 1701 г.). Самураи Наганори, превратившиеся в ронинов, поклялись отомстить Кира. Но так как по приказанию последнего за ними была устроена слежка, они рассеялись, прибегнув к разной маскировке (представление о ней дает рассказ «История одной мести»). Старшина самураев — Оиси Ёсио, иначе Кураноскэ, уехал в Киото и там предался крайнему разгулу, терпя всяческие унижения от многих самураев, возмущенных его явным отступничеством от клятвы мести. На самом же деле втайне он поддерживал связь с остальными самураями своего клана. Почти через два года, 14 декабря 1703 года, сорок семь самураев под командой Оиси Кураноскэ ночью ворвались в замок Кира Ёсинака, перебили всю стражу, и Оиси собственноручно отрубил Ёсинака голову. Сорок семь самураев прошествовали по всему Эдо на кладбище и возложили на могилу своего князя голову его врага, а потом предали себя в руки властей. До суда они были отданы на поруки в дома разных крупных феодалов, в частности, сам Оиси и шестнадцать других — в дом Хосокава Цунатоси. Они были приговорены к смерти и 4 февраля 1704 года совершили харакири.
Осужденные и до и после казни пользовались огромным сочувствием всего самурайства, видевшего в этом акте воплощение идеалов бусидо. Исто-
659
рия мести сорока семи ронинов послужила сюжетом большого числа драм, рассказов равных жанров, песен и т. п.
Стр. 92. Сёдаи — раздвижная наружная стена японского дома в виде деревянной рамы, на которую натянута чрезвычайно прочная бумага; в настоящее время бывают и застекленные сёдзи.
...том иТроецарствия»... — «Тр оецарствие» («Саньго-чжияньи») — знаменитый памятник литературы средневекового Китая (первое рукописное издание — в 1494 г.), историко-героический роман, в котором прославлялись качества и подвиги древних воинов. См.: «Троецарствпе», М. Гослитиздат, 1954.
Хибати — жаровня в виде круглого или четырехугольного фаянсового, бронзового и т. п. ящика с горячими углями. Вплоть до 50-х годов XX в. — самый распространенный вид отопления в японском доме.
Стр. 95. Фусума — внутренние раздвижные перегородки в японском доме.
«Тайхэйки» — знаменитое произведение японской литературы второй половины XIV в., гериический роман-эпос, прославивший воинские подвиги и качества японского средневекового рыцарства. Впоследствии приобрел значение одного из источников кодекса чести и моральных норм японского самурайства. Подробно об этой впопее см. в указанной выше статье Н. И. Конрада.
Стр. 96. Доно — приставка к именам лиц, имеющих воинское звание.
...представления дз'ёрури или там Кабуки... — Дзёрури, театр марионеток, и Кабуки, театр актера, были «новыми» (сложившимися в XVII в.) формами театра горожан — купечества, ремесленников и т. п.
Стр. 97. Харакири — способ самоубийства путем вспарывания живота. Этот способ был принят у японских самураев как свидетельство их презрения к боли и применялся главным образом в случае смерти (гибели в бою и т. п.) сюзерена (так называемое «самоубийство вслед») или в случае иавлечения на себя бесчестия. (О роли харакири в идеологии бусидо см. в указанной выше статье Н. И. Конрада, с. 251—255.)
...действовать по-эдоски... — Эдо — название Токио до 1867 г., с начала
XVII в. был резиденцией сегуна, фактического правителя Японии до 1867 г. в главы, верховного сюзерена, всего самурайства.
Стр. 98. Симабара и Гион — районы веселых домов в Киото в XVII—XVIII вв.
Стр. 99. ...словно живые образы Югири и Укихаси, прямо как будто сбежавшие из Восточного дворца. — Югири и Укихаси — куртизанки, эти имена заимствованы из классического романа начала XI в. «Гэндзи-моногатари», действие которого частично протекает в этом дворце.
660
РАССКАЗ О ТОМ, КАК ОТВАЛИЛАСЬ ГОЛОВА
Рассказ относится ко времени японо-китайской войны (июль 1894 г. — апрель 1895 г.).
Стр. 104.. ...их раньше бинтовали... — В Китае еще в начале XX в. в зажиточных домах сохранился старинный обычаи с детства бинтовать особым образом девочкам ноги, чтобы сделать ступню крошечной.
Ли — китайская мера длины, равная 3,9 км.
Стр. 105. Ситайхоу (1834—1908) — вдовствующая императрица, жена императора Сянь Фэна, фактически правившая Китаем, возведя в 1874 г. на престол трехлетнего императора Гуансюя. Однако в 1898 г., недовольная направлением политики молодого императора, совершила переворот и опять взяла в свои руки власть.
Стр. 106. ...в «Странных историях» Ляо Чжая... — Ляо Чжай — псевдоним китайского писателя Пу Сун-лина (начало XVIII в.); см.: Ляо Чжай. Странные истории. Л., изд-во «Мысль», 1928.
КЭСА И МОРИТО
Сюжет заимствован из средневековой эпопеи «Гэмпэйсэйсуики» («История расцвета и падения Тайра и Минамото»), 19.
Стр. 108. Танка — самая распространенная форма классической поэзии: 5 строк по 5—7—5—7—7 слогов. В древней Японии в быту аристократии для молодых людей обоего пола считалось обязательным уменье писать танка, которыми обменивались влюбленные и которые писались также по самым различным поводам.
Стр. 111. Имаё — форма стихов, распространенная в XI—XIII вв., состоит из двух четверостиший с чередованием строк по 5—7 слогов.
ПАУТИНКА
Японские литературоведы считают, что сюжет этого рассказа навеян эпизодом из «Братьев Карамазовых» (см. ч. III, гл. 3, рассказ Грушеньки о Луковке).
Стр. 114. Игольная гора — гора в аду.
Река Сандзу — река, которую грешники после смерти переходили, прежде чем попасть в ад.
...словно в глазок биоскопа. — Словом «биоскоп» переведено «нодзоки-мэганэ»; это коробка, в один конец узкой части которой вставлялись картинки, вращавшиеся на стержне. В другом конце коробки было окошко, в которое смотрели на движущиеся картинки.
661
МУКИ АДА
Сюжет заимствован из книги «Удзисюи моногатари» («Рассказы, подслушанные в Удзи») (XII в.).
Стр. 117. Святой Дайитоку — один из пяти святых годайсонмёо, почитаемый в эзотерическом буддизме. Обладает шестью лицами и шестью руками, изображается восседающим на белом быке. Поражает зло.
Ши Хуан-ди и Ян-ди — Цинь Ши Хуан-ди — знаменитый китайский император III в. до и. э.; Ян-ди — император VI в. н. э.
...дух самого садайдзина Тору... — Садайдзин («министр левой руки»)— одно из трех высших правительственных и придворных званий VIII— XII вв. Садайдзин Тору (822—895) — историческое лицо, легенда о появлении его духа имеется в «Кондэяку-моногатари», XXVII, 2.
... отдал «в сваи» своего любимого отрока... — Речь идет о приношении в жертву человека, обычае, существовавшем в древней Японии при закладке зданий, мостов и т. п.
Стр. 118. ...ширмы с картиной мук ада. — На всем протяжении истории японского искусства, с древности до нынешних дней, крупнейшие художники писали картины на шелку, в том числе на шелковых ширмах, большей частью Двух- или многостворчатых.
Татами — очень плотные, толщиной 6—8 см, циновки стандартного формата (около 1,8 кв. м), которыми застилается пол в японском доме. По такому полу ходят без обуви.
Стр. 119. ...неся ветку сливы с письмом... — По этикету, принятому в среде древней японской аристократии, письма подносились с какой-нибудь цветущей веткой.
Стр. 120. Акомэ — старинная женская одежда.
Стр. 121. Киссётэн (санскр. Шримакадэви) — буддийская богиня.
Фудо — один из пяти святых (см. прим. к «Святой Дайитоку»). Изображается как грозный каратель грешников, сидящий посреди пламени с мечом в руке.
Кудара Каванари (782—853) — японский художник.
Канаока — Косэ-но Канаока — японский художник, живший в последней четверти IX в.
«Круговорот жизни и смерти» — обязательный сюжет росписи в буддийском храме; задача ее — отвратить от всякого проявления жизни и пробудить стремление к нирване.
Стр. 122. Мондзю — одно из буддийских божеств.
Стр. 123. ...меч-горы, поросшие нож-деревом — детали пейзажа ада по буддийским представлениям.
Мандзи — буддийский символ в виде свастики, но с концами, загнутыми налево, — древнеиндийский символ вечности и блаженства.
662
А сида — деревянная обувь в виде подошвы с двумя поперечными деревянными подставками 8—10 см высоты.
Стр. 135. Наоси — старинная придворная одежда, право ношения которой имели только особы высших рангов; надевалась в торжественных случаях.
Стр. 139 ...не понимает он законов пяти извечных отношений... — Пять отношений, по исконным восточным представлениям, — отношения между правителем и подданными, отцом и сыном, мужем и женой, старшим и младшим и между друзьями.
УБИЙСТВО В ВЕК «ПРОСВЕЩЕНИЯ»
Периодом «Просвещения» (кайка) называются в Японии 70-е и 80-е годы XIX века, то есть первые десятилетия годов Мэйдзи, когда Япония интенсивно европеизировалась.
Стр. 140. Китанива Цукуба (1841—1887) — известный фотограф тех лет.
Стр. 141. Чжэн Бань-цяо — китайский литератор, писавший стихи свободной формы, известный также как каллиграф.
...в то время еще не существовало титулов... — Нынешняя система титулов была введена в 1884 г.
Стр. 143. Цукидзи — район Токио, где в те годы был квартал, отведенный для проживания иностранцев.
Стр. 144. ...жена и сестра... — Имеется в виду Акио, на которой писавший собирался жениться и к которой потом стал относиться как к сестре,
Мёга (Zingiber Mioga) — имбирь.
Нарусима Рёхоку (1837—1884) — известный общественный деятель первых десятилетий Мэйдзи.
СМЕРТЬ ХРИСТИАНИНА
См. общее примечание к рассказу «Табак и дьявол».
Стр. 149. «Imitation Chrism — «Подражание Христу», сочинение Фомы Кемпийского (1380—1471).
Эклезия — церковь (португ.).
Стр. 150. Даймё — крупный феодал.
Стр. 155. Инфэруно (искаж. португ. inferno) — ад.
Стр. 157. ...книга под названием «Legenda Aurea»... — Это вымышленная автором книга. Западноевропейская «Legenda Лигеа» — книга XIII в., написана итальянцем Iacobus de Borgine.
Хирагана — одна из двух графических форм японской фонетической (слоговой) азбуки. Употребляется и в письмах и в печати.
663
УЧИТЕЛЬ МОРИ
Стр. 158. Симадзаки (фамилия) Тосон (псевдоним) (1873—1943) — крупнейший классик новой японской литературы, создатель японского буржуазного реалистического романа.
Сэнсэй — дословно «учитель», кроме того, вежливое обращение к мужчине, вежливая приставка после мужского имени.
Стр. 161. Кан — мера веса, равная 3,75 кг.
...так как он с давних пор хорошо распевал стихи... — Некоторые виды спортивных упражнений в те времена, к которым относится рассказ, и в более ранний период принято было производить под распевание речитативом стихов.
Стр. 162. Гэта — самый распространенный тип национальной обуви, имеет вид деревянной подошвы с двумя поперечными подставками высотой 4—5 см, держится на двух ремешках, в один из которых продевается большой палец.
Стр. 164. «A Psalm of Life» — стихотворение американского писателя Лонгфелло (1807—1882).
Осикава Сюнро (1877—1914) — писатель, автор популярных приключенческих романов.
Стр. 166. ...ив средней школы в высшую нормальную... — В Японии в те годы начальная школа (с шестилетнего возраста) имела шесть классов, средняя — три класса, высшая нормальная (обязательная только для тех, кто потом поступал в университет) — два класса.
Кан да — район в Токио, где расположено большинство букинистических лавок.
О СЕБЕ В ТЕ ГОДЫ
Стр. 170. Нарусэ Масакадзу (1892—1936) — впоследствии специалист по французской литературе, профессор университета в городе Фуку ока. Был одно время участником журнала «Синейте».
Мацуока. — Мацуока Юдзуру (род. в 1891 г.), в то время студент философского факультета, был одно время участником журнала «Синейте».
«Синейте». — Первый номер этого журнала, составленный Акутагава, Кикути, Мацуока, Нарусэ и Кумэ, вышел в феврале 1916 г.; журнал просуществовал всего год. В нем были впервые провозглашены принципы неореализма и неомастерства.
Сэн — одна сотая иены (при нынешней инфляции не употребляется).
Лоуренс (1855—1916) — англичанин, профессор университета Тодай.
Стр. 171. Тоёда Минору (род. в 1885 г.) — окончил английское отделение литературного факультета университета Тодай, впоследствии был ректором института Аояма.
Стр. 172. Фудзиока Кацудзи (1872—1935) — один из крупнейших японских филологов.
664
Макс Мюллер (1823—1900) — английский специалист по сравнительному языкознанию.
Стр. 173. Я... писал рассказ «Кошелек». — Этот рассказ остался неопубликованным.
Написал наконец половину «Носа». — См. с. 38—43 наст. над.
Японские Альпы — широко распространенное название трех горных цепей на острове Хонсю.
Стр. 174. Таяма Катай (1871—1930) — писатель, в чьих произведениях реализм заметно перерождался в натурализм.
...в стиле Гюисманса... — Гюисманс Жорис-Карл (1848—1907) — французский писатель.
Дюрталъ — герой некоторых произведений Гюисманса.
Стр. 175. Кикути из Киото — Кикути Хироси (или Каи) (1889—1948) — крупный писатель, первые годы близкий к Акутагава по направлению; принимал участие в журнале «Синейте».
Юдзэн — особый способ набивной окраски тканей, отличавшейся богатством цветов; назван по имени его изобретателя.
...остатки со стола Нагаи Кафу и Танидзаки Дзюнъитиро. — Нагаи (1879—1959) и Танидзаки (1886—1965) — крупные представители японской буржуазной литературы.
Киркегор (1813—1855) — датский философ и религиозный мыслитель, оказавший сильное влияние на всю скандинавскую литературу.
Стр. 176. ...пишет трехактную пьесу на тему из жизни Сакъя Муки. — Эта пьеса, «По ту сторону греха», была опубликована в первом номере «Синейте». Сакья Myни — имя Будды (Гаутамы), родоначальника буддизма.
Мусякодзи Санэацу (род. в 1886 г.) — японский писатель и драматург, в 1910 г. вместе с Сига Наоя основал журнал «Сиракаба» («Белая береза»). Во втором десятилетии увлекался толстовством.
...часто в своей «Смеси»... — «Смесь», или «Разное» («Дзаккан») — раздел в журнале «Сиракаба».
Стр. 177. ...«день уже склонился к вечеру»... — Цитата из Евангелия от Луки, гл. 24, стих 29.
...«горело в нас сердце наше»... — Там же, гл. 24, стих 32.
...«посадили на осленка»... — Там же, гл. 19, стих 35.
...«постилал одежды свои по дороге»... — Там же, гл. 19, стих 36.
Тюся — Итикава Яодзо седьмой, впоследствии Итикава Тюся (1860— 1936), знаменитый японский актер.
Утаэмон — Накамура Утаэмон пятый (1865—1940), знаменитый исполнитель женских ролей.
Дома и садзики, — партер и ложи.
Стр. 178. «Татибаная» — прозвище Итикава Удзаэмона пятнадцатого (1874—1945), знаменитого японского актера.
Икэда Тэрука (1883—1921) — японский художник, пользовавшийся известностью во втором десятилетии XX в.
665
Стр. 179. Итикава Санки (1886—1970) — специалист по английской литературе.
Стр. 180. Петцольд — норвежская пианистка, с 1909 по 1924 г. преподававшая в Токийской консерватории.
Стр. 181. Оби — широкий парчовый пояс, несколько раз обматывающий кимоно. У женщин — обычно яркий и пестрый, завязывается особым бантом, у мужчин — несколько утке и темных цветов.
Ямада Косаку — известный японский дирижер (род. в 1886 г.); в начале 30-х годов гастролировал в СССР.
Стр. 182. Хироцу Кадзуо (1891—1968) — японский писатель и критик.
Стр. 183. «Эмали и Камеи» — сборник стихотворений (1852) Теофиля Готье (1811—1872).
Пусть он не зажег «звезду страха». — У Гюго в эклоге, обращенной к Бодлеру, есть выражение: «Новая звезда».
Симоне (1863—1931) — английский поэт и критик.
Стр. 184. Риккерт Генрих — немецкий философ (1863—1936).
Стр. 185. Кана — в Японии, кроме иероглифов, употребляется звуковая азбука, называющаяся кана. Она имеет две графические формы — хирагана (см. прим. к рассказу «Смерть христианина») и катакана. Последняя употребляется реже.
ПРОСВЕЩЕННЫЙ СУПРУГ
Точнее, но тяжеловесней для заглавия было бы перевести «Супруг в век «Просвещения». (О «Просвещении» см. первое примечание к рассказу «Убийство в век «Просвещения».)
Стр. 186. ...в музее Увно открылась выставка, посвященная культуре раннего Мэйдзи. — Уэно — название парка и района в Токио. Выставочный музей существует там до сих пор; однако упомянутой в рассказе выставки не было.
Стр. 187. Хиросигэ А идо (1797—1858) — японский художник, мастер гравюры на дереве, крупнейший пейзажист.
...где висели гравюры укиёэ, созданные Тайсо Ёситоси. — Укиёэ — знаменитый стиль гравюр по дереву японских художников XVIII — первой половины XIX в. Тайсо Ёситоси (1839—1892) — один из последних художников этого стили.
...Кику гор о и Хансиро в парике стиля итёгазеи разыгрывают под театральной луной... — Кикугоро пятый (1845—1903) и Иван Хансиро восьмой (1829—1882) — знаменитые актеры тех лет. Итёгаэси — прическа простонародных девушек. В театре Кабуки роли женщин до сих пор исполняют мужчины. В театральную луну вставлялся зажженный светильник, и луну вешали перед задней кулисой.
666
Стр. 188. ...когда древняя столица ддо уже потеряла какие-то свои черты, но еще не превратилась в Токио... — Эдо — старое название Токио. Переименование произошло в 1867 г.
...вроде заметки о бале-маскараде в клубе Рокумэйкап. — Здание под этим названием было построено в 1883 г. в Токио, в районе Тиёда. В нем часто происходили балы, благотворительные базары и т. п., на которые допускались только японская знать и чины иностранных посольств.
...нарядную улицу «кирпичных домов». — Кирпичные дома европейского типа в 70-х годах XIX в. в Токио были новинкой.
Стр. 190. ...мы смотрели пьесу о мятеже Симпурэн. — Имеется в виду мятеж недовольных реформами, вспыхнувший 24 октября 4887 г. в префектуре Кумамото и на другой же день подавленный. Симпурэн — «отряд священного ветра».
...после сцены, в которой Оно Тэппэй кончает жизнь самоубийством... — Оно Тэппэй — роль, соответствующая личности Ода Куротомо (1835—1876), главе группы, поднявшей мятеж Симпурэн.
...ив-за указа о запрещении, носить мечи... — Право ношения двух мечей принадлежало воинскому классу и дворянству. Закон, лишивший их этого права, вышел в марте 1876 г.
Стр. 191. ...предпринял поездку в Корею, в город Кэйдзе. — Кэйдзё-(в японском произношении) было официальным названием Сеула (Кион-сон — в корейском произношении).
Стр. 192. Нио — статуи богов — охранителей Нио, стоят по обе стороны входа в буддийские храмы.
Хаги — цветущий кустарник, леспедеца двухцветная, один из излюбленных образов японской поэзии.
Басе (1644—1694) — знаменитый поэт, писал стихи в форме трехстиший.
...идеальное место для «удивительной встречи талантливого юноши с прекрасной девушкой». — В 1885 г. вышел политический роман Токая Санси под заглавием «Удивительная встреча прекрасной девушки», и это выражение стало модным.
...заказал художнику Годзэта Хобаю портрет жены. — Имеется в виду знаменитый художник-портретист нового стиля Годзэта Хогё (1827—1892). Трудно сказать, изменил ли Акутагава имя художника, сохранив фамилию, и это сознательный прием или же просто ошибка его памяти.
Стр. 193. ...за столом, освещенным керосинокалилъной лампой. — Керосиновая лампа, не говоря уже о кероспнокалильной, в 70-е годы была в Японии европейской новинкой.
Стр. 194. ...на пьесу «Одэн-но Кавабуми». — Имеется в виду пьеса Каватакэ Мокуами, основой для сюжета которой послужила жизнь Такахаси Одэн, отравившей своего мужа и совершившей еще ряд преступлений, арестованной в 1876 г. и в 1879 г. казненной.
667
Стр. 195. ...всем своим видом напоминая ассистента на сцене. — Так называется в спектаклях старинного жанра «но» участник, обязанность которого подавать актеру или принимать от него реквизит, поскольку это требуется по ходу действия. В известном смысле такой участник как бы опекает актера во время спектакля.
Садандзи — знаменитая династия актеров классического японского театра Кабуки. Который по счету Садандзи, у автора не сказано.
Стр. 197. Синъютэй Энгё. — Имеется в виду знаменитый эстрадный рассказчик Саньютэй Энтё (1830—1900).
Стр. 199. Хэ Шу-чжан — посол Китая в Японии с 1876 до 1879 г.
Ся и Чжоу — древнейшие государства Китая.
...уже приблизилась к знаменитой «сосне свиданий». — Знаменитая сосна на берегу Сумидагами в районе Асакуса, где находился квартал Новый Ёсива-ра, служившая приметным знаком для приплывавших сюда лодок.
МАНДАРИНЫ
Стр. 203. ...без признака масла... — Японские прически требуют, чтобы волосы были смазаны особым маслом.
СОМНЕНИЕ
Стр. 208. Токонома — ниша в стене, иногда с одной-двумя полочками, где висит картина, стоит ваза с цветами и т. п.; обязательная принадлежность комнаты.
...на таинственном какэмоно с изображением «Ивовой Каннон»... — Какэмоно — традиционная для японских и китайских художников форма картин, которые вешают на стену (картины писались и на свитках и на ширмах). Какэмоно имеет форму длинной продольной полосы шелка или бумаги, узкие края которой закреплены на костяных или деревянных палочках; вешается вертикально, хранится в свернутом виде. «Ивовая Каннон» — один из образов Каннон, буддийской богини милосердия, считающийся особо милосердным; Каннон склоняется к молящимся, как склоняет свои ветви ива, — отсюда ее название, — а потому изображается она с веткой ивы в руках.
Стр. 209. На нем било приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама... — Вытканные гербы — принадлежность хаори как части официального костюма.
Стр. 211. ...в двадцать четвертом году Мэйдзи — в 1891 г.
Стр. 215. Хонгандзи — храм буддийской секты Синею.
668
ДЗЮРИАНО КИТИСКЭ
См. общее примечание к рассказу «Табак и дьявол».
Стр. 220. Бэрвн (искаж. португ. Belem) — Вифлеем.
Офурисодэ и каидори — старинные костюмы японской знати.
...был приговорен к распятию. — В XVII в. христианство каралось смертной казнью путем распятия так же, как в средние века казнили крестьянских повстанцев, так что сам этот способ не был связан с христианством как таковым.
Стр.221. ..как она рассказана в «Н агасаки-тёмонсюъ и т. д. — Все названия хроник автором вымышлены.
...моего самого любимого святого глупца. — «Святой глупец»—калька немецкого «Heiliges Narr». Выражение заимствовано из либретто к опере Вагнера «Парсифаль».
ЧУДЕСА МАГИИ
Стр. 221. Мисра-кун, патриот, родом из Калькутты. — Вымышленный персонаж из новеллы Танидзаки Дзюнъитиро «Хассан-хан». Хассан-хан — главный герой этой новеллы, философ и маг, тоже вымышленный персонаж.
Стр. 226. Ивасаки или Мицуи — крупнейшие японские капиталисты.
ЛУК
Стр. 228. Дзимботё на Капда. — Дзимботе — название улицы в районе Канда.
Такэхиса Юмэдзи-кун (1884—1934) — художник, в частности, книжный иллюстратор.
Стр. 229. Панивабуси — жанр популярных песенок.
Мицумамэ — лакомство из гороха с имбирем.
«.Кукушка» — сентиментальный роман (1900) известного японского Писателя Токутоми Рока, популярный в первые два десятилетия.
Мацу и Сумако — знаменитая в 10-е годы артистка, впервые исполнявшая в Японии такие роли в европейских пьесах, как Офелия, Нора (в драме Ибсена), Катюша (в инсценировке «Воскресения» Толстого). У нее был нашумевший в свое время роман с писателем Симамура Хогэцу, после смерти которого она в 1919 г. покончила самоубийством. Ей было посвящено несколько книг, по книги с таким названием, какое дано в рассказе, не существует.
«Новое Асагао-никки» — одноактная пьеса (1912) известного японского драматурга Окамото Кидо. «Асагао-никки» — название средневековой пьесы.
«Если посмотреть с высоты гор на долину» — может быть, название популярной повести, а может быть, и вымышленное автором название.
669
...рисунок художника Кабураги Киёката-куна «Женщина Гэнроку»... — Художник Кабураги (1878—1972) в 10-е годы был известен преимущественно как иллюстратор.
Китамура Сикай-кун (1871—1927) — скульптор.
Стр. 230. «.Симпа» (буквально: «Новая школа»)— название нового театра, противопоставившего себя традиционным жанрам японского театрального искусства, в частности, Кабуки, ставившего переводные европейские пьесы, инсценировки современных японских романов (в частности, «Кукушки»), а также европейских (например, «Воскресения»).
...соболезнование госпоже Намико. — Таэко и Намико — герой и героиня романа «Кукушка». Намико умирает от чахотки.
Сё — около 1,8 л.
Стр. 231. Дзуси — известное курортное место в префектуре Канагава, место действия романа «Кукушка» и любовной сцены в инсценировке этого романа.
Кордова — город в Испании, место действия «Кармен».
Сацумский бива — старинный вид бива, четырехструнного щипкового инструмента.
...в районах Канда и Хонго... — В этих районах расположены два университета, то есть это студенческие районы.
Кабутоя и Санкайдо — художественные галереи. Кабутоя помещается на Гиндза, 8 тёмэ; Санкайдо ликвидирована, была в районе Акасака.
Стр. 232. Сибаура — в то время район на окраине Токио.
Мицукоси — название одного из крупнейших универсальных магазинов в Токио.
Мадемуазель Мори Рицуко — актриса театра Тэйгэки, то есть театра жанра «симпа».
Стр. 233. Подобно святой Женевъеве Шаванна. — Пюи де Шаванн (1824—1898) — французский художник. «Святая Женевьева, охраняющая Париж» — его известная фреска в парижском Пантеоне.
...под красным светом фонаря.,. — Красный фонарь указывал место трамвайной остановки.
Стр. 235. ...голосом, каким поют песню Сасураи... — Имеется в виду печальная песня, впервые исполненная со сцены в пьесе «Живой труп» Л. Н. Толстого в 1917 г. и очень распространенная в последующие годы.
КАК ВЕРИЛ БИСЭЙ
Рассказ заимствован из «Ши-цзи» («История») Сыма Цяня (145—86 гг. до н. э.). Имя Бисай (китайск. Ми-шэн) стало в Японии символом твердого исполнения обещания, а также простодушия, граничащего с глупостью.
670
ОСЕНЬ
Стр. 240. Кансай — юго-западная часть Хонсю, главного из островов, образующих Японию. Осака расположен в Кансай, Токио — в восточной части Хонсю, так называемом Канто.
Стр. 242. ...применяя, как Миямото Мусаси, два меча... — Миямото Му-саси — знаменитый фехтовальщик XVII в., основатель школы фехтования двумя мечами.
Стр. 243. Ямапотэ — район в Токио, где живут преимущественно состоятельные люди.
Стр. 244. Кото — струнный музыкальный инструмент тина цитры, на котором главным образом играют женщины, в древнее время распространенный среди аристократии, в XX в. — и в буржуазных семьях.
Стр. 245. Реми де Гурмон (1858—1915) — французский писатель, автор философских очерков, критических статей, биологических этюдов и историко-литературных работ.
Стр. 246. Вот о/иг, тринадцатая ночь! —Подразумевается ночь на 14-е число девятого месяца по лунному календарю, славящаяся особенно красивым полнолунием.
МАДОННА В ЧЕРНОМ
Стр. 250. ...годы. Каэй, когда «черные корабли» наводили страх на гавань Урага. — Годы Каэй — 1848—1854 гг. В 1853 г. американские корабли под командованием коммодора Перри вошли в бухту Урага (близ Йокосука). Наведя орудия на город, Перри потребовал свободного доступа в страну. Стр. 251. Анима (лат. anima)—душа.
...склонившись стриженой головой. — В старину пожилые женщины-вдовы коротко стригли волосы в знак благочестия.
РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ МЕСТИ
Стр. 253. Коку — 180 л. Самураи получали жалованье натурой, рисом; коку риса весит около 150 кг.
Седьмой год Камбун — 1667 г.
Стр. 255. Сукэтати (буквально: «вспомогательный меч») — официальная должность, вроде оруженосца.
...договор во всем быть вместе... — В Японии издавна существовал обычай (отчасти сохранившийся до XX в.), состоявший в том, что друзья и влюбленные записывали клятву в дружбе или любви на листе бумаги дважды, на правой и левой стороне листа, а посредине ставили личную печать, и лист разрезался пополам, так что каждый получал и хранил клятву с половиной печати.
671
Стр. 256. Амигаса — большая плетеная шляпа в виде низкого конуса; ее носили крестьяне, бродячие торговцы, мастеровые и т. п.
Стр. 257. Хатамото — вассалы непосредственного сегуна.
Стр. 260. Тасуки — тесемки, которыми подвязывают широкие рукава японской одежды, чтобы они не мешали движениям рук.
Хасэбэ Лоринага — известный оружейник школы Сагами, ученик Ма-самунэ.
Рай Кумитоси — знаменитый оружейник XIII в.
Мои — мелкая денежная единица.
Стр. 262. «Великий бодисапгва Хапш.ман!» — Хатпман в синтоизме — бог войны, в буддизме — бодисатва. Бодисатва — тот, кто на пути к достижению совершенного знания, будущий будда.
СУСАНОО-НО-МИКОТО НА СКЛОНЕ ЛЕТ
Стр. 264. Победив змея из Коси, Сусаноо-но-микото взял себе в жены Кусинада-химэ... — Сусаноо — один из главных богов синтоистского пантеона. Победа над гигантским змеем и спасение при этом девушки Кусинада — его главный подвиг. Микото — почтительная приставка к имени божества, химэ — приставка к имени женщины знатного происхождения.
...в стране Такамагахара. — По синтоистской мифологии, местопребывание божеств, синтоистский Олимп,
Стр. 266. Муку (Aphanante aspera Planch) — дерево из семейства вязовых, русского перевода не существует.
Стр. 267. Сугадатами — плотные циновки, сплетенные из осоки.
Стр. 270. Прическа мидзура. — Древние мужские прически; длинные волосы разделялись пробором и перехватывались тесемками у ушей с подхватыванием концов, так что перед ушами свешивалась петля волос.
НАНКИНСКИЙ ХРИСТОС
Стр. 277. Остатки пилюль «гунланъванъъ — пилюли с ртутью против сифилиса.
«Цзялуми» — мазь с каломелью против сифилиса.
ДУ ЦЗЫ-ЧУНЬ
Эта новелла Акутагава представляет собой переработку одноименной вовеллы китайского новеллиста Ли Фу-яня (в русском переводе «Гуляка и волшебник»). См. «Гуляка и волшебник», Тане кие новеллы (VII— IX вв.), М., «Художественная литература», 1970.
672
Стр. 285. ...в столице Танского государства. — Танским государством здесь назван Китай в период Танской династии (618—907).
Стр. 286. Сюань-цвун (713—756) — китайский император.
«Драконий глаз» — плоды нефелия. Стр. 288. ...я даос-отшельник... — Даос — последователь даосизма, религиозно-философского учения, проповедующего отшельничество.
Стр. 291. Дзё — мера длины, равная 3,79 м.
Стр. 292. Царь Янъло (по-китайски), Эмма (по-японски), Яма раджа (на санскрите) — владыка ада, судящий грешников.
ПОДКИДЫШ
Стр. 295. ...ветки иллиция... — Illicium religiosum Sieb. et Zucc. — илли-ций священный, дерево, ветки которого, особенно в пору цветения, применяются в буддийских храмах и на кладбищах.
...со времени революции не ступала нога женщины. — Имеется в виду революция 1867—1868 гг. До 1868 г. женщины в буддийский храм допускались.
ВАЛЬДШНЕП
Канва рассказа «Вальдшнеп» заимствована из эпизода, рассказанного в «Моих воспоминаниях» И. Л. Толстого. Вот как он изложен там (см. в изд. 1933 г., с. 131—132):
«Мы пошли всей компанией, то есть папа, мама и мы, дети, за Воронку.
Папа поставил Тургенева на лучшее место, а сам стал шагах в полутораста от него на другом конце той же поляны.
Мама стояла с Тургеневым, а мы, дети, невдалеке от них развели костер.
Папа стрелял несколько раз и убил двух вальдшнепов, а Ивану Сергеевичу не везло, и он все время завидовал счастью отца.
Наконец, когда стало уже темнеть, на Тургенева налетел вальдшнеп, и он выстрелил.
— Убили? — крикнул отец с своего места.
— Камнем упал, — пришлите собаку поднять, — ответил Иван Сергеевич.
Папа послал нас с собакой, Тургенев указал нам, где искать вальдшнепа, но как мы ни искали, как ни искала собака, вальдшнепа не было. Наконец подошел Тургенев, пришел папа, — вальдшнепа нет.
— Может быть, подранили, мог убежать, — говорил папа, удивляясь, — не может быть, чтобы собака не нашла, она не может не найти убитую птицу.
— Да нет же, Лев Николаевич, я видел ясно, говорю вам, камнем упал, не раненый, а убитый наповал, я знаю разницу.
22 Акутагава Рюноскэ
673
— Но почему же собака его не находит? Не может быть, что-нибудь не то.
— Не знаю, но только скажу вам, что я не лгу, камнем упал, — настаивал Тургенев.
Так вальдшнепа и не нашли, и остался какой-то неприятный осадок как будто кто-то из двух не совсем прав. Или Тургенев, говоря, что он убил вальдшнепа, или папа, утверждая, что собака не может не найти убитой птицы.
И это случилось как раз тогда, когда обоим им так хотелось избежать всяких недоразумений.
Ведь для этого они даже избегали серьезных разговоров и проводили время только в приятных развлечениях...
Вечером, прощаясь с нами, папа тихонько шепнул нам, чтобы мы утром, пораньше, пошли опять на это место и поискали бы хорошенько.
И что же оказалось?
Вальдшнеп, падая, застрял в развилке, на самой макушке осины, и мы насилу его оттуда вышибли.
Оба они оказались правы, и все кончилось к обоюдному удовольствию».
«Мои воспоминания» были переведены на японский язык с текста, печатавшегося в 1913 году в газете «Русское слово», и вышли под названием «Ко-но мптару тити Торустой» в Токио, изд. Спнтёся, в 1914 году, раньше, чем они вышли отдельным изданием в России1. Из этого и других имеющихся на японском языке источников (они указаны ниже) заимствованы и отдельные детали рассказа. Психологическая разработка, разумеется, принадлежит автору; в связи с ней сделаны некоторые симптоматические отступления от рассказа в мемуарах И. Л. Толстого. О сложности отношения Акутагава к личности Л. Н. Толстого говорит и его заметка: «Толстой» («Слова пигмея») — см. с. 537 наст. изд.
Стр. 300. ...сказал именно «откусить». — См. «Мои воспоминания» И. Л. Толстого, с. 29.
...они не позволят мне их целовать. — См.: П. Бирюков. Л. Н. Толстой. Биография, т. II, 1908, с. 275.
Стр. 303. ...которая обычно служила Толстому кабинетом. — См. «Мои воспоминания», с. 132.
...на стене голова оленя... — См.: там же, с. 41—42.
Стр. 304. Если будет время, прочитайте. — Сухотина-Толстая пишет: «Тургенев много говорил о Мопассане... Он первый указал на него моему отцу, когда Мопассан был еще начинающим молодым писателем. Он дал отцу роман Мопассана «La Maison Tellier» и посоветовал отцу прочесть его. Но на отца
1 Сведения об издании мемуаров И. Л. Толстого в Японии были по моей просьбе любезно сообщены мне специалистом по русской литературе К. Наруми, за что приношу ему благодарность.
674
эта книга не произвела впечатления» (Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны, по изд. 1923 г., с. 14).
Это был Гаршин. — Речь идет о посещении Гаршина в марте 1880 р. когда у него уже начиналась психическая болезнь (см.: «Мои воспоминания», с. 135).
Стр. 305. ...во всем, что делают другие, подозревает фальшь. — Бирюков приводит цитату из воспоминаний о Тургеневе Евгения Гарпшна: «У Толстого, рассказывал Тургенев, рано сказалась черта, которая затем легла в основание всего его довольно мрачного миросозерцания, мучительного прежде всего для него самого. Он никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью...» (Бирюков. Л. Н. Толстой. Биография, т. 1, 1906, с. 276).
БОГ АГНИ
Стр. 307. Бог Агни — ведический бог огня.
КОНЧИНА ПРАВЕДНИКА
(Свиток картины)
Под «свитком картины» имеется в виду т. н. «эмакимоно»: рассказ в картинах религиозного или светского содержания.
Стр. 319. С у си — колобки из вареного риса, сдобренного унсусом и солью, с рыбной или овощной начинкой.
Стр. 320. Тэнгу — персонаж японских сказок, который часто совершает злые проделки.
В ЧАЩЕ
В новелле использован сюжет сборника «Кондзяку моногатарп», XXIX, 23; имя разбойника Тадземару взято из того же сборника, из плохо сохранившейся повести, XXIX, 2.
Стр. 323. Те — мера длины, равная 109 м.
Стр. 324. В часы первой стражи — в восемь часов вечера.
...за храмом Акиторибэ, посвященном Биндзуру... — Японские храмы, как буддийские, так и синтоистские, обычно посвящены какому-нибудь одному божеству или святому. Биндзуру (санскр. Пиндола) — первый из шестнадцати архатов, то есть учеников Будды.
Стр. 325. ...ее лицо показалось мне ликом бодисатвы. — «Образ бодисатвы» здесь соответствует нашему «ангельский лик».
...нашел там много зеркал и мечей. — Зеркала в древности были металлические, обычно бронзовые.
22*
675
ГЕНЕРАЛ
Генерал Ноги принадлежит к числу тех деятелей новой Японии, имена которых особенно охотно использовались для националистической пропаганды. Один из крупнейших японских полководцев, он выступил на авансцену в решающий момент развития японского империализма. Участие в японо-китайской войне дало ему чин генерал-лейтенанта и баронский титул. Но славу принесло ему взятие Порт-Артура в японо-русскую войну. Ноги, уже в чине полного генерала, состоял в должности командующего 3-й армией, сформированной специально для взятия Порт-Артура, и руководил жесточайшими штурмами, стоившими японцам огромных потерь. Порт-Артур был взят 1 января 1905 года. Эта решающая для исхода войны победа дала генералу Ноги графский титул и звание члена Высшего военного совета.
Однако не только военные успехи сделали из генерала Ноги популярнейшую фигуру националистической пропаганды. Не меньшую популярность создало ему то, что его можно было назвать «образцом древнего воина, живым воплощением бусидо». Воспитанный в духе традиций кодекса феодальной воинской чести (он родился в 1848 г.), генерал Ноги подчеркнуто воплощал эти традиции в жизнь. Особенно прославляется как проявление бусидо его смерть. После кончины императора Мэйдзи, последовавшей в июле 1912 г., он, как говорят официальные биографы, «впал в безысходную тоску» и в конце концов совершил самоубийство. Это самоубийство явилось величайшим актом феодальной верности, требовавшей «смерти вслед за господином». В день похорон императора, 13 сентября, за несколько часов до смерти, он в полной форме, при всех орденах сфотографировался и затем при звуке выстрела, оповещавшего о выезде катафалка с прахом императора, совершил у себя дома харакири. Одновременно, следуя феодальному принципу верности мужу, покончила с собой его жена.
Самоубийство Ноги доставило ему, пожалуй, большую славу, чем вся его жизнь. В 1916 году Ноги посмертно был возведен в звание особы второго ранга. Дом, где он покончил с собой, был превращен в храм, посвященный его духу, — это так называемый Ноги-дзиндзя.
В рассказе «Генерал» имеется ряд купюр во всех изданиях этого рассказа, в том числе и послевоенных, сделанных в оригинале японской цензурой. Некоторые из пропусков восстановлены (на что указывают в переводе квадратные скобки) в книге: Вада Сигэдзиро. Акутагава Рюноскэ, Осака, 1956; другие — предположительно—в издании: Акутагава Рюноскэ дзэисю, маки II, с. 403—406.
Акутагава по поводу этих купюр писал: «В моем рассказе «Генерал» власти вычеркнули ряд строк. Однако, по сообщениям газет, живущие в нужде инвалиды войны ходят по улицам Токио с плакатами вроде таких: «Мы обмануты нашими командирами, мы — подножка для их превосходительств», «Нам жестоко лгут, призывая не вспоминать старое» и т. п. Вычеркнуть самих инвалидов как таковых и властям не под силу» («Заметки Тёко-До»).
676
Стр. 335. ...каны разливали легкую теплоту. — Каны — система отопления, принятая в Китае и в Корее и состоящая в том, что снизу обогреваются пол и лежанки.
Стр. 339—340. ...хозяин в фундоси принялся бороться со служанкой, на которой была набедренная повязка. — Фундоси — мужская набедренная повязка типа плавок. Надо учесть, что в японском театре женские роли традиционно исполняют мужчины.
Стр. 343. А кагаки Гэндзо — один из сорока семи самураев (см. вводное примечание к рассказу «Оиси Кураноскэ в один из своих дней»). Для театра Кабуки была написана и пьеса о нем.
Токури-но вакарэ — расставание за бутылочкой сакэ (токури — бутылка особой формы, узкая и высокая).
...князя Мито и Като Киёмаса. — Токугава Мицукуни, князь Ми-то — один из феодалов-политиков Х1Хв., прославляемый националистической литературой как образец просвещенного и гуманного правителя и борца за национальные идеалы. Като Киёмаса — феодал конца XVI в., прославляемый как образец феодальной верности господину, храбрости и простоты.
«Ecoute moi, Madeleine» — из стихотворения «Мадлен» («Madeleine») в сборнике «Оды и баллады» («Odes et Ballades») Гюго.
Седьмой год Тайсё — 1918 г.
УСМЕШКА БОГОВ
Стр. 346. Padre Organtino — историческое лицо, Gnecchi-Soldo Organ-tino (1530—1609), итальянец, член ордена иезуитов. Прибыл в Японию в 1570 г., проповедовал в Кпото. Пользуясь доверием тогдашнего фактического правителя Японии Ода Нобунага, в 1581 г. основал первую в Японии католическую семинарпю.
Стр. 347. Главный храм в Риме — собор св. Петра.
...звуки рабэйки. — Рабэйка (искаж. португ. гаЬеса) — скрипка.
...в этой столице. — Имеется в виду Киото.
Сакура — разновидности вишни, характерные для флоры Японии. Отличаются обильным цветением, плодов не дают. Сакура наряду с хризантемой считается национальным цветком Японии.
...цветы плакучей сакура. — Плакучая сакура (сидарэдзакура), Prumis pendula, разновидность вишни.
Стр. 349. ...японская вакханалия развернулась... словно мираж. — Описанная ниже сцена основана на одном из главных синтоистских мифов. Как повествует «Кодзики» — свод космогонических и исторических мифов VIИ в., Аматэрасу, богиня солнца — другое имя ее Охирумэмути, — удрученная дурным поведением бога Сусаноо, «дверь жилища в Гроте Небесном за собой затворила... и там осталась. Тогда во всей Равнине Высокого Неба... стало
677
темно, вся страна... погрузилась во мрак... Поэтому все восемь мириад божеств... собрали петухов вечной ночи и заставили петь их, а богиня Амэ-но Удзумэ... перед дверью в жилище Небесного Грота деревянную доску выставила.., и, делая вид, что нашло на нее восхищение духа, она соски своих грудей открыла... Высокого Неба Равнина тогда затряслась, и все восемь мириад богов захохотали. Странно то показалось богине Аматэрасу, и... она изнутри произнесла: «Думала я, что, так как я скрылась сюда, вся Такама-но хара... и страна вся темна. Почему же все восемь мириад богов так смеются?» Тогда, отвечая, сказала ей Амэ-но Удзумэ: «Рады и веселы мы потому, что есть божество великолепнее, чем ты». (Перевод Г. О. Монзелера). Заинтересованная Аматэрасу вышла из грота.
...вырванной с корнем эйрии. — Эйрия—японская сакаки, вечнозеленый кустарник, священное растение в синтоистском культе.
Стр. 351. ...«увидев красоту дочерей человеческих»... — вольный пересказ из Ветхого завета, Бытие, гл. 6, стих 2.
Конфуций, Мэн-цзы, Чжуап-цзы — древние китайские философы. Конфуций (правильно: Кун-цзы) — 551—497 гг. до н. э., Мэн-цзы — 372— 289 гг. до. н. э., Чжуан-цзы — 369—286 гг. до н. э.
Дао. — В учении о дао (т. е. о Пути) содержатся философские основы доктрины Конфуция и доктрины Мэн-цзы, то есть конфуцианства и даосизма. ...шелка из страны У, яшму из страны Цинь. — У л Цинь —царства Древнего Китая.
Стр. 352. Какиномото Хитомаро — поэт VIII в., один из крупнейших авторов знаменитой антологии VIII в. «Манъёсю».
...звезды Волопас и Ткачиха. — Альтаир и Вега, расположенные по обе стороны Млечного Пути. Согласно легенде, это влюбленные, встречающиеся раз в семь лет.
У их изголовья журчала Небесная река. — Млечный Путь по-японски называется двояко: Аманогава — буквально: «Небесная река», старое, чисто японское название, Гинка — позднейшее название, принятое в астрономии, буквально значит: «Серебряная река».
Хитомаро применил иероглифы... — В знаменитой антологии VIII в. «Манъёсю» китайские иероглифы были использованы преимущественно по их звучаншо (измененному согласно фонетике японского языка), то есть как фонетические буквы, без учета их значения. Этот вид письма именуется манъё-гана. Впоследствии на основе такого употребления японцы, упростив ряд иероглифических знаков, создали свою фонетическую азбуку. А о другой стороны, впоследствии сами иероглифы стали употреблять по их значению, для чего с иероглифом связывалось понятное японцам японское слово. Примером здесь взят знак «лодка», по-китайски «чжоу», что по-японски звучит «сю», однако японцы читают этот знак «фунэ», что значит «лодка» по-японски. (Здесь изложена только суть, употребление иероглифов в японской письменности несколько сложнее.) Соединяя иероглифы со своей фонетической азбукой, японцы создали национальный вид письменности.
678
...искусство каллиграфического письма. — Красиво писать кистью скорописные формы иероглифов в Китае и в Японии составляет особый вид графического искусства.
Нукай (770—835), Косэй (971—1027), Дофу (925—996), Сари (933-988)— знаменитые японские каллиграфы.
Ван Си-чжи — китайский каллиграф IV в. Чжу Суй-лян — китайский каллиграф VII в.
Лао-цзы — древний китайский философ, предположительно VI—V вв. до и. э., основатель «учения о дао», то есть о «Пути», развившегося в даосизм.
...к нам пришел из Индии царевич Сиддхарта. — Сиддхарта Гаутама, из рода Сакья, основатель буддизма (2-я половина VI в. до н. э.).
...будда Дайнити-нёрай. — Санскритское имя этого будды— Вайрочана. Японское название буквально значит: «будда великого Солнца», отчего и возможно отождествление с японской синтоистской богиней солнца Аматэ-расу, иначе Охирумэмути. Отождествление будд и бодисатв с синтоистскими богами большей частью считается победой буддизма, здесь же не без оснований рассматривается, наоборот, как преодоление буддизма.
Стр. 353. Синран (1173—1262) — основатель буддийской секты Дзёдо. Нитирэн (1222—1282) — основатель буддийской секты Нитиран. ...в тени цветов шореи. — Шорея (Shorearobusta), южное лиственное дерево, русского названия нет.
Даёгу-тайси — принц Сётоку-тайси (574—621), апостол буддизма в Японии.
,..в книгах с поперечными строчками, которые привезли с собой сыновья наших даймё с Кюсю. — Японское письмо — сверху вниз, то есть вертикальными строчками (строки располагаются справа налево). Поперечными строчками, — значит, речь идет о европейских книгах. (После второй мировой войны в Японии стали выходить и книги с европейским расположением шрифта.) В 1582 г. три даймё с Кюсю, принявших христианство, отправили в Рим к папе своих сыновей, вернувшихся в Японию в 1590 г.
Теперь он зовется Юривака. — Есть гипотеза, что японская легенда о Юривака, сложившаяся к концу XV в., имеет связь с героем Одиссеи Улиссом, чье имя по-японски звучит Юрисису («вака» значит «молодой»).
Стр. 354. ...грохот каменных огненных стрел с черных кораблей. — Каменные огненные стрелы — пушечные ядра; в 60-х годах XIX в. англо-французская эскадра обстреляла княжество на Кюсю. (Корабли Перри не вели обстрела, а только угрожающе навели пушки.) У руган — иска ж. порту г. Organtino.
679
ВАГОНЕТКА
Стр. 355. Кэн — мера длины, равная 1,8 м.
Стр. 357. ...эа спиной бил грудной ребенок. — В Японии, как и в Китае и в Корее, матери носят грудных детей, иногда даже до пятилетнего возраста, подвязанными на спине.
ПОВЕСТЬ ОБ ОТПЛАТЕ ЗА ДОБРО
Стр. 359. Росон Сукэдзаэмон — крупный купец из провинции Идзуми, разбогатевший на торговле с южными странами.
Рикю Кодзи — основатель одной из школ чайной церемонии. В 1591 г. навлек на себя немилость сегуна и по его приказанию покончил с собой.
Рэнга — форма стихотворений, распространенная в XIV — XVI вв. Умение писать стихи было широко распространено в среде горожан.
Омура — в средние века городок при замке дайме Омура, ныне город (в префектуре Нагасаки).
«Амакава-никки» — вымышленная книга.
Капитан Мальдонадо. — В те годы в порты Хёго и Нагасаки заходили голландские торговые суда. По-видимому, речь идет о капитане одного из таких судов.
Стр. 360. Маррика — Малайя. Сямуро — Сиам (Таиланд). Лусон — один из главных островов Филиппинского архипелага.
Стр. 363. Кан — старинная японская денежная единица, около десяти иен (по курсу в конце XIX в.).
Кампаку — высшее правительственное звание IX—XIX вв., канцлер, Здесь имеется в виду Тоётоми Хидэёсп.
Стр. 364. (фу су та» (португ. Fusta) — один из старинных типов кораблей для дальнего плавания.
Стр. 369. Сямуроя — торговый дом Окадзи Камбэя, крупного купца.
Кяра (Aquilavia agallosha) — тропическое дерево, русского названия нет.
...положив перед собой руки. — Стоя на коленях, положить прямо перед собой руки, рядом, ладонями вниз — поза и жест, выражающие смиренную просьбу. Есть даже устойчивое выражение «просить прощения, положив руки на землю» (тэ-о-цуйтэ аямару), что равносильно русскому «просить прощения на коленях».
Ри — мера длины, равная 3,927 км.
Стр. 370. То — мера объема, равная 18 л.
Удайдаин («министр правой руки») — одно из трех правительственных и придворных званий в VIII—XII вв.; как придворное звание сохранилось и позже.
...царя-льва из рассказа Эзопа. — Басни Эзопа были переведены на японский язык и изданы португальскими миссионерами латинским шрифтом в 1593 г., они пользовались большой популярностью.
680
СВЯТОЙ
Стр.375. Тацугоро Едоя — осакский богач-купец конца XVII в., известен был любовью к роскоши и самодурством. Растратил состояние на связи с куртизанками и был лишен права жить в Осака, Киото и Эдо (старинное название Токио). Прославился как персонаж многих пьес.
САД
Стр. 375. Лет десять после реставрации... — Словом «реставрация» переведено японское слово «иеин»—термин японской официальной истории, которым обозначается революция Мэйдзи 1867 г., нанесшая сильный удар японскому феодализму, способствовавшая переходу страны на капиталистические рельсы и широчайшему приобщению ее к европейской и американской культуре.
Революция Мэйдзи приняла своеобразную национальную форму: династия сегунов Токугава — феодальных сюзеренов, являвшихся с начала XVII в. фактическими правителями Японии (по их имени зги два с половиной века называются эпохой Токугава), была свергнута и во главе правления восстановлен император, который до 1867 г. был властителем только номинальным. После революции император переехал из старинной столицы Японии — Киото, где он жил почти как почетный пленник, в резиденцию сегунов — Эдо, тогда же переименованную в Токио.
Город Киото как столица умер. И, конечно, дороги — почтовые тракты, соединявшие его с Эдо и раньше являвшиеся важнейшими артериями страны, теряя это свое значение, стали глохнуть. Стал глохнуть даже знаменитый тракт Токайдо, увековеченный в прославленной серии цветных гравюр «Пятьдесят три вида Токайдо» Хивосигэ. И тем больше было запустение на параллельных боковых трактах, как, например, Накасандо, где расположена станция, о которой идет речь в рассказе «Сад».
Одна из последних памятных по своей пышности поездок по тракту Накасандо произошла за шесть лет до революции, в 1861 г. Сегуны, надеясь упрочить свое пошатнувшееся положение, старались установить компромисс с императорским лагерем путем брачных уз. И принцесса Кадзу, младшая сестра последнего до переворота императора Комэй, просватанная за предпоследнего сегуна Иэмоти, в 1861 г. проследовала на бракосочетание по тракту Накасандо из Киото в Эдо.
Процветанию и особой парадности ведущих в Эдо дорог способствовало одно установление сегуна Токугава — система обязательного периодического проживания в Эдо феодальных князей — даймё. Поездки даймё совершались по особому этикету, с огромной пышностью. Для остановки их в пути при станциях строились особые дома, отделанные с той привычной для даймё роскошью, которая в эпоху Токугава превзошла роскошь обедневшей ста-
681
ринной придворной аристократии — кугэ. При таком доме, конечно, aenpev меняо был и сад.
Эстетика классического японского сада в целом восходит к садовому искусству Китая IX—XII вв. Б основе ее лежит создание картины классических китайских пейзажистов. Живописность такого сада создавалась из четырех элементов: воды, рельефа местности, зеленых растений, архитектурного оформления. Вода должна была быть в виде пруда, причем классической его формой была овальная с перехватом. Пруд должен был быть так прозрачен, чтобы в нем отчетливо отражался островок с берегом, беседка и прибрежные ивы. Кроме того, устраивались стремительно сбегающие с гор пенящиеся потоки и водопады, в особенности ценилось, если сад был расположен на фоне горы, откуда такие естественные или искусственные водопады низвергались. Островок обычно создавался искусственно, в виде насыпанной горки с венчающей ее сосной или из тщательно и обдуманно нагроможденных камней. Искусственные горки бывали и на берегу. Из растений в классический средневековый сад входили только нецветущие кусты и деревья, из последних непременно вечнозеленая, причудливо изогнутая японская сосна. Цветов никаких не допускалось. Цветовая гамма, таким образом, была очень скупая и строгая, — темная зелень сосен, желтоватый песок, светлая вода, серые, поросшие мхом камни. На островке, если он был достаточно велик, или на берегу непременно стояла беседка, из которой можно было любоваться отражениями в прозрачной воде или белой пеной сбегающих с горы потоков. Беседка строилась в китайском вкусе и обычно носила название, заимствованное из образов китайской классической поэзии. Имели свое название и большие каменные фонари, причем часто оно было связано со стихотворением-танка, написанным специально в связи с этим фонарем.
Красота такого сада достигалась преимущественно изысканной и иногда даже символической гармонией линий, строго рассчитанным соотношением частей — куп деревьев, искривленных веток сосны, причудливых камней, светлой поверхности пруда. Конечно, такие сады требовали беспрестанного ухода, потому что выросший не на месте куст, сдвинувшийся в сторону камень — все могло нарушить эту условную гармонию линий.
К концу эпохи Токугава, и в особенности после переворота, классическая суровая простота этого сада стала видоизменяться под натиском эстетики другого рода. Первым нарушением его было вторжение в сад цветущих деревьев. Общеизвестно, что в Японии широчайшим образом распространена любовь к цветам, так что, например, цветение вишен — это почти общенародный праздник. Японцы специально ходят смотреть в парки на цветущие вишни, глицинии, хризантемы, и это даже получило особое название «ханами» — «любование цветами». Аналогично этому существуют как особые понятия «цукими» и «юкими» — «любование луной» и «любование снегом».
Все эти «любования» — столь же демократически широко распространенное бытовое явление, как и занятия стихосложением, к которому в той иди иной мере причастны японцы самых различных социальных слоев. Осо-
682
бенно широко распространено было в эпоху Токугава писание хокку — трехстиший (или хайку) и рэнга (так называемой поэзии хайкай). Рэнга — форма поэзии, расцвет которой падает на XIV—XV вв., но культивировавшаяся и позже. Представляет собой ряд самостоятельных своеобразно соединенных звеньев, а именно: звено состоит из стиха в три строки по 5—7—5 слогов с окончанием в две строки по 7 слогов, что вместе дает танка. К этому окончанию приписывается второе начало, к этому началу — свой конец. Таким образом, получается цепь танка, в которой каждое начало имеет два конца, а каждый конец — два начала. Эта цепь и называется рэнга. Рэнга часто писалась совместно, то есть каждый участник писал очередной стих. Вместе с тем первые три строки представляли собой и самостоятельную форму — хокку. Всеобщее увлечение стихами вызвало к жизни профессию странствующих учителей поэзии, которые, переходя из города в город, из деревни в деревню, учили своих клиентов правилам писания хокку, писали сами стихи на заданные темы, занимались совместным составлением стихов, главным образом рэнга, и за это получали плату или просто кров и пищу. Завзятые любители хайку брали себе специальный поэтический псевдоним. В рассказе «Сад» упоминается такой псевдоним — Бунсицу, что значит «Литературная келья». Учителя хайкай всегда были известны только под своим литературным псевдонимом. После переворота Мэйдзи такие, если можно сказать, «профессиональные любители» и «учителя поэзии» стали быстро исчезать.
Стр. 376. Принцесса Кадзу — сестра императора Комэй (1847—1867) и жена сегуна Иэмоти (1846—1866).
...грубый с виду старик инкё. — Инкё — название главы семьи после его юридического отречения от своих прав главы. В Японии, где понятие семьи, рода развито очень сильно, права главы семьи имеют большое бытовое и юридическое значение. Обычаи при достижении старческого возраста делаться «инке», то есть формально отказываться от своих прав и передавать их старшему сыну, распространен до сих пор. В японской семье с ее традиционным культом'сыновнего почитания «инкё» обычно пользуется глубоким уважением и доживает свои дни на покое.
Го —старинная японская игра типа шахмат, но более сложная.
...средний ушел зятем... — В Японии до сих пор, в особенности в дворянских и помещичьих кругах, в крестьянстве и купечестве, то есть всюду, где живо и юридически важно понятие семьи, рода, сохранился обычай при вымирании мужской линии брать мужа в дом жены. Такой муж порывает связь со своей семьей, принимает фамилию жены, и главой семьи со всеми вытекающими отсюда правами и бытовым положением считается не он, а его жена.
Кугэ — название аристократии, главным образом придворной, до 1867 г.
Фукудзава Юкити (1834—1901) — японский писатель и педагог.
Стр. 377... .украсилась свертками розовой и белой ваты. — Розовая и белая шелковая вата — один из традиционных свадебных подарков, который сна-
683
чала, согласно обычаю, красуется в комнате с подарками, а потом идет на разные хозяйственные надобности.
Стр. 378. Найсан — дословно «сестрица» — фамильярное обращение к девушке, обычно к кельнерше, прислуге в гостинице и т. п.
...с лубочных картинок Оцу. — В период Токугава, то есть в XVII — середине XIX в., это были картинки на буддийские темы, но после революции тематика их изменилась, они превратились в жанровые картинки лубочного характера.
Ойран — название одного из высших разрядов проституток.
Стр. 381. Момоварэ — прическа молодой элегантной девушки.
БАРЫШНЯ РОКУНОМИЯ
Сюжет новеллы заимствован из «Кондзяку моногатари», XIX, 5.
Стр. 381. Хёбунодайю — одно из низших придворных званий VIII— XII вв.
Стр. 382. Пуэрария — вид травянистой лианы.
Стр. 383. Сугороку — игра в кости с передвижными фишками.
Стр. 387. Ах, там огненная колесница/ — Огненная колесница, по буддийским представлениям, аксессуар одного из кругов ада — огненного ада.
Я вижу золотой лотос. — По буддийским представлениям, золотой лотос — аксессуар рая.
Стр. 388. «преподобный Найки», в миру Есисигэ Ясутанэ. — Есисигэ Ясутанэ (934—997) — человек знатного рода, занимавший высокий правительственный пост «дайнайки»; он постригся в монахи и известен своими буддийскими сочинениями. Упоминание его имени устанавливает время действия рассказа — последняя четверть X в. Это пора наивысшего расцвета хэйанской культуры и вместе с тем та пора, когда начали проявляться признаки постепенного падения господства родовой аристократии. Уход Есисигэ Ясутанэ из правительственного аппарата в ряды духовенства был одним из таких симптомов упадка аристократии.
Преподобный Куя (903—972) —один из крупнейших деятелей японского буддизма.
ЧИСТОТА О-ТОМИ
Стр. 388. «.Завтра на рассвете правительственные войска начнут военные действия против отряда сёгитай в монастыре Тиэйдзан...» — Речь идет о подавлении мятежа самураев, являвшихся сторонниками сегуна Кэйки, отрекшегося от власти в связи с революцией 1867 г. Мятежники образовали отряд, носивший название «сёгитай» («отряд справедливости»), и сконцентрировались в монастыре Канъэйдзи в районе Уэно (в Токио). Мятеж был подавлен правительственными войсками 15 мая 1868 г.
Аваби — морское ушко, съедобный моллюск, часто весьма больших размеров; раковину обычно сохраняют.
684
Восемь... Восемь без половины,. — По принятой тогда старенной системе счисления времени сутки делились на две половины — с полуночи до полудня и наоборот, а каждая половина — на шесть промежутков, счет которых начинался с девятого, а кончался четвертым. Дневные восемь часов соответствовали теперешним четырнадцати, восемь без половины — пятнадцати, семь — шестнадцати и т. д.
Стр. 390. Это ты, Синко? — Здесь Синко — фамильярное сокращение имени Синдзабуро.
Стр. 395. My раками Синдзабуро... Минамото-но Сигэмицу! — Первое из этих имен — обыкновенное, мещанское, под которым герой скрывался. Второе — его «настоящее» имя (вымышленное автором), говорящее о его старинном аристократическом происхождении.
Двадцать третий год Мвйдзи — 1890 г.
Маэда Масада, Тагути Укити, Сибусава Эйити, Цудзи Синдзи, Ока-кура Какудзо, Гэдзё Macao — имена реальных исторических лиц, деятелей революции 1867 г. и послереволюционных десятилетий.
О-ГИН
Стр. 396. Годы Гэнна — 1615—1624 гг.
Годы Канъэй — 1624—1644 гг.
Сан-Дзёан Батиста (искаж. португ. San Joan Baptista) — Иоанн Креститель.
Адзиро — способ плетенья, состоявший в том, что в соломенное плетенье вплетались наискось тонкие планки бамбука или кипарисовика. Употреблялось для плетней, а также для покрытия верха повозки.
Мало того, Сакья Муни при рождении убил свою мать. — Согласно легенде, через семь дней после родов мать Будды умерла.
Стр. 397. ...«преблагостная, великосердная, сладчайшая Дева Санта Мария-сама». — Из японской католической книги «Дотирина Кириситан» («Доктрина христианства»), гл. V. «Salve Virginia» (Полное название этой книги: «Nippono Jesus no Compania no superior yori Christian ni soro no cotovari no tagai no mondo no gotogu hidai uo vacachi tamo Doctrina», 1592).
...«умерший распятым на кресте, положенный в каменную гробницу»... — Из той же книги, гл. VI.
Сагурамэнто (искаж. португ. Sacramento) — крещение, здесь: причастие.
...«силою божественного слова хлеб и вино, не меняя своего вида, претворяются в тело и кровь Господни». — Из той же книги, гл. X, Натара (искаж. португ. natal) — рождество.
Стр. 398. Вакагими-сама — дословно: «молодой господин», старинное, очень почтительное обращение.
685
КУКЛЫ-ХИНА
Куклы-хина правильнее было бы называть статуэтками. Их единственным назначением было красоваться на полочках в день «праздника девочек» (после войны он был отменен). Весь остальной год они хранятся в коробках. Существует установленный набор этих хина: дайрибина — император и императрица; дзуйдзин — свита, нёбо — фрейлины; музыканты: певцы-декламаторы, флейтист, барабанщики с большим, малым и средним барабаном. Все они в старинных костюмах. В набор входили и предметы обстановки: фонари на стержневой подставке, ширмы, низенькие столовые столики, туалетное зеркало.
Стр. 401. ...Ки-но Куния. — Речь идет о крупном купце города Эдо (нынешнего Токио) Куния Будзаэмон (1672—1734).
Оби — широкий и длинный пояс, обматывающийся вокруг талии поверх кимоно. Мужские обн узкие, обычно темные. Женские же широкие, светлые и бывают очень нарядны — атласные, парчовые и т. п.
...со времени падения Бакуфу и общего краха. — Бакуфу — феодальное правительство, павшее при революции Мэйдзи. Под «общим крахом» здесь имеется в виду падение власти феодальных князей, а с ними и ссудных касс, которые либо они сами содержали, либо были чьими-либо клиентами.
...Касю-сама. — Имеется в виду дом Маэда, главы клана Kara (нынешняя префектура Исикава), одного из крупнейших кланов того времени, доход которого оценивался в миллион коку риса.
Рё — золотая монета времен средневековья, содержала около 37 г золота.
Инсю-сама. — Имеется в виду дом Икэда, главы клана Пнаба (префектура Тоттори), доход которого составлял 320 000 коку.
...тушечница из Акамагасэки. — Эта местность в префектуре Ямагути славилась изготовлением тушечниц.
Стр. 402. ...был просвещенным. — Слово «кайка»—«просвещение» пошло в ход после революции Мэйдзи в значении «европеизация», «приобщение к европейской культуре».
...справить конец года. — У японцев принято говорить не о «встрече нового года», а о проводах старого.
...с выведенными аолотом названиями. — Таблички с написанными золотом названиями, которые вывешивают над лекарствами; этот обычай тоже был заимствован из китайских аптек.
...незатухающий светильник. — Это светильник, устроенный так, что по мере выгорания масла оно автоматически подливалось из особого резервуарчика.
Стр. 403. ...двенадцать дзё. —В японском доме пол настилается толстыми циновками, размер которых стандартен и служит единицей измерения жилой площади. В одном дзё, как они именуются в этой функции, около 1,6 кв. м.
686
...чтение поперечных строчек. — См. прим. к с. 353.
Стр. 405. ...ходила в... храм Инари-сама и совершала стократный обход. — Инари — одно из синтоистских божеств. Обход храма по сто и более (до тысячи) раз — действие, совершаемое для умилостивления божества или по обету.
Стр. 407. ...он решил взятъ фамилию Токугава. — После революции Мэйд-зи предложено было всем гражданам приобрести фамилии, до революции фамилию, то есть родовое имя, имели только феодалы. Токугава — фамилия феодальных правителей Японии с начала XVII в. до революции.
...в Аидзуцубара и по улицам с каменными домами».. — Аидзуцу-бара — место, где теперь квартал Отэ-мати в районе Тиёда-ку и где до революции было поместье главы клана Аидзу, в 1872 г. после большого пожара представляло собой выгоревший пустырь, откуда и название (хара — пустое поле). Каменные (буквально: кирпичные) дома появились после этого пожара, образовав европейского типа улицы, в частности, улицу Гиндза.
Стр. 409. Хаси — палочки для еды, которыми пользуются, как щипчиками.
...чтобы... заболели холерой. — Такие заболевания в первое десятилетие Мэйдзи, то есть в 70-е годы XIX в., были часты, и в газеты помещалось об этом много материала.
ИЗ ЗАПИСОК ЯСУКИТИ
Стр. 411. Токи Дзэнмаро (род. в 1885 г.) — поэт.
Сакэ «Масамунэ» — один из лучших сортов сакэ, названный так еще в IX в.
Стр. 412. ...Исав ради печеного мяса отказался от права первородства. — Речь идет об эпизоде из Ветхого завета, где говорится о том, что Исав отказался от первородства за чечевичную похлебку (кн. I, гл. 25).
Стр. 414. ...между подокарпов и торрей. — Подокарп — Podocarpua macrophyllus D., торрея — Тоггеуа nicifera Sieb. et Zucc, то и другое вечнозеленые тропические деревья, русских названий нет.
Стр. 415. ...Ясукити думал, что ящерица-ламаркианка больше, чем сам Ламарк. — Ламарк (1744—1829) — естествоиспытатель, создатель теории эволюции, предшественник Ч. Дарвина.
ПОКЛОН
Стр. 429. Жан Ришпен (1849—1926) — французский поэт, прозаик, драматург.
Сара Бернар (1845—1923) — знаменитая французская актриса.
687
А-БА-БА-БА-БА
Стр. 431. «Жинсэн-сайда» — сорт сидра.
Стр. 432. ...девушка во вкусе «Кэнъюся». — «Кэнъюся» — содружество молодых писателей 80-х годов, сыгравшее большую роль в развитии новой литературы. Далее приводятся детали, касающиеся быта и культуры тех лет.
«Сверстники)) — роман писательницы Хигути Итиё (1872—1896).
Стр. 434. Де Хуг (род. ок. 1629 г. — ум. после 1677 г.)— голландский художник школы Рембрандта.
Спарго Джон (1876—?) — английский социалист, эмигрировавший в Америку.
КОМ ЗЕМЛИ
Стр. 438. Варадзи — соломенная обувь типа сандалий, преимущественно носится в деревне.
Стр. 443. Тан — мера площади, равная 9,92 ар.
Те — мера площади, равная 99,2 ар.
Стр. 444. Доё — народный «памятный день», повторяющийся четыре раза в год — за восемнадцать дней до начала наступления нового времени года. Однако обычно под Доё имеется в виду «летнее», приходящееся на 20 августа.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОСТРОВ
Стр. 445. Хогарт Уильям (1697—1764) — знаменитый английский художник.
Стр. 446. Sussanrap — перевернутое Parnassus, Парнас.
..в стиле secession — англ. secessionism, стиль искусства, распространенный в конце XIX в.
Стр. 447. Сато Харуо (1892—1964) — писатель, приятель Акутагава.
Стр. 451. Котацу — очаг, устраиваемый в углублении пола, возле него греются, покрыв ноги одеялом.
ПОКАЗАНИЯ ДЕВИЦЫ ИТО
Стр. 451. Сюрин (1564—1600) — дочь Акэти Мицухндэ, прозванного полководцем Корэто. Приняла христианство в то время, когда уже вышел указ о его запрете. Будучи окружена войсками мятежников, покончила жизнь самоубийством.
Эттю — одна из центральных провинций.
...в пятом году эры Кэйтё. — Эра Кэйтё — 1596—1615 гг., пятый год — 1600 г. В этом году в октябре произошла историческая битва при Сэкигахара,
688
в которой Токугава Иэясу одержал победу над группировкой Исида Дзи-бусё (МицунОрп), установив двухсотпятидесятилетнее господство сегунов династии Токугава.
Стр. 455. Принцесса Татибана — персонаж японской мифологии, жена мифического принца Ямато-такэру. Во время его похода на восток море разбушевалось, и, чтобы утихомирить гневающегося бога моря, она бросилась в воду.
Стр. 458. ...с самим Хидэёси в битве при Ямадзаки. — В этой битве в 1572 г. Тоётоми Хидэёси одержал победу над Ода Нобунага, чьим приверженцем был полководец Корэто — отец Сюрин, впоследствии, однако, возмутившийся против него и его убивший.
...сослужить госпоже службу «посредника». — При традиционном способе самоубийства — харакири, то есть разрезании живота, «посредник» отрубал голову совершившему харакири, чем прекращал его мучения.
...сам совершит «харакири вслед». — Вслед за харакири господина или госпожи должен был совершить харакири ближайший слуга.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ САНЭМОНА
Стр. 459. ...на четвертом году Бунсэй. — Годы Бунсэй — 1818—1830 гг., четвертый год — 1821 г.
Охранник. — Обязанность таких охранников (умамаварияку) состояла в том, чтобы охранять князя во время его поездок верхом. Поэтому они должны были искусно владеть мечом.
ЛЮБОВНЫЙ РОМАН
Стр. 467. «Современная любовь» профессора К у риягава. — Профессор Ку-риягава Тацуо (1880—1923) — автор получившей большую известность в те годы книги «Современная любовь» («Киндайно рэнъаирон»). Первая ее глава носит название «Love is best» — «Любовь выше всего».
Идзанаги и Идзанами — в синтоистской мифологии родоначальники всех божеств.
Стр. 468. Мимикакуси — модная в 10-х годах прическа, прикрывавшая уши.
Курисима Сумико — популярная в 20-х годах киноактриса.
...до великого землетрясения. — Имеется в виду катастрофическое землетрясение в Токио и пяти примыкающих префектурах, происшедшее 1 сентября 1923 г., во время которого в одном Токио погибло свыше семидесяти тысяч человек.
Стр. 469. Даниелъ Нотхафт — герой романа австрийского писателя Якоба Вассермана «Человечек с гусями» (1915), талантливый музыкант.
«Сильвию» Шуберта. — Видимо, имеется в виду песня «An Silvia» (1826) Шуберта, ор. 106, № 4.
Стр. 470. Асакуса — район Токио, известный огромным парком.
689
Стр. 471. .„движение в защиту конституции. — Так называются парламентские выступления в защиту конституции партий Кэнсэйкай и Кокуминто, имевшие место в 1923 г. и сопровождавшиеся призывами к свержению кабинета Киёура, опиравшегося только на верхнюю палату.
ОБРЫВОК ПИСЬМА
Стр. 476. Сюнъёкай — организация художников, пишущих в европейском стиле, образованная в 1922 г. и ежегодно устраивавшая в Токио выставку.
Стр. 477. Току томи Рока — японский писатель (1868—1927), расцвет славы которого падает на первое десятилетие XX в.
Арисима Такэо (1878—1923) — писатель, пользовавшийся большой известностью в последние годы жизни.
Крейслер Фриц (1875—1962) — скрипач, пользовавшийся мировой известностью.
Стр. 478. Торамару — знаменитый певец, специализировавшийся на жанре нанивабуси.
...будто видна башня храма Сайсёдзи. — Храм Сайсёдзи находится в Токио.
Девять колец — украшение из девяти бронзовых колец на шпиле башни храма Сайсёдзи.
Ёсано Акико (1877—1941) — выдающаяся поэтесса.
«Перевал Дайбосацу» — роман Накадзато Кайдзан, печатавшийся в 1912 г. в газете. Считается одним из первых образцов «массовой», то есть популярной художественной литературы.
Стр. 479. Курата Момодзо, Кикути Хироеи, Кумэ Macao, Мусякодзи Санэацу, Сатоми Тон, Сато Харуо, Есида Гэндзиро, Ногами Я ей. — Перечислены наиболее известные японские писатели 10-х и 20-х годов XX в.
Следуя примеру Кёдзна и Самба. — Санто Кёдэн и Сикитэй Самба — писатели XVII —XVIII вв., сами рекламировавшие свои произведения.
ЛОШАДИНЫЕ НОГИ
Стр. 489. Годи Гэпке — 1321—1324 гг.
Стр. 491. ...редактор иДзюнтэн ниппон», господин Мудагути. — Речь идет о японской газете, издававшейся в Китае, поэтому во главе ее стоял японец, и, говоря «наша страна», автор всюду имеет в виду Японию.
Стр. 493. Ока да Сандзабуро (1890—1954) — писатель.
Лейтенант Юаса — известный в те годы наездник.
690
У МОРЯ
Стр. 494. Дзабутон — плоская подушка, подкладываемая при сидении на полу.
«История восьми псовъ — роман крупного японского средневекового писателя Бакина (1767—1848).
Стр. 500. «Типеррэри» — распространенная после первой мировой войны песенка ирландских солдат.
ХУНАНЬСКИЙ ВЕЕР
Стр. 501. Хуан Син (1886—1925) — один из основателей партии Гоминьдан.
Цай Э (1873—1916) — видный китайский революционер, эмигрировал в Японию.
Суп Цзяо-жэнъ (1882—1913) — видный китайский революционер.
Цзэн Го-фанъ (1811—1872) — политический деятель.
Чжан Чжи-дун (1837—1909) — политический деятель.
Иида-еаси — канал в районе Бункё в Токио.
Стр. 504. ...когда воевали... Чжан Цзи-яо и Тань Янь-кай. — Чжан Цзи-яо — бывший военный начальник Хунани во время гражданской войны. Тань Янь-кай — участник революции 1911 г., принимал участие в борьбе против Юань Шн-кая. Вероятно, Акутагава здесь ошибся, поскольку эти военачальники никогда между собой не воевали.
Стр. 505. Юань — китайская денежная единица.
Цинская династия — династия, правившая Китаем с 1644 по 1911 г.
Стр. 508. Лаоцзю (китайск.) — китайская водка.
Стр. 509. Сэмбай (японск.) — японское печенье.
ДЕНЬ В КОНЦЕ ГОДА
Стр. 511. Тетка — старшая сестра матери Акутагава, фактически воспитавшая его.
Стр. 512. Украшавшие ворота ветки сосны и бамбука... — Ветками сосны и бамбука украшают ворота в канун Нового года.
Стр. 514. Нандины (Nandina domestica Thunb) — вечнозеленый декоративный кустарник, русского названия нет.
ПОМИНАЛЬНИК
Стр. 514. «Западный флигель» — пьеса Ван Шп-фу, одна из знаменитых китайских драм периода Юань (XIII—XIV вв.).
Стр. 515. Посмертная табличка — деревянная табличка на подставке;
691
на табличке тушью пишется посмертное имя покойного; аксессуар похорон, хранящийся затем у ближайших родных в домашней божнице.
Стр. 516. Посмертное имя — имя, которое дают покойному, согласно буддийскому ритуалу погребения.
Ее звали Хацуко, потому что они родилась первой. — «Хацуко» и значит «первый ребенок». Хаттян — ласкательная форма от Хацуко.
...детский сад мадам Саммаа в Цукидай — известный в первые десятилетия Мэйдзи (в 70-е, 80-е и 90-е годы XIX в.) частный детский сад и школа на английском языке, содержавшиеся женой английского пастора. Цукидэи — район Токио.
Двадцатые годы Мэйдзи — 80-е годы XIX в.
... обратилась к тетушке... — У Акутагава были две тетки со стороны матери. Старшая сестра — она жила в доме брата матери, то есть в доме приемных родителей Акутагава — и была фактически воспитательницей Акутагава, оказавшей на него известное влияние. Другая тетка — младшая сестра матери, вторая жена его отца.
Стр. 518. ...попал в больницу с инфлюэнцей. — Это было в 1919 г., когда по Европе и Азии прокатилась эпидемия так называемой испанки, унесшей миллионы жизней.
...меня окликнули: «А-сан!» — По первой букве имени с суффиксом «сан» гейши называют близко знакомых постоянных посетителей.
Стр. 519. Дзёсо — Дзёсо Утифудзи (1662—1704), поэт, писавший в жанре хайкай. Приведенное стихотворение носит заглавие «Придя на могилу Басе, думаю о своей болезни».
ИЗ «СЛОВ ПИГМЕЯ»
ЭТИКА
Стр. 522. Левостороннее движение — принято в Японии, как и в Англии.
,..мораль никогда еще не была источником того, что по совести считают добром. — В оригинале использована этимология слова «рёсин»— «совесть», куда входит понятие «ре»— «добро». Буквально последняя фраза значит: «...мораль... не создала знака рё в слове рёсин».
ТВОРЧЕСТВО
Стр. 523. ...обыкновение «одного удара и трех поклонов». — При ваянии фигуры будды каждый сделанный штрих сопровождался тремя поклонами будде.
«Лунъши» — китайский трактат о поэзии.
692
СКАНДАЛ
Стр. 525. Белый Лотос — сценическое имя известной невицы Акико, младшей дочери графа Янагивара. Она, бросив мужа, владельца крупных шахт в Фукуока, сбежала с молодым человеком, о чем много писали в газетах в октябре 1921 г.
Арисима Такэо 9 июня 1923 г. покончил с собой вместе с возлюбленной Намита Наоки на даче в Каруидзава.
Мусякодзи Санэацу в 1922 г. развелся с женой и поселился с другой женщиной.
МЕЛОЧИ
Стр. 526. ...Лягушка, прыгнувшая в старый пруд... — Образ заимствован из хокку знаменитого поэта Басе: «Старый пруд. Прыгнула лягушка «-всплеск воды»,
КАИБАРА ЭККЭН
Стр. 527. Каибара Эккэн (1630—1714) — выдающийся японский мыслитель, литератор, естественник.
СЧАСТЬЕ ХУДОЖНИКА
Стр. 530. Куникида Доппо (1871—1908) — писатель, приобрел известность на тридцать пятом году жизни.
ИСКУССТВО
Стр. 531. Ван, Шан-чжэн (1526—1590) — китайский теоретик искусства. Дунъхуан — место расположения знаменитых буддийских пещерных храмов.
Икан и сокутай — виды старинной придворной одежды.
О ТОМ ЖЕ
Стр. 531. Тосю Сяраку — мастер цветной гравюры по дереву начала XIX в.
...в стиле Корина. — Корин — крупнейший японский художник декоративного стиля (1658—1716).
О ТОМ ЖЕ
Стр. 531. ...сэр Рутерфорд Элькок, подвергшийся в храме Тодзэндэи нападению ронинов... — В период революции Мэйдзи в этом храме, в районе Сиба в Токио, временно помещалось английское посольство. Сэр Рутерфорд Элькок
693
в 1859 г. был английским генеральным консулом, и за его энергичный протест против нечестной торговли с иностранцами консульство подверглось нападению, не причинившему, однако, ущерба.
ТАЛАНТ
Стр. 532. фч.половину стари составляют девяносто девять ри. — Японская поговорка (основанная на цитате из китайского древнего памятника «Планы сражающихся царств») говорит: «Для проходящего сто ри половина пути — девяносто ри», то есть самое трудное — последний шаг, завершение дела.
ЯПОНЦЫ
Стр. 533. ...будто Сарутахико-но микото употреблял косметику. — Сарутахико-но микото — один из синтоистских богов, отличавшийся безобразием.
ЯПОНСКИЕ ПИРАТЫ
Стр. 533. Японские пираты поковали... — Имеются в виду японские пираты XIII—XVI вв., действовавшие по всему Тихоокеанскому побережью Азии от берегов Кореи до берегов Индокитая.
«Остров волота». — Так назвал Японию Марко Поло.
ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Стр. 535. Тёгю Такаяма (1871—1902) — японский литературный критик.
СМЕРТЬ
Стр. 538. Майнлендер очень правильно описывает... — Филипп Майнлен-'Яер (1841—1876), немецкий философ.
НЕКИЙ САТАНИСТ
Стр. 539. Сатанист. — Под влиянием «Цветов зла» Бодлера в 20-х годах среди некоторых японских буржуазных писателей получили распространение настроения, именовавшиеся сатанизмом. Представителем их считался Танид-эаки Дзюнъитвро.
НАРОД
Стр. 539. ...иЛи Тай-бо. и Тикамацу Мондааэмон погибнут. — Ли Тай-бо (701—762) — крупнейший китайский поэт, Тикамацу Моидзаэмон (1653— 1724)— крупнейший японский драматург.
«Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет» — японская поговорка.
694
О ТОМ ЖЕ
Стр. 540, Первый день первого года Сева — 26 декабря 1925 г.
ИЗ ЗАМЕТОК «ТЁКОДО»
ГЕНЕРАЛ
Стр. 540. Клановые кредитки — кредитные билеты, выпускавшиеся в XVII—XVIII вв. в кланах и имевшие хождение только в пределах того клана, который их выпустил.
НИЧЕГО НЕ ОТБРАСЫВАТЬ
Стр. 541. У неё (1827—1909) — буддийский монах секты Сингон. После периода гонений на буддизм сделал много для его восстановления и укрепления секты Сингон. Построенный при нем храм получил впоследствии название Унсёдзи.
ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
Стр. 541. Идзуми Сикибу —японская писательница начала XI в. Такова Изабелла у Мериме. Таков пират у Франса. — Изабелла — героиня драмы «Жакерия» Мериме. Пират — герой рассказа «Бальтазар» Франса.
ФАНАТИКИ, СТУПАЮЩИЕ ПО ОГНЮ
Стр. 542. «Проект закона о контроле над экстремистскими мыслями». — Правильное название: «Проект закона контроля над экстремистским общественным движением»; был выдвинут в феврале 1922 г. и принят в целях борьбы с рабочим движением и левой интеллигенцией. У нас в свое время был известен под названием «Закон об опасных мыслях».
ПРИЗНАНИЕ
Стр. 542. ...если бы я, как Исса, написал... — Исса — псевдоним крупного японского поэта Кобаяси (1763—1827).
«Тюо-корон» — самый крупный общественно-политический и литературный журнал тех лет.
«Исповедь глупца» — неточный перевод «Le plaidoyer d'un fou» («Защитительная речь безумца») — произведение шведского писателя Стриндберга, написанное им по-французски.
695
ЧАПЛИН
Стр. 542. Утверждают, в особенности утверждали во время великого землетрясения, будто из-за них произошли всякие беды. — Воспользовавшись паникой в связи с катастрофическим землетрясением 1923 г., власти обрушились тяжелыми репрессиями на деятелей рабочего движения.
КАПИТАН
Стр. 543. Сэйюкай — крупная буржуазная партия так называемых конституционалистов (1900—1940). В 1912—1927 гг. к власти пять раз приходил кабинет, целиком состоявший из членов этой партии.
КОШКА
Стр. 543 «Гэнкай» — первый фундаментальный японский толковый словарь (пять томов), составленный крупным лингвистом Оцуки Фумихико. (Вышел в 1875—1876 гг.)
БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ
Стр. 544. ...но прятать свои произведения на горе... — У Сыма Цяня, знаменитого древнекитайского историка, есть рассказ о человеке, который, боясь, что его сочинения исчезнут, положил их в каменный ящик и спрятал на горе.
В СТРАНЕ ВОДЯНЫХ
Каппа — мифическое существо, обитает под водой. Вада Сигэдзиро и некоторые другие литературоведы считают, что в этом рассказе много автобиографических элементов, в частности, в образе Токка в известной мере показан сам Акутагава (например, его эстетизм в молодости). Как он сам пишет в «Зубчатых колесах» (в конце главки «Красный свет»), «в одном из «сверхъестественных животных» я нарисовал самого себя».
Стр. 547. ...который называют «Мостом Капп» — аКаппабаси». — Такой мост над рекой Адзусагава действительно есть, славится красотой видов.
Стр. 549. аСуйко-коряку» — сочинение 1802 г. Кога Доана (1788—1847), где имеются описания и рисунки капп.
Стр. 550. ...около пятидесяти градусов по Фаренгейту — около пятнадцати градусов.
Стр. 561. Янагида Кунио (1875—1962) — крупнейший японский этнограф и языковед.
696
Стр. 574. Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский ученый, философ и теолог.
Стр. 575. Француз-художник. — Имеется в виду Гоген.
Стр. 577. Ты знаешь имя этого поэта? — Имеется в виду великий японский поэт Басе.
ТРИ ОКНА
Стр. 595. Кимура Сигэнари — вассал Тоётоми Хидэёси, в 1615 г. погиб в бою. О нем сложены легенды.
Стр. 596. В твоих глазах, смотрящих на меня... — Стихотворение из средневекового сборника «Дзэнрин-кусю». Эти стихи были помещены на обложке первого сборника новелл Акутагава.
Стр. 597. ...палуба все больше коробится... — Некоторые литературоведы полагают, что в этой главе подразумеваются под броненосцем ** сам Акутагава, а под броненосцем*** — приятель Акутагава, писатель Уно Кодзи, который незадолго до написания этого рассказа заболел психическим расстройством. Как известно, Акутагава сам жил в это время под страхом наследственной психической болезни.
ЗУБЧАТЫЕ КОЛЕСА
Стр. 598. Юяко-домбури» — название блюда: вареный рис с куриным мясом и яичницей-глазуньей.
Стр. 599. Каруидзава — фешенебельный горный курорт.
...«модан»... или как их там. — Господин Т. хочет сказать: «модан гару», английское «modern girl» — «модная девица». Так называли в конце 20-х годов японок, одевавшихся подчеркнуто по-европейски, стриженых, посещавших дансинги и рестораны.
Стр. 600. ...перешел на сочинения китайских классиков. — Имеются в виду так называемые Пятикнижие и Четверокнижие — собрание книг, по традиции считающихся памятниками древнейшей литературы, или же книги известных китайских мудрецов древности, как, например, «Чунь-цю» (летопись княжества Лу), которые приписываются Конфуцию. Согласно конфуцианской традиции, все эти книги излагают морально-политическое учение, восходящее к мифическим императорам-мудрецам Яо и Шуню.
Цилинъ и фынхуан — образы мифологических животных, встречающихся в древнейшей китайской поэзии и трактуемые в конфуцианстве как символы.
Стр. 602. ...царя из греческой мифологии, обутого в одну сандалию. — По-видимому, имеется в виду Ликург (тезка знаменитого законодателя), мифический царь эдонян во Фракии, противник культа Диониса. За святотатственные действия против Диониса Зевс покарал его безумием. О том, что Ли-
697
кург был обут на одну ногу, говорит древнегреческая эпиграмма неизвестного автора: «Этот владыка эдонян, на правую ногу обутый, — дикий фракиец, Ллкург...»
Стр. 603. ...души, превращенные в деревья в Дантовом аду. — Имеется в виду «Божественная Комедия» Данте, кн. I, Ад, песнь 13.
Стр. 605. «Горная келья». — Так назывался домик Нацумэ. У японских писателей принято, по обычаю старых китайских поэтов, давать своему жи-лшцу название, обычно заимствованное из образов классической поэзии.
Стр. 606. ...книжного магазина «Мару дзэн». —Марудзэн — крупный книжный магазин в Токио, в частности, имевший отдел новейшей иностранной книги, помещавшийся на третьем этаже.
Стр. 607. ...юноша из рассказа Хань Фэй-цзы... — Хань Фэй-цзы — древний китайский философ. Рассказ, который Акутагава вспоминает, впервые встречается у китайского философа и поэта Чжуан-цзы (IV в. дон. э,), глава «Цюшуй».
...рассказ об искусстве сдирать кожу с дракона... — Этот рассказ тоже впервые встречается у Чжуан-цзы, глава «Шоу-цянь». Сдирание шкуры с дракона — символ бесполезного искусства.
Стр. 608. Суйко — полумифическая японская императрица. Период Суй-ко — 593—628 гг.
...вспомнил медную статую перед дворцом. — Имеется в виду статуя перед императорским дворцом в Токио, изображающая Кусуноки Масаспгэ, одного из феодалов середины XIV в., выставляемого монархической пропагандой как образец беззаветной преданности императору и пламенного патриотизма.
Стр. 609. «Путь в темную ночь» («Анъя коро», 1921—1922) — роман крупного писателя Сига Наоя, который дает типичное изображение жизненных разочарований и глубокого пессимизма молодого японского интеллигента.
Стр. 611. ...памятник Сю Сюнсую. — Сю Сюнсуй (в японском произношении) — китайский ученый XVI в. Чжу Шунь-шуй, эмигрировавший в Японию.
Стр. 615. Я сейчас же вспомнил древнего грека... — Имеется в виду известный греческий миф о Дедале и Икаре.
...невольно вспомнил Ореста, преследуемого духами мщения. — Орест, по греческой мифологии, — убийца своей матери Клитемнестры и ее второго мужа, за что его преследовали духи мщения — эринии.
Стр. 616. «Красный свет» («Сякко») — сборник пятистиший-танка выдающегося поэта Сапто Мокити (1882—1953) вышел в 1913 г.
Стр. 617. ...населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. — Речь идет о повести «В стране водяных».
Стр. 618. «Вхожу в чертог радостных птиц». — «Радостные птицы» — метафорическое название сорок. Выражение, данное в кавычках, использует эту игру слов.
698
Стр. 619. Бато-Кандаэон — один из образов Канноп, буддийской богини милосердия, у которой над головой изображается еще и лошадиная голова. Считается, вопреки обычной своей роли, богиней гнева.
ДИАЛОГ ВО ТЬМЕ
Стр. 622. Мадам Штейн — Шарлотта фон Штейн (1742—1827), возлюбленная Гете.
Мой высший гонорар — десять иен за страницу. — В Японии литературный гонорар исчисляется по страницам стандартного формата с определенным числом знаков — четыреста. Сто японских печатных знаков в переводе на русский дают двести пятьдесят — триста русских, таким образом, гонорар Акутагава в переводе на наше счисление составлял около четырехсот иен за авторский лист. Однако надо помнить, что в 20-е годы иена почти равнялась доллару, тогда как при послевоенной инфляции доллару стали соответствовать не менее, а чаще более трехсот иен.
Все мое состояние... — В предсмертном письме Акутагава точно определил свое имущественное положение: «После моей смерти моя семья принуждена будет существовать на мое наследство. Мое наследство — сто цубо (то есть 330 кв. м) земли, мой домик, мое авторское право и сбережения в сумме двух тысяч иен».
Стр. 623. ...хрестоматия новой литературы. — Акутагава составил пятитомную хрестоматию для внеклассного чтения учеников средней школы, куда вошло около полутораста образцов новой японской литературы. Хрестоматия («Киндай Нихон бунгэй токухон») была издана в 1925 г.
Стр. 624. ...письма Гогена. — Гоген, знаменитый французский художник (1848—1903), уехал на остров Таити, оставив во Франции свою семью. Акутагава имеет в виду его письма об этой разлуке.
Стр. 625. ...ангел, который на варе мира боролся с Иаковом. — Имеется в виду эпизод из Ветхого завета, кн. I, гл. XXII, стих 24—26.
Стр. 628. ...мы утратили дух середины, то, чему учил нас мудрец Древнего Китая... — По-видимому, имеется в виду одна из книг конфуцианского Четверокнижия — «Чжун-юн», где излагается учение о том, что в действиях и отношениях не должно быть ни недостаточности, ни избыточности.
ЖИЗНЬ ИДИОТА
Перед смертью Акутагава оставил это произведение своему другу, писателю Кумэ Macao, с нижеследующим письмом.
«Следует ли публиковать эту рукопись — это уж разумеется, а также когда и где, — во всем этом я полагаюсь на тебя.
Ты знаешь большинство лиц, фигурирующих на этих страницах. Но хотя я готов к опубликованию этой вещи, я не хочу, чтобы к ней был приложен указатель.
699
Я сейчас живу в самом несчастном счастье. Но, как ни странно, не раскаиваюсь. Я только глубоко жалею тех, у кого такой дурной муж, дурной сын, дурной родственник. Итак, прощай! В этой рукописи я не хотел, по крайней мере, сознательно, заниматься самооправданием/
Наконец, я поручаю эту рукопись именно тебе, потому что ты, видимо, знаешь меня лучше других (если только снять с меня кожу городского человека). Посмейся над степенью моего идиотизма в этой рукописи.
20 июня 1927 г.»
Стр. 635. Сумидагава — река, протекающая в Токио.
Стр. 636. ...из-под картины с изображением Пана. — В 1909 г. группа писателей, поэтов и художников Токио образовала Общество Пана; все они принадлежали к новым течениям литературы и искусства. Образ Пана служил символом свободной и полнокровной жизни. Общество просуществовало три года.
Стр. 637. ...голландец с обрезанным ухом. — Имеется в виду художник Ван-Гог. Помешавшись, он обрезал себе кончик уха.
Это ему нужно было для новеллы. — Имеется в виду новелла «Муки ада».
...он читал книгу учителя. — Речь идет о Нацумэ Сосэки.
Стр. 644. «Человек из Хокурику». — Хокурику — северная часть острова Хонсю. «Человек из Хокурику» («Косибито»)— цикл из двадцати пяти стихотворений.
Сугэгаса — плетеная шляпа, формой напоминающая зонтик или гриб.
Стр. 646. Divan. — «Западно-восточный диван» Гете — собрание стихотворений на мотивы различных образцов восточной поэзии, главным образом персидской и арабской.
Стр. 647. «Новая жизнь» («Синсэй», 1918) — роман Симадзаки Тосона, крупнейшего писателя, создателя японского буржуазного реалистического романа. Роман, отражая пору подъема буржуазии, проникнут оптимизмом.
Стр. 648. «Поэзия и правда» — название автобиографического сочинения Гете.
Один из его приятелей сошел с ума. — Речь идет о писателе Уно Кодзи.
Радигэ Раймон (1903—1923) — французский писатель.
Стр. 649. Кокто Жан (1892—1963) — французский писатель, вначале последователь символистов; затем кубист, позднее — сюрреалист. Уход в мистику постепенно привел его к католицизму.
Н. Фельдман
| А. Стругацкий. Три открытия Акутагава Рюноскэ | 5 |
| НОВЕЛЛЫ | |
| Ворота Расёмон. Перевод Н. Фельдман....... | 27 |
| Маска хёттоко. Перевод Л. Ермаковой.......... | 32 |
| Нос. Перевод А. Стругацкого.............. | 38 |
| Бататовая каша. Перевод А. Стругацкого......... | 43 |
| Обезьяна. Перевод Н. Фельдман............. | 58 |
| Носовой платок. Перевод Н. Фельдман.......... | 63 |
| Табак и дьявол. Перевод В. Сановича........... | 70 |
| Mensura Zoili. Перевод Н. Фельдман | 76 |
| Счастье. Перевод Н. Фельдман.............. | 80 |
| Показания Огата Рёсай. Перевод И. Львовой........ | 87 |
| Оиси Кураноскэ в один из своих дней. Перевод Н. Фельдман | 92 |
| Рассказ о том, как отвалилась голова. Перевод Н. Фельдман | 100 |
| Кэса и Морито. Перевод Н. Фельдман........... | 107 |
| Паутинка. Перевод В. Марковой............. | 114 |
| Муки ада. Перевод Н. Фельдман.............. | 117 |
| Убийство в век «Просвещения». Перевод Б. Раскина | 140 |
| Смерть христианина. Перевод А. Рябкина......... | 149 |
| Учитель Мори. Перевод Н. Фельдман........... | 158 |
| О себе в те годы. Перевод Б. Раскина.......... | 169 |
| Просвещенный супруг. Перевод Б. Раскина........ | 186 |
| Мандарины. Перевод Н. Фельдман............ | 202 |
| Трясина. Перевод В. Сановича.............. | 205 |
| Сомнение. Перевод Н. Фельдман............. | 207 |
| Дзюриано Китискэ. Перевод Н. Фельдман......... | 219 |
| Чудеса магии. Перевод В. Марковой........... | 221 |
701
| Лук. Перевод И. Головкина............... | 228 |
| Как верил Бисэй. Перевод Н. Фельдман.......... | 236 |
| Осень. Перевод Н. Фельдман............... | 237 |
| Мадонна в черном. Перевод И. Львовой.......... | 249 |
| Рассказ об одной мести. Перевод Н. Фельдман | 253 |
| Сусаноо-но-микото на склоне лет. Перевод И. Вардуля | 264 |
| Нанкинский Христос. Перевод Н. Фельдман........ | 275 |
| Ду Цзы-чунь. Перевод В. Марковой............ | 285 |
| Подкидыш. Перевод Н. Фельдман............. | 295 |
| Вальдшнеп. Перевод Н. Фельдман............ | 299 |
| Бог Агни. Перевод П. Головнина............. | 307 |
| Странная история. Перевод Н. Фельдман......... | 314 |
| Кончина праведника» Перевод И. Львовой......... | 319 |
| В чаще. Перевод Н. Фельдман.............. | 323 |
| Генерал. Перевод Н. Фельдман | 330 |
| Усмешка богов. Перевод Н. Фельдман........... | 346 |
| Вагонетка. Перевод Н. Фельдман............. | 354 |
| Повесть об отплате за добро. Перевод Н. Фельдман..... | 359 |
| Святой. Перевод Л. Лобачева............... | 372 |
| Сад. Перевод Н. Фельдман................ | 375 |
| Барышня Рокуномия. Перевод Н. Фельдман....... | 381 |
| Чистота о-Томи. Перевод Н. Фельдман | 388 |
| О-Гин. Перевод Н. Фельдман............... | 396 |
| Куклы-хина. Перевод Н. Фельдман | 401 |
| Из записок Ясукити. Перевод В. Гривнина | 410 |
| Снежок. Перевод Н, Фельдман | 419 |
| Поклон. Перевод А. Рябкина............... | 427 |
| А-ба-ба-ба-ба. Перевод Н. Фельдман | 430 |
| Ком земли. Перевод Н. Фельдман............. | 436 |
| Удивительный остров. Перевод И. Вардуля........ | 445 |
| Показания девицы Ито. Перевод И. Львовой........ | 451 |
| Преступление Санэмона. Перевод И. Львовой....... | 459 |
| Любовный роман. Перевод В. Гривнина.......... | 467 |
| Холод. Перевод Н, Фельдман | 472 |
| Обрывок письма. Перевод Н. Фельдман | 476 |
| Ранняя весна. Перевод Л. Ермаковой........... | 480 |
| Лошадиные ноги. Перевод Н. Фельдман.......... | 483 |
| У моря. Перевод В. Гривнина.............. | 494 |
| Хунаньский веер. Перевод Л. Лобачева.......... | 501 |
| День в конце года. Перевод В. Гривнина......... | 511 |
| Поминальник. Перевод Н. Фельдман........... | 514 |
| Некий социалист. Перевод Н. Фельдман.......... | 519 |
| Из «Слов пигмея». Перевод Н. Фельдман.......... | 520 |
| Из заметок «Тёкодо». Перевод Н. Фельдман........ | 540 |
702
| В стране водяных. Перевод А. Стругацкого........ | 545 |
| Зима. Перевод Л. Лобачева............. | 584 |
| Три окна. Перевод В. Гривнина............. | 590 |
| Зубчатые колеса. Перевод Н. Фельдман....... | 597 |
| Диалог во тьме. Перевод Н. Фельдман.......... | 621 |
| Сон. Перевод В. Гривнина................ | 628 |
| Жизнь идиота. Перевод Н. Фельдман........... | 634 |
| Примечания Н. Фельдман............ | 653 |
БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 129
Акутагава Рюноскэ
НОВЕЛЛЫ
*
|
Редакторы В. Санович и С. Чулков Оформление «Библиотеки»
Художественный редактор Ю. Коннов Технический редактор Л. Титова Корректоры Г. Цветкова Т. Кузина * Сдано в набор 18 X 1973г. Подписано в печать 19 II 1974 г. Бумага № 1. Формат 60×841/16. 44 печ. л. 41,05 усл. печ. л. 44,934 уч.-изд. л.-р 1 вкл. + 4 накидки-45,391 л. Тираж 303 000 экз. Заказ 784. Цена 2 р. 23 к. Издательство «Художественная литература» Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19 * Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Главполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28 |
———————
¯¯¯¯¯